Православный собеседник. 2013 г. Вып. 3(24)
Содержание
Приветственное слово гостям и участникам XII научно-практической конференции Богословие и светские науки: традиционные и новые взаимосвязи. Пленарное заседание. Литература Вопрос об участии Казани в борьбе за изгнание поляков из Москвы в 1612 г. Литература Подготовка и аттестация научно-богословских кадров в Казанской Духовной Академии в конце XIX – начале XX в.: Проблемы и достижения Литература Сокращения Секция православной филологии Преподавание церковнославянского языка: лексические трудности Литература Естественнонаучные изыскания в перероде «Богословия» Иоанна Дамаскина XVII в) Литература Идеографическое описание русской, украинской и польской религиозной лексики в современной теолингвистике Литература Перевод «Богословия» прп. Иоанна Дамаскина архиепископа Московского Амвросия (Зертис-Каменского): традиционное и индивидуальное в языке и стиле Литература Экстралингвистические аспекты перевода Богословия Иоанна Дамаскина кружком князя А.П. Курбского Литература Древнерусские письменные церковные памятники в исследованиях казанских историков языка Литература Корпус церковнославянских текстов в составе НКРЯ: результаты и перспективы 1. Корпус 2. Тексты и метатекстовая разметка 3. Орфография и кодировка 4. Грамматическая разметка 5. Вариативность 6. Перспективы Литература Религионимы со значением ‘весенний праздник’ в русском и польском языках Литература О некоторых случаях дисфункционального использования библейских крылатых слов в русском языке Литература К вопросу о втором южнославянском влиянии: стиль «плетения словес» и принципы расширения текста в памятниках поздней афонской редакции Источники Литература Проблемы преподавания церковно-греческого языка в условиях реформы духовного образования Литература Сингулярное речевое поведение в православной культуре Литература Секция православной психологии Взаимосвязь системного подхода в психотерапии с христианским мировоззрением Литература Психологическая зависимость от телевидения Введение Психологическая зависимость от телевидения Как бороться с телезависимостью Заключение Литература Детские суициды: попытка осмысления проблемы О духовно-мировоззренческом противостоянии Постмодернизация системы образования Психологические эффекты антропологического кризиса у детей О мотивах суицидов и основах детской жизнестойкости Выводы Секция богословия и философии Учение о словесном служении и жертве у Климента Александрийского 1. Учение Климента об уподоблении и служении 1.1. Взаимосвязь служения, уподобления и жертвоприношения Богу 1.2. Аспекты словесного служения 2. Учение Климента о жертвоприношениях гностика 2.1. Два вида жертв гностика 2.2. Человек как «словесная жертва» Богу 2.3. Царственное священство гностиков 3. Заключение
Приветственное слово гостям и участникам XII научно-практической конференции Богословие и светские науки: традиционные и новые взаимосвязи. Пленарное заседание.
Митрополит Анастасий (Меткин)
Вот уже 12 раз Казань становится местом, где учёные и богословы, объединяя свои усилия, ищут точки соприкосновения, новые взаимосвязи, а также пытаются дать свою оценку сложившимся, ставшим уже традиционными взаимосвязям и осмыслить их.
Поскольку я здесь представляю духовную семинарию, хотелось бы сказать несколько слов о богословии. Богословие в жизни христианина фундаментально, причём непреложное значение оно имеет в жизни абсолютно любого христианина. Это не приватизированная собственность узкого круга учёных-богословов, академиков или профессоров семинарий. Любой христианин в первую очередь ученик Христа, а значит ищущий Правды и Небесного Царства. Любой христианин стремится к Богу, является членом Церкви, а, следовательно, является хранителем Её Традиции – Священного Предания. По замечательному выражению святителя митрополита Филарета Московского, «Истинное и святое Предание – не только видимая и словесная передача учений, правил, постановлений, обрядов, но также и невидимое и действенное сообщение благодати и освящения» (Цит. по [1:178]). Каждый из верных христиан не может не стремиться к освящению, не может не жаждать благодати, и значит для всех нас богословие – неотъемлемая часть жизни. Жизнь наша протекает в условиях мира, лежащего во грехе, однако совершенным образом устраниться от него мы не можем, и значит наша задача – пытаться сохранить себя от его пагубных влияний и преобразить лучшую его часть. Так что же должно увлекать богослова в первую очередь? Конечно, Божественное Откровение. Стремление к вхождению в него не должно оставлять нас никогда. И вместе с тем всё то, что мы в Откровении получаем, неизменно должно находить своё выражение в нашей молитве, в таинственной жизни, в литургии. Это ещё один пункт, на который мне бы хотелось особо обратить внимание. Среди докладов, которые прозвучат сегодня и завтра в стенах нашей духовной школы, только один посвящён литургическому собранию. А литургический аспект должен быть важным в любом, пожалуй, богословии. Ведь именно литургия, по совершенно замечательному утверждению протопресвитера Александра Шмемана, делает Церковь тем, чем она есть, – Телом Христовым (см., напр., [2]). И значит, в конечном итоге все наши искания должны приводить нас к этому исполнению Церкви – к таинству таинств – Божественной Евхаристии.
В последнее время очень много приходится слышать о том, чем должен заниматься пастырь, каким должно быть служение христианина, вспоминается и социальное служение, и молодёжное, и множество прочих направлений, однако как никогда важно, чтобы среди всего прочего первоочередным должно стать для нас искание приобщения к Телу и Крови Христовым. Проверка богословских изысканий всегда должна осуществляться литургическим опытом, всё самое важное в нашей вере должно быть узаконено молитвой и опытом, переживанием священного. И коль скоро конференция проходит в стенах семинарии – места, где молодые люди готовятся стать священнослужителями и изучают богословие, хотелось бы обратить их внимание на то, что за множеством «богословий» (говорю это с определённой долей условности, ибо богословие одно, как одна и Истина) не терялось из вида богословие литургическое.
В эти дни прозвучит много докладов и сообщений, весьма разнообразных и интересных. Мне бы хотелось пожелать, чтобы все они нашли своего слушателя и все были полезны для назидания и исправления нашего, чтобы за множеством дискуссий и обсуждений не упустили мы Истину, познание Которой сделает нас свободными (Ин.8:32).
Нам предстоит два дня работы. В общей сложности к участию в конференции представлено более 80 докладов, которые распределены на секции: «Богословие и философия», «Церковная история», «Теолингвистика» и «Православие, психология и педагогика». Среди участников есть как наши давнишние друзья и коллеги из Москвы и Волгограда, Санкт-Петербурга, Украины и Армении, так и гости из новых учебных заведений и городов. Среди заявок, поданных к участию, есть и представители Дальневосточного федерального университета и Сибирского... Радует, что расширяется наша география и внимание к конференции уделяют коллеги не только из России, но и Украины.
Я призываю благословение Господне на труды всех, кто прибыл в стены нашей семинарии, и искренне желаю благословенных успехов на ниве научного и богословского поиска!
Литература
1. Флоровский Г., прот. Пути русского богословия. – М.: Институт русской цивилизации, 2003. 848 с.
2. Богословие и Богослужение // URL: http://typikon.ru/liturgic/orand-cr.htm (дата общения 01.11.2012)
Вопрос об участии Казани в борьбе за изгнание поляков из Москвы в 1612 г.
И.П. Ермолаев
Статья посвящена эпохе «смутного времени» в России и, в частности, народной борьбе в Поволжье. Отмечается особая роль патриарха Гермогена в борьбе против поляков.
Ключевые слова: «смутное время», Казань, патриарх Гермоген, польское вторжение.
I.P. Ermolaev
The question of Kazan participating in the struggle against Polish invasion in 1612.
The article is devoted to «smutnoe vremya» epoch in Russia and, in particular, people’s struggle in Povolzhsky region. The special role in the struggle belongs to patriarch Germogen.
Социально-политический кризис в России конца XVI – начала XVII веков, известный под названием «Смутное время», вылился в грандиозные события, часть которых непосредственно связана с историей Казанского края. Гражданская война, начавшаяся после смерти Лжедмитрия I (17 мая 1606 г.), захватила весь Поволжский край.
На территории современного Татарстана и смежных с ним районов социально-классовая борьба особенно ярко прослеживается с лета 1608 года. Это был период активных действий второго самозванца, когда страна чётко разделилась на две части – сторонников Москвы (царя Василия Шуйского) и приверженцев Тушина (Лжедмитрия II) и когда в новую стадию вступила гражданская война. В это время одним из центров народной борьбы в Поволжье становятся Горная (Свияжский и Чебоксарский уезды) и Луговая («Казанская») стороны. Правительственное войско царя Василия Шуйского, направленное ещё в предыдущем году (1607 г.) на подавление восстания в Низовом Поволжье, вынуждено было к концу 1608 г. перейти в Среднее Поволжье и «застряло» здесь вплоть до начала 1610 г.
К весне 1609 г. обстановка в крае резко обострилась. Казань была одной из опор правления Василия Шуйского. Это определило особенно глубокий накал социально-политической борьбы в крае. Восставшие против официальной власти сконцентрировали свои силы и готовились нанести удар по Свияжской крепости как одному из основных центров военной опоры московского правительства в Среднем Поволжье. Во главе отрядов восставших стояли князь Еналейко Шугуров, князь Бьюшейко Яникеев, князь Иванко Смиленев, дети боярские Федко Киреев, Якушко Глядков, Васька Ртищев, Семейка Кузминский. Как видим, здесь налицо совместное выступление русских людей с нерусскими народами.
Представители центральной (московской) власти в Казани воеводы Василий Петрович Морозов и Богдан Яковлевич Бельский, дьяки Никанор Шульгин и Семён Дичков были гарантами поддержки правительства Василия Шуйского. Положение изменилось после начала польской интервенции в Россию осенью 1609 г. и низложения царя Василия в июле следующего, 1610 года. Новое московское правительство – «седмочисленные» бояре (т. н. Семибоярщина) – вступило в переговоры с польским королём Сигизмундом, осаждавшим в это время с войском Смоленск, и призвало на московский престол его сына Владислава.
В момент избрания Боярской думой кандидатуры сына польского короля Владислава патриарх Гермоген (бывший казанский митрополит) был одним из немногих сопротивлявшихся выбору иноземного и неправославного (католика) королевича Владислава. Однако после смерти героя борьбы за восстановление единого Российского государства – племянника царя Василия Шуйского, Михаила Васильевича Скопина-Шуйского (23 апреля 1610 г.), последующего поражения московского войска (под командованием брата царя – Дмитрия Ивановича) в Клушинской битве (24 июня 1610 г.) и государственного переворота – низложения и насильного пострижения царя в монашество (17 июля 1610 г.) – социально-политическое положение Российского государства стало столь опасным, что Гермоген вынужден был согласиться с боярским правительством.
Действительно, положение было ужасно: крепость Смоленск осаждалась войском польского короля; часть польского войска под командованием гетмана Станислава Жолкевского стояла под Москвой, шведские отряды Делагарди начали оккупацию северных русских территорий, ослабленный, но не разбитый «тушинский вор» Лжедмитрий II вновь собирал силы под Калугой; в стране продолжала бушевать народная антифеодальная борьба.
Другими словами, обстановка в стране сложилась тяжёлая, положение правительства (Семибоярщины) было отчаянное, в господствующих кругах отсутствовало единство (даже в правительстве складывались противоборствующие политические группы). В этих грозных условиях Гермоген дал благословение боярам на приглашение на российский престол польского королевича при условии принятия предупредительных мер с целью обезопасить неприкосновенность православия.
Предварительный текст договора об условиях избрания русским царём Владислава был подписан через месяц после свержения Шуйского – 17 августа. Но подписан он был с польской стороны не королём, а гетманом Жолкевским (король Сигизмунд продолжал осаждать героически сопротивлявшийся Смоленск).
Через несколько дней, 27 августа, не дожидаясь подписи короля под договором, население Москвы было приведено к присяге (крестному целованию) на верность Владиславу, а ещё через месяц, 21 сентября, польский гарнизон был введён в российскую столицу, хотя, повторяю, окончательного договора с Сигизмундом, отцом Владислава, ещё не было достигнуто.
Началась фактическая оккупация Москвы поляками. С этого момента события «Смутного времени» приобретают характер борьбы за «национальную» независимость. В стране стали собираться силы для освобождения Москвы от поляков. В начале октября 1610 г. в городах Казанского края была получена окружная грамота архимандрита Троице-Сергиева монастыря Дионисия с призывом ко всем городам присоединиться к ратным людям для освобождения Москвы от поляков (готовилось т. н. Первое ополчение).
Между тем переговоры «Великого посольства» Семибоярщины с Сигизмундом в стане польского войска под Смоленском всё более заходили в тупик. Польский король, ссылаясь на молодость своего сына (ему в 1610 г. было 15 лет) и на сложность общественно-политической обстановки в России, высказывал сомнения в целесообразности отправки Владислава в Москву и всё увереннее, всё более твёрдо выражал намерение самому занять московский престол.
В этой ситуации мужественную позицию занял патриарх Гермоген. Он наотрез отказался идти на переговоры на новых, нарушающих положения договора от 17 августа, условиях, выдвинутых Сигизмундом, и обратился к народу с грамотой, призывающей поддержать национальное достоинство России. Он заявил, что силой своей патриаршей власти освободит русских людей от присяги, данной Владиславу, если тот не примет православия и если польские военные люди не покинут Москву. Мужественного старца (ему было около 80 лет) не смутили угрозы расправы с ним поляков и русских бояр-изменников, и он открыто стал говорить и писать в своих грамотах в другие города, что если Владислав не крестится и литовские люди не уйдут из Москвы, то «королевич не государь нам!». Агитация Гермогена сыграла большую роль.
Грамоты патриарха с призывом к всенародной борьбе против поляков были направлены во многие российские города: Новгород Великий, Казань, Псков, Нижний Новгород, Вологду, Ярославль и др. Гермоген стал идеологом разворачивающейся в стране с конца 1610 г. патриотической борьбы. Не сумев заставить замолчать Гермогена, поляки в мае следующего, 1611 года заключили его в темницу Чудова монастыря, где через девять месяцев [17 февраля 1612 г.] патриарх, непокорённый русский патриот, умер, как предполагают, от голода.
В Казани в этот период времени (конец 1610 – начало 1611 года) возникла сложная ситуация. Продолжающееся классовое противостояние было дополнено политической борьбой среди руководящей группы – воевод Бельского и Морозова и дьяков Шульгина и Дичкова [1].
Б.Я. Бельский в своё время был любимцем Ивана IV. После смерти Бориса Годунова (1605 г.) Бельский открыто признал в Лжедмитрии I сына Ивана IV и потому был «в милости» у самозванца, который дал ему титул боярина. С воцарением Василия Шуйского Бельский оказался в политическом изгнании, был удалён в Казань на воеводство, причём на вторую роль при молодом и недостаточно знатном В.П. Морозове (тот не имел глубоких родовых корней и в тот момент не был ещё боярином) [2].
Рядом с Бельским и Морозовым на руководящих должностях местного управления в Казани находились дьяки Шульгин и Дичков. О Дичкове известно очень немного, видимо, он был весьма посредственным или очень осторожным человеком. Шульгин же, напротив, показал себя деятельным, инициативным, властолюбивым авантюристом[3].
Вот между этими руководителями Казани и разгорелось политическое соперничество и личная борьба в начале 1611 г. Когда стало известно о действиях и насилиях поляков в Москве (эти сведения в январе 1611 года привёз дьяк Афанасий Евдокимов)[4], казанцы на призыв о единении и борьбе против польских захватчиков откликнулись совершенно неожиданно: «вся земля Казанского государства» целовала крест Дмитрию Ивановичу, т. е. Лжедмитрию II[5] (в Казани тогда ещё не знали о смерти этого самозванца в декабре предыдущего года).
Документы очень скупо передают накал страстей того времени, но позволяют утверждать, что это решение состоялось в Казани в результате острой борьбы, дошедшей до народного восстания. Мы не знаем о подробностях этих событий, нам не известны политические позиции каждого из представителей местной власти, но сам факт убийства воеводы Бельского и ряда других лиц в январе 1611 г. говорит о накале страстей[6]. (В ходе восстания, происшедшего в Казани в январе 1611 г., Б.Я. Бельский был самой яркой фигурой, но далеко не единственной жертвой кровавой расправы Н. Шульгина со своими политическими противниками. Известно, что в эти же дни был убит один из начальных ратных людей Фёдор Захарьев Люткин[7]. Трудно говорить о позиции В.П. Морозова во время этих событий. Скорее всего, она была двойственной. Он наверняка не поддерживал демагогических лозунгов Н. Шульгина, но не захотел открыто встать и на защиту позиции Бельского).
По-видимому, уже тогда у части феодальной верхушки казанского общества возникла идея образования отдельного государства на Средней Волге под эгидой защиты христианской идеологии, т. е. независимого от Москвы самостоятельного христианского государства, руководящую роль в политической жизни которого должна была играть группа средне-волжских феодалов русского происхождения. Это была политическая авантюра небольшой группы находящейся у власти феодальной верхушки, в которой в скором времени особенно выделилась фигура дьяка Никанора Шульгина.
Политические авантюристы решили использовать имя Лжедмитрия II, чтобы потом отказаться и от него, и от московского польского правительства, и от патриотической части российского общества, поднявшегося на борьбу за освобождение Москвы от польской оккупации.
Поэтому, по-видимому, казанские власти попытались ввести в заблуждение руководителей Первого ополчения, которое в это время начало формироваться. Они обещали выслать свои отряды для сбора ратных сил, но не сделали этого, ссылаясь на финансовые трудности. Бывшие в это время в Казани торговые люди сообщали, что «казанцы» (т. е. жители города и уезда) ничего не знали о сборе ратных людей и о призывах ко всем городам объединиться для освобождения Москвы. Эти данные наводят нас на мысль, что патриотические призывы были скрыты от народных масс города и уезда[8].
Согласиться с тем, что власти Казани не получали письма с этими призывами, мы не можем, ибо известны ответы руководителей Казани на эти письма, где они выражали своё согласие объединиться с другими городами. Так что приходится признать, что политика казанских властей в этот период времени была демагогической и предательской по отношению к народам края и России в целом[9].
Это было ясно современникам. К сожалению, всё это не очень чётко прослеживается в сохранившихся источниках, но намёки на сложное и противоречивое политическое положение в правительстве Казани читаются определённо. Так, призыв о присоединении к ополчению П.П. Ляпунова (так называемому Первому ополчению), с которым 19 марта обратилась в Казань Кострома, заканчивался словами, показывающими, что руководители этого ополчения поняли, видимо, сепаратистскую и двуличную линию поведения властей Казани: они обещают привлечь к ответственности руководство города после освобождения Москвы и изгнания интервентов: «А которые <...> меры сделаются, а вы только казанскою землёю не поможете, а православной вере будет попранье, и людем погибель и за то кому дати ответ Богу и самим вам чего ждати»[10]. Собственно, об этом же говорится и в одном из писем польского короля Сигизмунда III, датированном мартом 1611 г. и обращённом к марионеточному правительству московских бояр. «А про Астрохань, – писал польский король, – у вас слух есть, что изослався с Казанью и с ыными городы, которые подошли к Татарской стороне, хотят отложитца к перситцкому шаху»[11] (в этом же письме Сигизмунд сетовал на то, что «ныне Казань и Астрохань, и черемиса, и полевые [луговые] городы, и подбелские, и сибирские городы, и Пермь, и Вятка наших [т. е. польских] грамот ни в чём не слушают и доходов никаких к Москве не возят, и во многих городех и в селех сыну нашему королевичу [Владиславу] креста не целовали...»[12]). Хотя трудно судить, насколько справедливы эти слова, всё же нельзя не признать, что у Москвы были основания для беспокойства по поводу позиции казанских руководителей. Были они и у воевод земского ополчения.
Лишь после того как Казань посетило официальное посольство от имени ополчения, а вместе с тем приехали из полков ополчения казанцы (дети боярские Воин Левашов и Семён Пелепелицын), которые привезли грамоту, адресованную всякого чина людям «великого государства Казанского», обстановка начала изменяться. Но всё же и после этого более месяца ещё Казань выжидала, отмалчивалась. Здесь шла политическая борьба. Лишь в июне 1611 г. Морозов и дьяки Шульгин и Дичков сообщили о согласии казанцев «бытии со всею землёю в любви и в совете и в соединенье и против врагов, разорителей хрестьянские веры, полских и литовских людей»[13].
В конце июня «казанская рать» под командованием воеводы Морозова вышла в поход и прибыла в июле в стоящее под Москвой ополчение. В составе казанских ратных сил были «казанцы и свияженя, и казанских пригородов дворяне и дети боярские, и головы стрелецкие с приказами с стрелцами и служилые князи и мурзы и татаровя»[14] (В.Д. Димитриев вполне обоснованно высказал предположение о том, что ещё до подхода «казанской рати», в июне, к Первому ополчению присоединилась «чебоксарская рать», во главе которой находился воевода князь М.И. Солнцов-Засекин[15]). Но практически укрепить ополчение эти силы уже не могли. Усиливающиеся противоречия между разнородными социальными силами, составлявшими Первое ополчение, открытые разногласия между его руководителями (боярином Д.Т. Трубецким, думным дворянином П.П. Ляпуновым и казацким атаманом И. Заруцким) привели в конце июля к социально-политическому конфликту, закончившемуся убийством одного из руководителей и организаторов ополчения Ляпунова. Это, по существу, явилось началом распада этого ополчения.
После ухода из Казани воеводы Морозова с ратными служилыми людьми и стрелецкими отрядами в руководстве местного управления остались только дьяки (Шульгин и Дичков). Не было регулярных правительственных военных сил (стрельцов), отсутствовала и значительная часть наиболее патриотически настроенных русских и нерусских служилых людей. Ничто уже не мешало Никанору Шульгину проводить свою политическую линию.
Сохранилось письмо, с которым казанцы в конце августа – начале сентября 1611 г. обращаются к пермякам, о готовности продолжать борьбу за освобождение страны. Обращают на себя внимание нюансы, появившиеся в позициях казанцев. Они призывают «стоять» не только за «Московское государство», но и за «Казанское государство». Кроме того, пермякам сообщается о решении, принятом в Казани: «и дияков, и голов, и всяких приказных людей в городы не пущати и прежних не переменяти, бытии всем по-прежнему...» (Подчёркнуто нами. – И.Е.)[16] (т. е. призывается не вносить никаких изменений в состав нынешнего местного руководства после победы над поляками). Но пермяки, получившие это письмо из Казани 16 сентября, видимо, не поняли сепаратистских политических настроений в Казани. Они отвечали 18 сентября о полном своём согласии быть «в любви и в совете и в соединенье» «за православную христианскую веру»[17].
В это момент в позицию казанцев попытался вмешаться идеолог народной борьбы за национальную свободу патриарх Гермоген, находящийся с мая в тюремном заключении в стенах Чудова монастыря. Он в августе 1611 г. нашёл возможность направить в Нижний Новгород грамоту, в которой говорил: «Пишите в Казань к митрополиту Ефрему: пусть пошлёт в полки к боярам и к казацкому войску учительную грамоту, чтобы они, т. е. ополчение) стояли крепко за веру и не принимали Маринкина сына [сына Лжедмитрия II] на царство, – я не благословляю»[18].
Призывы Гермогена возымели своё действие. В сентябре 1611 г. начинается народное движение в Нижнем Новгороде, возглавленное земским старостой Кузьмой Мининым, а затем и князем Дмитрием Михайловичем Пожарским, которое привело вскоре к созданию Второго, или Всенародного, ополчения. Однако казанские руководители не спешили подать пример к единению. Правда, в апреле 1612 г. в состав Второго ополчения влилась «казанская рать» под командованием Морозова, находящаяся до этого под Москвой среди остатков Первого ополчения. Но это не являлось показателем политической линии тогдашнего реального казанского руководства, ибо Морозов практически не имел никаких политических контактов с казанскими дьяками уже в течение почти целого года[19] (В.П. Морозов вскоре вошёл в ближайший состав руководителей ополчения и с его именем обычно связывается участие в ополчении «казанских людей»).
Между тем в Казани в это время всё шире развёртывал свою деятельность дьяк Шульгин, стремящийся, возможно, сконцентрировать в своих руках всю власть в «Казанском государстве» и, по-видимому, даже обособиться от лозунгов, под которыми шла борьба Всенародного ополчения. В это время соратником Шульгина стал стряпчий Иван Биркин, направленный руководителями Второго ополчения в Казань для организации ратных сил. Он вступил в сговор с Шульгиным и в дальнейшем проводил единую с ним политику.
В Нижнем Новгороде Минин и Пожарский так и не дождались прихода казанских ратных людей, на которых, по-видимому, была большая надежда. Казанцы подошли к ополчению тогда, когда оно уже было в Ярославле (не ранее мая-июня 1612 г.). Но их приход мог только разочаровать руководителей Всенародного ополчения. Иван Биркин, приведший казанцев, ссылаясь на приказ Шульгина, покинул ратные силы ополчения. С ним ушли и многие казанские ратники. «Новый летописец, пытаясь как-то объяснить ситуацию, говорит по этому поводу: „Немногие же казанцы осташася: голова Лукьян Мясной, да с ним двадцать человек князей и мурз, да дворян тридцать человек, да голова стрелецкий Посник Неелов, да с ним сто человек стрельцов“»[20].
Отказ татарского головы с группой татарских феодалов поддержать авантюру Шульгина говорит о позиции местных феодальных кругов и их отрицательном отношении в это время к идее обособления Среднего Поволжья от центральной России. В то же время отказ 30-ти дворян и 100 стрельцов Казани последовать за Биркиным наглядно показывает, что и другие русские феодальные круги Казанского края также далеко не все пошли за политическими призывами Шульгина и его сторонника Биркина.
Таким образом, Казань, несмотря на призывы патриарха Гермогена и несомненно предпринимаемые действия митрополита Казанского и Свияжского Ефрема, который стал восприемником Гермогена на патриаршей кафедре, фактически не приняла серьёзного участия в освобождении Москвы от поляков[21] (Данная нами концепция политической роли Шульгина принимается не всеми отечественными историками. Так, В.Д. Димитриев не признает сепаратистских настроений Н. Шульгина, не видит в нём силы, фактически объективно противодействующей стремлению восстановить политическую и национальную целостность Российского государства. Критикуя тезис о политическом сепаратизме Шульгина, он утверждает, что в «действительности же в поведении Н. Шульгина,.. таких целей усмотреть невозможно»[22]. Признавая большую заслугу В.Д. Димитриева в изучении вопросов истории борьбы народов края против польской и шведской интервенции в начале XVII в., мы не можем согласиться с его трактовкой политических действий отдельных представителей местного управления в это время).
После избрания на царство Михаила Романова Шульгин пытался оправдаться перед царём и направил ему из Свияжска челобитную. Однако его под конвоем доставили в Москву. Затем он был отправлен в ссылку в Сибирь, где вскоре умер. Дальнейшая судьба Биркина неизвестна.
Подведём итоги. Казань, несомненно, сыграла значительную роль в годы социального и политического кризиса начала XVII в., но она заключалась не в участии в освобождении Москвы от поляков (в этом как раз она проявила себя не очень активно). Её роль заключалась в том, что было сохранено единство страны, и это было сделано не столько руками её русского населения, сколько её татарской частью. Мусульманское духовенство, татарские мурзы вместе со значительной частью русского населения отказались последовать за группой политических авантюристов русского происхождения, попытавшихся в то трудное для страны время отколоть Казанский край от России и провозгласить его независимость.
Литература
1. Загоскин Н.П. Казанский край в Смутное время. Казань, 1891. С. 80.
2. Ермолаев И.П. Среднее Поволжье во второй половине XVI–XVII вв. (Управление Казанским краем). Казань, 1982. С. 89–90.
3. Веселовский С.Б. Дьяки и подьячие XV–XVII вв. М., 1975. С. 151; Веселовский С.Б. Арзамасские поместные акты // Чтения в Обществе истории и древностей российских при Московском университете М., 1916. Кн. 1. С. 489–490 (№ 377).
4. Акты Археографической экспедиции. СПб., 1836. Т. 2. № 170/1. С. 293.
5. Там же. С. 292.
6. Полное собрание русских летописей. СПб., 1910. Т. 14. С. 105.
7. Акты юридические, или собрание форм старинного делопроизводства. М., 1838. № 166. С. 380
8. Акты Археографической экспедиции. Т. 2. № 188/II. С. 321.
9. Там же. № 179. С. 305.
10. Там же. № 188/II. С. 323.
11. Собрание государственных грамот и договоров, хранящихся в Государственной коллегии иностранных дел. М., 1813. Ч. 2. № 243. С. 521.
12. Там же. С. 521–522.
13. Акты Археографической экспедиции. Т. 2. № 188/I. С. 319.
14. Попов А.Н. Изборник славянских и русских сочинений и статей, внесённых в хронографы русской редакции. М., 1869. С. 352.
15. Димитриев В.Д. Участие населения Чувашии в борьбе против польской и шведской интервенции в начале XVII века // Труды Чувашского научно-исследовательского института при Совете министров Чувашской АССР. 1980. Вып. 105. С. 82.
16. ААЭ. Т. 2. № 197. С. 336.
17. Акты исторические. СПб., 1841. Т. 2. № 333. С. 399.
18. Макарий (Булгаков М.П.). История русской церкви. М.: Изд-во Спасо-Преобр. Валаам. мон-ря, 1996. Кн. 6 (т. 10). С. 104.
19. Димитриев В.Д. Участие населения Чувашии... С. 90.
20. ПСРЛ. Т. 14. С. 120.
21. Там же. С. 130.
22. Димитриев В.Д. Участие населения Чувашии. С. 71.
Подготовка и аттестация научно-богословских кадров в Казанской Духовной Академии в конце XIX – начале XX в.: Проблемы и достижения
Н.Ю. Сухова
Статья посвящена подготовке и аттестации научно-педагогических кадров в Казанской духовной академии (КазДА) в 1870–1910 гг. Автор выделяет основные вехи научной деятельности КазДА, выявляет основные проблемы, связанные с подготовкой и аттестацией учёных-богословов в конце XIX – начале XX в., и их преломление в деятельности КазДА; представляет историко-статистические результаты научной деятельности, позволяющие оценить её масштаб. В заключении выделены приоритетные направления научных исследований в КазДА, позволяющие ставить вопрос о сформировавшихся в академии научных школах.
Ключевые слова: Казанская Духовная Академия, богословская наука, научно-богословская аттестация.
N. Yu. Sukhova
Preparation and certification of scientists-theologians in the Kazan ecclesiastical academy at the end of XIX – the beginning of the XX century: problems and achievements
Article is devoted to preparation and certification of scientists and professors in the Kazan ecclesiastical academy (KazEA) in the 1870–1910-th. The author allocates the main milestones of scientific activity of KazEA, reveals the main problems connected with preparation and certification of scientists-theologians at the end of XIX – the beginning of the XX century, and their refraction in activity of KazEA; represents historical and statistical results of the scientific activity, allowing to estimate its scale. In the conclusion the priority directions of scientific researches in KazEA, allowing to raise a question of the schools of sciences created in academy are allocated.
Тема статьи может показаться чересчур формальной: что такое научная аттестация – лишь констатация научного результата, градация исследовательской зрелости? Поэтому основную часть доклада необходимо предварить кратким обоснованием. Научно-педагогическая аттестация является важным критерием развитости конкретной области науки, и богословие не является исключением. Представители дореволюционных духовных академий неоднократно замечали, что российская богословская наука разрабатывалась «главным образом в магистерских и докторских диссертациях» [1, ст. 43; 2, с. 717–718]. Конечно, с этим нельзя согласиться полностью: мы знаем отдельных богословов вне стен академий и выпускников академий, ревностно занимавшихся наукой, не представляя результатов на соискание учёных степеней. Однако действительно для большинства выпускников кандидатская диссертация оставалась главным научным трудом; для наиболее состоявшейся части таковым являлась магистерская диссертация; даже для зрелых учёных, каковыми являлись доктора, профессора, диссертации отражали главные направления их исследований. Поэтому историко-статистические результаты аттестации позволяют оценить общий масштаб научной деятельности высшей духовной школы.
Кроме того, процесс подготовки и аттестации учёных-богословов отражает очень важные черты духовного образования и богословской науки. Отзывы на диссертации, речи перед защитами диссертаций, отчёты о защитах и сопровождавшие их дискуссии являются ценными источниками для изучения процесса становления и развития научного богословия, позволяют выделить общие принципы, задачи и требования к научно-богословским исследованиям, выявить соотнесение в богословии фундаментальных и прикладных исследований, фактологически-описательных и научно-критических подходов, общенаучных, общегуманитарных и специальных научно-богословских методов.
Наконец, именно научная аттестация наиболее ярко выявляет принципиальные сложности, связанные с богословием как наукой.
Все эти вопросы приобретают особое значение в наши дни, когда духовные школы вброшены в новый реформационный процесс, они стремительно включаются в общее научно-образовательное пространство, как российское, так и международное. Научные задачи ставятся перед духовными школами с особой остротой, при этом важно не потерять понимание богословской специфики научных исследований, их место и значение в Церкви и неразрывную связь с литургической и духовной жизнью, а также не ущемить решение главной задачи духовной школы: подготовки пастырей.
Основная часть статьи построена следующим образом. В первой части указаны основные вехи научной деятельности КазДА. Так как история КазДА изложена дореволюционными профессорами академии П.В. Знаменским, И.С. Бердниковым, С.А. Терновским, К.В. Харламповичем и современным исследователем А.В. Журавским [3; 4; 5; 6; 7], в данной статье выделены только моменты, важные для научного процесса. Во второй части выявлены основные проблемы, связанные с подготовкой и аттестацией учёных-богословов в конце XIX – начале XX в., и их преломление в деятельности КазДА. В третьей части статьи представлены историко-статистические результаты научной деятельности КазДА, зафиксированные в докторских и магистерских диссертациях (1870–1918), позволяющие оценить общий масштаб научно-богословской деятельности академии.
1. Статья посвящена последним десятилетиям XIX в. и первым десятилетиям XX в., но для понимания проблем необходимо сделать небольшое историческое введение.
Казанская епархиальная школа с самого своего возникновения в 1723 г. была ориентирована, помимо решения основной и естественной задачи – подготовки духовенства, – на решение миссионерских задач. Однако дарование в 1797 г. Казанской школе статуса академии ввело её в «четверицу» академий (наряду со старыми Киевской и Московской и новой – Петербургской) и, соответственно, поставило перед необходимостью реализации общего духовно-академического эталона, в который неизбежно входила и учёная задача[8].
В конце XVIII в. этот вопрос решён не был, так как и вся так называемая «академическая реформа» осталась на бумаге. Однако со всей очевидностью «академический вопрос» встал в контексте радикальной реформы 1808–1814 гг., когда вся духовная школа была разделена на ступени, и высшая ступень – академии – должны были превратиться в особый тип научно-учебного заведения, со своими специальными задачами. В этом типе – вернее, в его теоретическом варианте – соединилось несколько идей, из которых выделим четыре важнейших: Академии наук духовных (то есть, не учебного, а научного заведения – альтернативы Академии наук и художеств, в которую богословие так и не было включено); духовного университета; духовного воспитания и профессиональной подготовки духовенства [9, с. 145–149]. Одновременная реализация всех этих идей представлялась очень непростым процессом, и старшие академии – СПбДА, МДА и КДА столкнулись с этой проблемой в первые же годы действия по правилам нового Устава.
КазДА была открыта по этим правилам позднее других академий, в 1842 г.[10], и ей сразу же пришлось встать перед ещё более сложной задачей: с одной стороны, она должна была полностью соответствовать всем замыслам о высшей духовной школе, со всей смысловой нагрузкой, прежде всего, «Академии наук духовных»; с другой стороны, исполнять своё предназначение миссионерского центра. При этом, так как миссия в XVIII в. понималась преимущественно практически, было совершенно непонятно, как сочетать развитие «духовной учёности» с миссионерской практикой, и к чему готовить студентов академии.
Так как первую корпорацию КазДА составили выпускники других академий, они могли учить тому, чему учили их, а в преподававшейся им системе богословия, как и во всём академическом курсе место миссионерских дисциплин предусмотрено не было [11, § 119–176. С. 922–927; 12]. Но уже в январе 1845 г. при содействии профессоров Казанского университета А.К. Казем-Бека и А.В. Попова в академии началось преподавание инородческих языков, хотя внештатно и фрагментарно [3, вып. 2, с. 328–329]. Тем не менее, студенты первых курсов духовных академий привыкли «прыгать выше головы», и даже при таком отрывочном преподавании первый выпуск дал замечательных миссионеров Н.И. Ильминского и А.А. Бобровникова, с именами которых во многом был связан первый этап миссионерской деятельности КазДА.
Церковная ответственность помогала и выпускникам академий, не связанным своим образованием с миссионерством, понимать специфику КазДА и реализовывать её в рамках духовной академии. Лучшим примером этого является архиепископ Казанский Григорий (Постников) (1848–1856) – выпускник I курса СПбДА. В академии он изучал богословие на латинском языке без какой-то миссионерской направленности, но почувствовав архипастырскую ответственность за решение задач Казанской епархии, стал инициатором учреждения в академии в 1854 г. специальных миссионерских отделений, а также исходатайствовал у Синода отправление в путешествие по Востоку Н.И. Ильминского – для подготовки к преподаванию в этих отделениях [3, вып. 2, с. 358–361]. При этом преосвященный Григорий был далёк от мысли превратить КазДА исключительно в миссионерскую: так, в программе периодического органа академии «Православного собеседника», учреждённого в 1855 г. также по инициативе преосвященного Григория, говорилось, что журнал будет «догматического, герменевтического, исторического, нравственного и критического» содержания. И первые же номера журнала показали, что редакция намерена сочетать переводы и оригинальные статьи по всем областям богословия с материалами миссионерской направленности.
Но всё-таки проблема сочетания миссионерской подготовки с понятием «духовной учёности» не была решена на системном уровне, что проявилось уже при ректорстве архимандрита Иоанна (Соколова) (1857–1864). Всячески способствуя развитию научного богословия в КазДА, повышению уровня «Православного собеседника», ректор высказал недовольство обширностью миссионерских курсов, и тем, что они мешают основному богословскому образованию [3, вып. 1, с. 161].
Но развитие «духовной учёности» не удалось во всей полноте и в других академиях, а к концу 1850-х – началу 1860-х гг. стали вообще возникать сомнения в возможности и полезности её развития в смысле эрудиции, многознания, богословского энциклопедизма. На смену понятию «учёности» пришло понятие «специальных исследований» в той или иной области богословия, и духовные академии стали критиковаться в отсутствии или, по крайней мере, слабой развитости таких исследований [13, с. 115–119]. Следующий Устав 1869 г. довольно серьёзно преобразовал академии, в том числе в учебном и научном направлении. Он строился под сильным влиянием европейской идеи «университета исследования», и его ключевыми понятиями были «исследование» и «специализация» [14, с. 23–24]. Преподаватели специализировались по кафедрам, студенты трёх младших курсов – по трём отделениям (богословскому, церковно-историческому, церковно-практическому), студенты выпускного курса – по специальным группам наук [15, § 110–122, 133–141. С. 552–553]. Наука стала главным делом учащих и учащихся, все призывались к специальным исследованиям в избранной области. Казалось бы, эти идеи должны были способствовать развитию миссионерского направления, которое давало плоды ещё до реформы: именно по миссионерским темам писалось больше всего серьёзных выпускных работ [16, с. 123–124]. Однако в обще-академическом Уставе, нацеленном на специальное развитие богословия, миссионерской специализации места не нашлось. КазДА удалось с большим трудом удержать противо-мусульманскую и противо-буддийскую кафедры, но на внештатном положении, на епархиальные деньги и с необязательным для студентов изучением [13, 247–248]. Этот Устав, введённый в КазДА в 1870 г., способствовал специальному развитию в духовных академиях всех областей богословия и сопряжённых наук, возвысил научный пафос. Но всё это имело и оборотные стороны, хотя и менее заметные, чем успехи. Во-первых, смещение акцента на научные занятия ослабило внимание к последним двум идеям, включённым в концепцию академии в начале XIX в.: духовное воспитание и подготовка священства. Достаточно сказать, что на протяжении всего периода действия Устава 1869 г. во всех академиях пастырское богословие преподавали миряне, а у большинства студентов заметно ослабла ревность к проповеди и другим элементам пастырской подготовки. И КазДА не была в этом исключением: так, даже пастырское богословие на протяжении почти всего периода действия Устава 1869 г. преподавалось лицом без священного сана А.В. Вадковским – правда, в марте 1883 г. он принял постриг и священный сан, а в будущем стал митрополитом Антонием (Вадковским). Во-вторых, сугубая специализация вскоре проявила себя фрагментаризацией мышления, неумением обобщать и определять место и значение конкретной исследуемой проблемы в системе научно-богословского знания [17, с. 519]. Но корпорация КазДА во главе с многолетним ректором протоиереем Александром Владимирским (1871–1895) мужественно старалась решать все эти проблемы.
Третий Устав духовных академий, утверждённый в 1884 г., был направлен на уврачевание этих недостатков: он возвратил все богословские дисциплины в общеобязательный курс, отменив и отделенскую специализацию, и особое устроение выпускного курса, усилил воспитательный аспект академической жизни [18, § 99–101, 113, 121, 132, 145–149. С. 238–239, 240, 241–242]. Однако многопредметность, возвратившаяся в высшее духовное образование, вызывала опасения с точки зрения научного развития, а воспитательные усилия нередко входили в противоречие с пониманием студенческой свободы, сформировавшимся на предыдущем этапе. Но для КазДА в этом Уставе была и положительная черта: наряду с двумя группами наук, предоставленных студентам для выбора – словесной и исторической, – вводилась третья, миссионерская. Она состояла из двух отделений – мусульманского – татарского и буддистского – калмыцкого и содержала, кроме соответствующих языков, также историю, этнографию и культуру соответствующих народов [18, § 102–103, 107. С. 239]. Развитию миссионерского направления, а также полемики со старообрядцами, к которой прилагал немало сил профессор академии Н.И. Ивановский, способствовал общий настрой этих лет: нацелить высшее духовное образование на решение церковно-практических проблем. Об этом говорили на казанском Архиерейском съезде 1885 г. – по общему мнению, самом удачном из всех съездов 1880-х гг., приведшем в воодушевление и архиереев, и профессоров, и обер-прокурора Святейшего Синода К.П. Победоносцева [19, s. 181–185; 20, 260–264].
Но оказалось, что одновременно развивать миссиологию в научном отношении и готовить миссионеров-практиков тоже довольно сложно. Поэтому в 1889 г. по ходатайству архиепископа Павла (Лебедева) при КазДА были учреждены двухлетние миссионерские курсы, отчасти взявшие на себя вторую задачу и тем самым открывшие перспективы более плодотворного развитие первой. На курсы принимались не только постоянные слушатели, но и проезжающие через Казань миссионеры-практики (которым разрешалось для этого задерживаться в Казани на более или менее продолжительный срок), а также священники инородческих приходов [21, с. 31–39]. И результаты этого развития свидетельствовали о разумности решения. Во-первых, на курсах при КазДА была подготовлена целая плеяда замечательных миссионеров-практиков, среди которых был, например, священномученик Дамаскин (Цедрик), «апостол Чукотки» Нестор (Анисимов) [22, с. 684; 23, с 12–26, 101–189]. Во-вторых, академии удалось стать научно-практическим миссионерским центром, исполняя замыслы о ней, как о «восточном научно-практическом оплоте церковной миссии». КазДА даже предложила другим академиям последовать её примеру – целенаправленно заняться миссионерством в своих регионах, распределив таким образом миссионерские направления между академиями: СПбДА, стоящей «ближе других академий к протестантскому западу Европы», выделить борьбу с вредным влиянием протестантских и рациональных идей и доктрин; МДА – защиту православия от «обрядовых расколов и духоборческих сект» всех родов; КДА – противостояние «религиозным мудрованиям» папизма и штундизма; за КазДА оставить борьбу с догматическими последователями исламизма [24, с. 464]. Наконец, разумное перераспределение задач позволило КазДА не уронить уровня в развитии других областей богословия, и в какой-то степени реализовать мечту Устава 1814 г. об Академии наук духовных.
Этот период развития КазДА характерен ещё одним явлением, важным для научной деятельности: созданием братства учёного монашества, члены которого старались сочетать самоотреченное служение Церкви богословской наукой и аскетическую иноческую жизнь под духовным руководством старца Гавриила (Зырянова) [25, с. 157–167]. Наиболее зримо это братство оформилось в период ректорства архимандрита (с 1897 г. епископа) Антония (Храповицкого) [26, с. 176191] и являлось в каком-то смысле исполнением мечты не только преосвященного Антония, но и делателей богословской науки предшествующих эпох: святителя Филарета (Дроздова), святителя Иннокентия (Борисова) и других.
Следует отметить и ещё одну важную черту научного развития КазДА: тесные научно-учебные контакты с Казанским университетом, которые были, вне всякого сомнения, взаимно полезными. Помощь университета выражалась в уже упомянутой «языковой» поддержке академии в 1840-гг., когда востоковедении в Казанском университете было уже достаточно развито, в привлечении университетских преподавателей – славистов, филологов – к преподаванию в КазДА в последующие годы. Была и обратная помощь: после перевода в 1854–1855 гг. «восточного разряда» из Казанского университета в Санкт-Петербург силами академических миссионерских отделений в Казани удалось сохранить востоковедение, а затем – в 1880-гг. – возродить его в университете, причём используя помощь выпускника и бывшего профессора КазДА Н.И. Ильминского [27, с. 31–86]. Начиная с 1860-гг. профессора и выпускники КазДА преподавали в университете не только богословие, но и церковную историю, и церковное право. Кроме того, некоторые церковно-исторические, церковно-правовые, миссионерские вопросы разрабатывались совместными усилиями преподавателей академии и университета[28].
Корпорация КазДА на протяжении всего исторического пути (1842–1918 гг.) активно участвовала в процессе совершенствования самой концепции высшей духовной школы. Так, в 1867–1869 и 1881–1884 гг., при разработке новых Уставов духовных академий Конференция и Совет КазДА представлял свои проекты, представители академии работали в комиссиях по выработке итоговых официальных проектов (в 1868 г. – Н.П. Соколов, в 1881–1882 гг. – И.С. Бердников) [29; 30; 31]. В начале XX в., когда в духовных академиях началась новая эпопея по обсуждению модели высшей школы, наиболее адекватно отвечающей задачам научно-богословского развития, КазДА также была в гуще событий. Преподавательская корпорация искренне желала создать условия для эффективного служения Церкви богословской наукой, хотя, конечно, на реализацию этого желания заметно влияла общая ситуация в России: борьба за «автономию» и увлечение профессоров церковно-политическими проблемами свидетельствовали об этом сложном смешении мотивов и идей. Тем не менее, итогом всех обсуждений было составление в 1917–1918 гг. проекта Нормального духовно-академического устава, в котором непосредственно участвовали ректор КазДА епископ Чистопольский Анатолий (Грисюк), инспектор архимандрит Гурий (Степанов), профессора академии протоиерей Николай Писарев, М.Н. Васильевский, В.А. Керенский, И.М. Покровский, П.Д. Лапин, Л.И. Писарев, а через них – и вся корпорация. Символично и то, что почётным председателем Отдела о духовных академиях на Соборе был архиепископ Казанский и Свияжский Иаков (Пятницкий) [32, л. 1–5]. И хотя составленный проект, нацеленный, прежде всего, на построение в академии научно-богословского образования и усиление исследовательского процесса, не мог быть реализован сразу после Священного Собора, он лёг в основу реформы духовного образования 1998–2003 гг., а многие его идеи актуальны и в условиях нового этапа развития духовного образования в России.
* * *
2. Проблемы, связанные с научно-богословскими исследованиями в КазДА, определялись двумя этапами:
1) воспитанием учёного;
2) проведением научного исследования и его оценкой.
На обоих этапах встречались, с одной стороны, проблемы, характерные для любой области науки, с другой стороны, проблемы, обусловленные спецификой высшей духовной школы и богословия как науки.
2.1. Одной из тяжёлых проблем, связанных с образованием учёного-богослова в КазДА, как и в остальных академиях, было формирование самого комплекса наук, которые следовало изучать каждому студенту. У этой проблемы было две стороны: составление богословского ядра этого научно-образовательного комплекса и включение в последний светских наук. Первая, начиная с 1860-гг., сконцентрировалась на соотнесении полноты базового богословского образования, формирующего мировоззрение и общее богословское видение будущего исследователя, и специального изучения той или иной области богословия. Два крайних варианта, предложенные Уставами 1869 и 1884 гг., задали «поле напряжения», в котором формировались все последующие решения этой проблемы: проекты 1905–1906 гг., Устав 1910–1911 гг., проект Нормального Устава 1917–1918 гг. Среди членов корпорации КазДА были разные мнения относительно решения этой проблемы, но в целом Совет академии неизменно стремился сохранить полноценное базовое богословское образование. Так, в проекте 1905 г. КазДА, предлагая специализацию по церковно-исторической, церковно-практической, философско-словесной и миссионерской группам, считала необходимым изучать всем студентам Священное Писание обоих Заветов, основное, догматическое и нравственное богословие, историю Церкви Вселенской (до 1054 г.) и Русской, церковное право, историю философии, один из древних и один из новых языков [33, § 106–107, с. 32].
Проблема небогословских наук в высшей духовной школе в КазДА усугублялась присутствием языковых, исторических, культурно-этнографических дисциплин, связанных с миссионерскими направлениями, и необходимостью иметь соответствующих специалистов. Совет КазДА считал вполне адекватным и необходимым такое расширение научной палитры, при этом неоднократно предлагал расширить палитру учёных степеней, присуждаемых духовными академиями, даровав последним право присуждать докторские и даже магистерские учёные степени не только по церковной истории и церковному праву, но и по философии, гражданской истории, филологии, а в самой КазДА ещё и по востоковедению. С точки зрения Совета КазДА этим подчёркивалась важность гуманитарных и особенно востоковедческих исследований лицами с богословским образованием [33, § 144, с. 35].
Ещё одной проблемой научной подготовки в высшей духовной школе была долгая ограниченность учебного процесса лекциями и составлением сочинений: специальные курсы и семинарские занятия, показавшие свою эффективность как в европейских, так и в российских университетах уже в первой половине XIX в., в высшей духовной школе вводились с большим трудом [34, с. 159–160, 168–172, 176–198, 202–204]. В связи с развитием миссионерского направления и необходимостью читать сложные тексты на восточных языках вместе с преподавателем, в КазДА всегда присутствовала некоторая форма практических занятий. Поэтому здесь были и определённые успехи при введении «специально-практических занятий» при Уставе 1869 г. [5, с. 228–235]: у П.В. Знаменского по церковной истории, у И.С. Бердникова по церковному праву. Следует отметить и «полевую» церковно-практическую деятельность – собеседования с раскольниками с последующим разбором обсуждаемого, – к которой привлекались студенты КазДА под руководством профессора Н.И. Ивановского [36, с. 83–84, 86–87]. Однако в начале XX в. студенты всё же не были удовлетворены статичностью духовно-учебных форм и стремились к более активным обсуждениям научных проблем. Проявлением этого был, например, студенческий философский кружок под руководством В.И. Несмелова и А.Н. Потехина, поддержанный ректором академии епископом Антонием (Храповицким) [37, л. 2–6, 7–8, 61–64; 38, с. 13; 39, с. 111].
Серьёзной проблемой во всех духовных академиях было отсутствие научного руководства как такового даже при написании выпускных кандидатских работ: степень ответственности и помощи преподавателя, предложившего тему, определялись его личной ревностью [34, с. 169–172, 176–177, 179–182, 193–194, 231–234]. Первый раз официальное научное руководство было введено в 1884 г. для профессорских стипендиатов. И КазДА в этом отношении действовала лучше других академий. По крайней мере, большая часть стипендиатских «инструкций» в КазДА содержала настойчивое пожелание заниматься доработкой диссертации и именно её представить в качестве отчёта [40, л. 3, 27; 41, л. 47, 49, 50; 42, л. 6]. И действительно, в КазДА было максимальное число диссертаций, представленных профессорскими стипендиатами в короткие сроки – в конце стипендиатского года или вскоре после его завершения.
Наконец, определённые сложности были связаны и с использованием уже подготовленных в академии специалистов, причём оба варианта специальной подготовки – приват-доцентура при Уставе 1869 г. и профессорское стипендиатство при Уставе 1884 г. – не были удовлетворительны в этом отношении. КазДА не очень активно использовала возможность учреждать приват-доцентуры – прежде всего, по скудости выделенной на это суммы (2.000 руб. в год, с 1875 г. – 2.400 руб. в год) и по необходимости оставлять на приват-доцентские деньги выпускников, не имевших магистерской степени и, следовательно, права на доцентское место. Однако был и удачный пример использования новой идеи по прямому назначению: приват-доцентура, учреждённая при кафедре церковной археологии и литургики для выпускника 1882 г. А.А. Дмитриевского, позволила последнему не только завершить первый серьёзный труд – магистерское исследование, но и получить первый преподавательский опыт под руководством опытного профессора – Н.Ф. Красносельцева. В перспективе это дало русской богословской науке великого литургиста, славного как своими личными трудами, так и плеядой учеников в КДА.
Максимально эффективно КазДА старалась использовать возможности, предоставленные профессорско-стипендиатской системой. Несмотря на сложившуюся традицию оставлять на стипендии 2-х выпускников на один год, Совет КазДА в 1890 гг. оставлял и 4-х, и 6-х выпускников, расширяя финансовые возможности за счёт епархии [43, с. 224, 257–258; 38, с. 105–106], а при необходимости продлевал стипендиатский срок ещё на год. Так, в 1884 г. была продлена стипендиатская подготовка Михаилу Нефедьеву, избранному к занятию кафедры калмыцкого наречия и племён монгольского отдела; в 1917 г. – Василию Ванееву, намеченному на кафедру латинского языка [44, с. 279, 291; 45, л. 36–37 об.]. При этом Совет старался учитывать перспективы вакантных кафедр, что позволяло заполнять эти кафедры специально подготовленными научно-педагогическими кадрами: около половины стипендиатов пополнили преподавательскую корпорацию КазДА. Из 45 преподавателей и практикантов академии, окончивших её после 1884 г., 39 прошли через стипендиатство, статистика явно свидетельствовала в пользу этого института [7, с. 31].
2.2. Проблемы, связанные с проведением научного исследования и его оценкой, были гораздо заметнее, ибо в той или иной степени формулировались в отзывах о научных диссертациях, представлявшихся на соискание учёных степеней.
В конце 1840-х – 1860 гг. в духовных школах происходил постепенный переход от привычного в первой половине XIX в. «рассуждения» к собственно исследованию конкретной научной проблемы. Процесс был очень непростым, так как требовалось по-иному определять темы работ, выделять научную проблему, требующую изучения, применять иные методы, интерпретировать результаты, иногда входившие в противоречие с устоявшимися мнениями. КазДА отчасти было легче преодолеть этот рубеж, чем другим академиям, ибо метод сравнительного анализа практически с первых лет деятельности академии применялся в изучении вероисповедных и нравоучительных особенностей мусульманства и буддизма. Так, уже выпускник I курса академии А.А. Бобровников (1846) писал по особому благословению ректора академии архимандрита Григория (Митькевича) (1844–1851) выпускное сочинение по морали в буддизме: «О различии между христианским и буддийским учением о любви к ближним» [3, вып. 2, с. 331–332]. В 1849 г. архиепископ Казанский Григорий (Постников) дерзнул дать миссионерские темы для выпускных работ. Это оказалось плодотворным направлением, причём миссионерские работы нередко оказывались гораздо серьёзнее, чем чисто богословские – было легче перейти от «рассуждения» к анализу. За полтора десятка лет были разработаны полемико-методологические подходы, представлен ряд серьёзных исторических, филологических, критических исследований мусульманства – в дальнейшем они были опубликованы в «Миссионерском противо-мусульманском сборнике».
Но всё же выбор темы для диссертационного исследования представлял немалую проблему. Кроме сложностей, встречающихся во всех областях науки, особенно у начинающих исследователей, лишённых систематического научного руководства, – излишняя широта темы, чреватая поверхностностью, или, напротив, излишняя узость, не позволяющая сделать обобщения, – перед преподавателями и студентами духовных академий вставали и более специфические проблемы. Ещё в 1875 г., при ревизии КазДА, архиепископ Макарий (Булгаков) высказал критическое замечание Совету академии, включённое затем в итоговое донесение Синоду: студентам давались для диссертаций не богословские, а гуманитарные темы [46, л. 14, 20 об.]. Так, камнем преткновения стали темы, данные П.В. Знаменским, преподававшим в первые годы после преобразования 1870 г. не только церковную, но и гражданскую русскую историю: «Ближний боярин Афанасий Лаврентьевич Ордын-Нащокин», «Ближний боярин Артамон Сергеевич Матвеев» [47; 48].
Но вопрос о принадлежности исследования к богословской науке вставал и в связи с работами зрелых исследователей и написанных по церковной тематике. Так, в 1872 г. архиепископ Казанский Антоний (Амфитеатров) заметил несоответствие сочинения того же профессора П.В. Знаменского, посвящённого приходскому духовенству в России, искомой степени доктора богословия[49]. По мнению преосвященного рецензента, автор исследования обращал внимание более на «случайности», временные черты служения приходских пастырей – чаще всего, разумеется, проблемные, – и не видел собственно богословской стороны, проявления «высшего промысла Главы Церкви», «перста, при всей путанице внешних условий, ведущего однако же Церковь более или менее успешно к цели» [50, л. 3738 об., 43–44 об.]. Однако Синод не согласился с преосвященным Антонием, отметив при утверждении профессора П.В. Знаменского в докторской степени, что «исследование церковной иерархии в тот или иной период нельзя не признать одним из главных и существенных элементов, составляющих содержание церковно-исторической науки», а, значит, принадлежащих к области богословия [50, л. 33–34 об., 45–46]. Однако проблема оставалась, так как Синод считал определяющим фактором принадлежности к богословию предмет исследования, а преосвященный Антоний – метод. В этой связи любопытно отметить, что в 1892 г. Московский университет присудил П.В. Знаменскому степень доктора русской истории [51, с. 59].
В дальнейшем замечания о несоответствии тем и самих исследований искомым богословским степеням делались Совету КазДА, как и Советам других академий, неоднократно. Однако эти случаи выявляли не невнимательность Советов, а специфику богословской науки, её места и значения в системе научного знания, связей с другими областями знания, её научного поприща, источников, методологии, использующей методологию гуманитарного знания.
Ещё одной сложной методологической проблемой было введение в богословское исследование научно-критических методов – прежде всего, историко-критических. В 1878 г., при присуждении докторской степени епископу Нижегородскому Хрисанфу (Ретивцеву) за фундаментальный труд об отношении религий древнего мира к христианству[52], профессора КазДА П.В. Знаменский и И.Я. Порфирьев отмечали, что исследование владыки является первым в России опытом «широкого и полного применения к богословской науке приёмов современного научного метода, сравнительно-исторического». И этот подход является необходимым восполнением «крайней исключительности прежнего богословия, вращавшегося обыкновенно в области чисто-рассудочных тезисов и аргументаций – наследии старой схоластики» [53, л. 1–14 об.; 54, л. 1–20]. С похвалой отозвались рецензенты и о применении историко-критического метода к изучению отношений между Церковью и государством в Византии, проведённому доцентом КазДА Ф.А. Кургановым[55]. Именно этот, избранный автором «самый медленный и кропотливый путь – историко-генетический», основанный на сравнительно-критическом изучении источников, позволил автору выработать «большею частью полный объективный взгляд на факты» [56, л. 2–2 об., 26 об. – 27 об., 50 об.]. Однако применение историко-критических методов иногда заставляло задуматься над корректностью их применения в богословских исследованиях. Так, профессор КазДА Е.А. Будрин в своей докторской диссертации, стараясь последовательно применять к изучению ереси антитринитариев XVI в. историко-критические методы, пытался сделать максимально объективные выводы[57]. Однако работа, несмотря на положительное решение Синода, вызывала критическое замечание «холодным беспристрастием к чуждым учениям и неправославным взглядам и индифферентизмом к воззрениям строго православным» [58, л. 2].
Конечно, иногда при оценке диссертаций выявлялись и обычные исследовательские проблемы: недостаточно чётко выделенные проблемы [59, л. 2–20], некорректно изложенные идеи того или иного автора. Но в богословии эти недостатки были особенно опасны, как было отмечено, например, в отзывах на магистерскую диссертацию и. д. доцента КазДА Л.И. Писарева[60]: критику вызвали «преувеличенность» взгляда автора на «безошибочность блаженного Августина в его учении о свободе, благодати и предопределении» и некорректность «сопоставления блаженного Августина с Великими отцами Восточной Церкви» и «его положений с посланиями Восточных Патриархов» [61, 7–7 об., 15].
* * *
3. Историко-статистические результаты позволяют оценить общий масштаб научно-богословской деятельности КазДА.
До преобразования 1870 г. КазДА каждые два года присуждала кандидатские и магистерские степени, начиная с первого выпуска в 1846 г., но эти работы были выпускными, квалификационными, хотя некоторые из них могли претендовать на вполне серьёзную научную оценку. Что касается старшей – докторской – научно-аттестационной степени, то до 1870 г. КазДА лишь один раз ходатайствовала о присуждении таковой, причём «под занавес» действия Устава 1814 г. В 1869 г. по предложению и отзыву Казанского архиепископа Антония (Амфитеатрова) и ходатайству Конференции этой чести был удостоен ректор академии архимандрит Никанор (Бровкович), магистр СПбДА (1851) – за сочинение, посвящённое разбору католического учения о видимом главенстве в Церкви [62; 63].
После 1870 г. Совет КазДА активнее других академических Советов присуждал учёные степени как докторские, так и магистерские, ставшие уже не учебными, а учёными. На докторском уровне это не так заметно: за 1870–1918 гг. КазДА удостоила докторской степенью 43 богословов, в то время как СПбДА присудила 38 докторских степеней, МДА – 42, КДА – 23. Но на магистерском уровне эта активность Совета КазДА более заметна, а после преобразования 1869/70 гг., когда к магистерской диссертации предъявлялись полноценные научные требования, именно этот уровень свидетельствовал о динамике исследовательского развития. Так, за указанные годы Совет КазДА положительно оценил 130 магистерских диссертаций, Совет СПбДА – 101, МДА – 123, КДА – 99. В подавляющем большинстве случаев профессора и выпускники КазДА были патриотичны, то есть, представляли диссертации в свою родную академию, даже если преподавали в других. Так, именно в Совет КазДА представили свои докторские диссертации выпускники академии 1882 г. А.А. Дмитриевский (1896)[64] и 1890 г. И.И. Соколов (1904)[65], хотя первый к тому времени уже более десяти лет успешно преподавал в КДА, а второй – в СПбДА. Поэтому количество степеней, присуждённых КазДА, свидетельствует и о плодотворной научной деятельности её выпускников. Однако КазДА была гостеприимна в научном отношении и для представителей других академий: так, именно сюда представили свои докторские диссертации профессора КДА С.Т. Голубев (1899)[66] и М.Е. Поснов (1918)[67]. Конечно, в научной деятельности академий так или иначе проявлялись внутрикорпорационные личные отношения, однако нельзя не учитывать и желание каждого исследователя компетентной оценки проведенного исследования и его результатов, которую можно было получить только от профессионала. И представление в КазДА докторских исследований по истории Древней и Русской Церкви из других академий является признанием научного статуса этой академии в соответствующих научных областях.
Конечно, можно ставить вопрос о большей или меньшей строгости диссертационного академического Совета. Но так как научно-аттестационная система духовного ведомства была централизована, то есть, докторские, а с 1884 г. и магистерские степени утверждались Синодом, то в определённой степени можно говорить о единых критериях оценки научно-богословских исследований.
Табл. 1 а. Состав докторов богословских наук, получивших степень от КазДА (1870–1918)
| Устав 1869 г. | Устав 1884 г. | Устав 1910–1911 гг. | Всего | |
| Архиереи | 1 (10%) | 3 (12%) | 2 (25%) | 6 (14%) |
| Белое духовенство | 0 | 4 (16%) | 0 | 4 (9,3%) |
| Монашество | 0 | 0 | 1 (12,5%) | 1 (2,3%) |
| Миряне | 9 (90%) | 18 (72%) | 5 (62,5%) | 32 (74,4%) |
| Всего | 10 | 25 | 8 | 43 |
Табл. 1 б. Состав докторов (магистров? Корр.) богословских наук, получивших степень от КазДА (1870–1918)
| Устав 1869 г. | Устав 1884 г. | Устав 1910–1911 гг. | Всего | |
| Архиереи | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Белое духовенство | 2(13,3%) | 18(18%) | 3 (20%) | 23(17,7%) |
| Монашество | 0 | 12 (12%) | 1 (6,7%) | 13 (10%) |
| Миряне | 13 (86,7%) | 70 (70%) | 11 (73,3%) | 94 (72,3%) |
| Всего | 15 | 100 | 15 | 130 |
Показателен состав докторов и магистров, получивших степени от КазДА после преобразования 1870 г. (Табл. 1 а, 1 б). Подавляющее большинство докторов и магистров – миряне. Особенно ярко это преимущество заметно в период действия Устава 1869 г. (1870–1884). Из 10 докторов, произведённых КазДА, 9 – миряне, все – профессора и доценты самой академии: П.В. Знаменский, И.Я. Порфирьев, М.Я. Красин, Н.Я. Беляев, Ф.А. Курганов, И.С. Бердников, Н.И. Ивановский, Я.А. Богородский и бывший профессор Г.С. Саблуков. Единственный архиерей, удостоенный в этот период докторской степени – епископ Нижегородский Хрисанф (Ретивцев), – получил её хотя и без публичной защиты, но не honoris cause, а за уже упомянутое выше конкретное исследование по истории религий. Более естественна ситуация с магистрами: несмотря на повысившиеся требования, эту степень старались получить недавние выпускники академии, ещё не успевшие принять священный сан (86,7%). В периоды действия Уставов 1884 и 1910–1911 гг. ситуация несколько сгладилась, участие учёного монашества и белого духовенства в научной деятельности усилилось, хотя преимущественно на магистерском уровне. Данные приведены на момент получения степени, в дальнейшем ситуация менялась: представители учёного монашества, получившие докторские и магистерские степени, в дальнейшем стали архиереями; некоторые из мирян-магистров приняли священный сан, а иногда и постриг.
Тем не менее, явное преимущество среди докторов и магистров мирян ставило вопрос о корректировке концепции начала XIX в.: в духовной школе сформировался особый тип профессора-мирянина, служившего Церкви научно-богословской и духовно-учебной деятельностью. Сравнительно же небольшой процент среди докторов и магистров представителей учёного монашества выявлял серьёзные проблемы в организации их служения: частые перемещения по местам служения мешали научным занятиям. В начале XX в. учёное монашество выказывало настойчивое желание организоваться в учёные коллегии для возможности заниматься наукой, и именно выпускники КазДА – епископ Феодор (Поздеевский) и архимандрит Гурий (Степанов) – прияли наиболее активное участие в составлении проекта Высшей богословской школы – «монашеской академии» [68, с. 314–324].
Табл. 2. Количество учёных степеней, присуждённых КазДА
| При Уставе 1869 г. | При Уставе 1884 г. | При Уставе 1910–1911 гг. | Всего | |||||
| Докт. | Магист. | Докт. | Магист. | Докт. | Магист. | Докт. | Магист. | |
| Ветхий Завет | 2 | 2 | 2 | 11 | 0 | 0 | 4 | 13 |
| Новый Завет | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| Догматическое богословие | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| Сравнительное богословие и негоция западных исповедании | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| Каноническое право (церковное право] | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 |
| Патрология | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 3 | 2 | 15 |
| История Древней и Греко-Восточной Церкви | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 3 | 12 |
| История Славянских Церквей | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| История Русской Церкви | 1 | 6 | 2 | 13 | 0 | 1 | 3 | 20 |
| История и обличение русского раскола | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| История н обличение русского сектантства | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Лигургика и церковная археология | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Пастырское богословие | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Нравственное богословие | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| Миссионерские науки | 1 | 1 | 0 | 13 | 2 | 2 | 3 | 16 |
| Философские научат (история философии, метафизика, логика, психология) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Апологетика | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Религиоведение | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Степени, присуждённые по совокупности работ | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| ИТОГО | 10 | 15 | 25 | 100 | 8 | 15 | 43 | 130 |
Анализируя научную палитру докторских и магистерских диссертаций (Табл. 2), можно выделить области богословия, наиболее активно развивавшиеся в КазДА. При этом, как было указано выше, наиболее показателен магистерский уровень, так как докторские исследования свидетельствовали о личных талантах и научном усердии профессоров, а магистерские – о развитии той или иной научной области, включении в исследование молодых учёных.
Несомненно преимущество церковно-исторического направления, а в нём – истории Русской Церкви. Это не удивительно: многолетняя научно-преподавательская деятельность историков Русской Церкви П.В. Знаменского и И.М. Покровского, византиниста Ф.А. Курганова, расколоведа Н.И. Ивановского приносила свои плоды. Кроме того, развитие церковной истории стимулировали сами источники, требующие изучения: Соловецкая библиотека, архивы монастырей Казанской епархии. Вполне естественны высокие показатели миссионерских наук: приоритетность этого направления в КазДА не вызывала сомнения, как и обилие реальных проблем и актуальность проводимых исследований.
Но следует обратить внимание и на значительный вклад КазДА в областях, которые никак не были связаны со специфическим направлением академии или доступными источниковыми комплексами: патрологии, библеистики, особенно ветхозаветной. Здесь уместно было бы констатировать формирование в КазДА научных школ по указанным направлениям, хотя само понятие «научной школы» в русском богословии принималось очень непросто. Неоднократно представители духовных академий писали о том, что в России «не дошло до того, чтобы возникли так называемые учёные школы на манер западных» [69, с. 412], и «каждый русский богослов является, в сущности, представителем только своего личного мнения» [70, с. 574].
Таким образом, КазДА, несмотря на свои специальные задачи и связанные с ними проблемы, не отставала, а иногда и опережала остальные академии в развитии основных областей богословия. Как и вся русская богословская наука в целом, казанские учёные встречались в своих исследованиях с множеством проблем, но пытались творчески реагировать на возникавшие сложности, предлагая новые идеи, составляя проекты. Общие тенденции научно-богословского развития, преломляясь в казанской научной среде и сплетаясь с её особыми достижениями, создали уникальный научный, педагогический, миссионерский центр, каковым являлась КазДА к началу XX в.
Литература
1. Рыбинский В.П. По академическим вопросам: аксиоматичность богословия. Мнения и отзывы // Церковные ведомости. 1907. № 2.
2. Пономарев А.И. Несколько замечаний и наблюдений, как – «Post Scriptum» к магистерскому коллоквиуму о. протоиерея И.В. Морева при защите им сочинения «Камень веры» м. Стефана Яворского // Христианское чтение. 1905. № 5.
3. Знаменский П.В. История Казанской духовной академии за первый (дореформенный) период её существования (1842–1870): В 3 вып. Казань, 1892.
4. Бердников И.С. Краткий очерк учебной и учёной деятельности Казанской духовной академии за 50 лет её существования. 1842–1892 гг. Казань, 1894.
5. Терновский С.А. Историческая записка о состоянии Казанской духовной академии после её преобразования. 1870–1892. Казань, 1892.
6. Харлампович К.В. Казанская духовная академия новая: 1842–1907 гг. // Православная богословская энциклопедия. Т 8. СПб., 1907. Ст. 702–854.
7. Журавский А.В. Казанская духовная академия на переломе эпох (1884–1921 гг.) Дисс. ... канд. ист. наук. М., 1999.
8. Именной, данный Синоду указ от 18 декабря 1797 г. «Об учреждении Духовных Академий в Санкт-Петербурге и Казани» // Полное собрание законов (далее: ПСЗ) I. Т. XXIV. СПб., 1830. № 18273. С. 821–823.
9. Сухова Н.Ю. «Воспитание юношества, Церкви посвящённого»: духовно-учебная реформа 1808–1814 гг. и святитель Филарет // Филаретовский альманах. Вып. 7. М., 2011. С. 140–162.
10. Именной, объявленный в ведении Святейшего Синода 30 июня 1842 г. указ «О учреждении в городе Казани Духовной Академии» // ПСЗ II. Т. XVII. Отд. 1. СПб., 1843. № 15803. С. 705.
11. Высочайше утверждённый 30 августа 1814 г. проект Устава православных духовных училищ // ПСЗ I. Т. XXXII. СПб., 1830. № 25673. С. 910–954.
12. Филарет (Дроздов), архим. Обозрение богословских наук в отношении к преподаванию их в высших духовных училищах. СПб., 1814 // Собрание мнений и отзывов Филарета, митрополита Московского и Коломенского, по учебным и церковно-государственным вопросам, изданное под редакцией преосвященного Саввы, архиепископа Тверского и Кашинского: В 5 т. Т. I. СПб., 1885. С. 123–151.
13. Сухова Н.Ю. Высшая духовная школа: проблемы и реформы (вторая половина XIX века). М., 2006.
14. Сухова Н.Ю. Православные духовные академии в 1850–60 гг. и реформа 1869 г. // Вестник Московского государственного областного университета. Серия «История и политические науки». 2009. № 4. С. 23–28.
15. Высочайше утверждённые 30 мая 1869 г. Устав и штаты православных духовных академий // ПСЗ II. Т. XLIV. Отд. 1. СПб., 1873. № 47154. С. 545–556.
16. Сухова Н.Ю. Русская богословская наука (по докторским и магистерским диссертациям 1870–1918 гг.). М., 2012.
17. Глубоковский Н.Н. [Вафинский Н.] К вопросу о нуждах духовно-академического образования // Странник. 1897. № 8. С. 519–540.
18. Высочайше утверждённые 20 апреля 1884 г. Устав и штаты православных духовных академий // ПСЗ III. Т. IV. СПб., 1887. № 2160. С. 232–243
19. Simon G. Konstantin Petrovic Pobedonoscev und die Kirchenpolitik bes Heiligen Sinjd. Göttingen, 1969.
20. Сухова Н.Ю. Практическое богословие в российских духовных академиях – проблема понимания и сложности развития (XVIII – начало XX в.) // Сухова Н.Ю. Вертоград наук духовный: Сборник статей по истории высшего духовного образования в России XIX – начала XX века. М., 2007. С. 244–274.
21. Отчёт о состоянии Казанской духовной академии за 1888/89 учебный год. Казань, 1889.
22. Дамаскин (Цедрик), сщмч., еп. бывш. Глуховский // Православная энциклопедия. Т. XIII. М., 2007. С. 684–687.
23. Вернувшиеся домой: Жизнеописание и сборник трудов митрополита Нестора (Анисимова): В 2 т. Т. I. М., 2005.
24. Пятидесятилетие Казанской духовной академии 21 сентября 1892 года / Под ред. А. Царевского и А. Попова // Православный собеседник. 1892. Т. III. № 12.
25. Огрызков С.Г. Пастырство схиархимандрита Гавриила (Зырянова). Дисс. ... канд. богосл. Сергиев Посад: МДА. 2000.
26. Краля А., диак. Деятельность митрополита Антония (Храповицкого) в должности ректора Духовных академий. Дисс. ... канд. богосл. Сергиев Посад: МДА, 2003.
27. Кострюков М. А., Хабибуллин М.З. Казанское востоковедение XIX – первой половины XX в. Казань, 2012.
28. Погасий А.К. Изучение проблем раннего христианства в Казанском университете и Казанской духовной академии. Дисс. .канд. ист. наук. Казань, 1995.
29. Мнение Конференции Казанской духовной академии о желательных изменениях в духовных академиях // Христианское чтение. 1867. Ч. II. С. 610–648, 817–848.
30. Свод мнений о недостатках действующего Устава духовных академий и соображений о способах устранения этих недостатков. СПб., 1881.
31. Две справки по вопросу о преобразовании духовных академий в России в XIX веке (1869–1884) / Публ. прот. Ф.И. Титова // Христианское чтение. 1907. Ч. I. № 1. С. 31–53; № 2. С. 190–204; № 4. С. 492–509.
32. ГА РФ.Ф. 3431. Оп. 1. Д. 380.
33. Свод проектов Устава Православной духовной академии, составленных комиссиями профессоров Санкт-Петербургской, Киевской, Московской и Казанской духовных академий. СПб., 1906.
34. Сухова Н.Ю. Система научно-богословской аттестации в России в XIX – начале XX в. М., 2009.
35. Терновский С.А. Историческая записка о состоянии Казанской духовной академии после её преобразования. 1870–1892. Казань, 1892.
36. Всеподданнейший отчёт обер-прокурора Святейшего Синода по ведомству православного исповедания за 1886 год. СПб., 1888.
37. РГИА.Ф. 802. Оп. 16. Д. 190.
38. Протоколы заседаний Совета Казанской Духовной Академии за 1898 год. Казань, 1899.
39. Летопись академической жизни // Православный собеседник. 1900. № 1.
40. НА РТ.Ф. 10. Оп. 1. Д. 10022.
41. НА РТ.Ф. 10. Оп. 1. Д. 10137.
42. НА РТ.Ф. 10. Оп. 1. Д. 10336.
43. Протоколы заседаний Совета Казанской Духовной Академии за 1897 год. Казань, 1898.
44. Протоколы заседаний Совета Казанской Духовной Академии за 1884 г. Казань, 1885.
45. НА РТ.Ф. 10. Оп. 1. Д. 11437.
46. РГИА.Ф. 802. Оп. 9. 1874. Д. 18.
47. НА РТ.Ф. 10. Оп. 2. Д. 1566. Ближний боярин Артамон Сергеевич Матвеев. Кандидатское сочинение студента 3 курса Василия Катаринского. 1871 г. 200 л. (в настоящий момент снято с учёта).
48. НА РТ.Ф. 10. Оп. 2. Д. 1585. Ближний боярин Афанасий Лаврентьевич Ордин-Нащокин. Кандидатское сочинение студента 3 курса Ивана Ишерского, читал П. Знаменский. 1871 г. 100 л. (в настоящий момент снято с учёта).
49. Знаменский П.В. Приходское духовенство в России со времени реформы Петра. Казань, 1872.
50. НА РТ.Ф. 10. Оп. 1. Д. 6566.
51. Отчёт о состоянии и действиях Императорского Московского университета за 1892 год. М., 1894.
52. Хрисанф (Ретивцев), еп. Религии древнего мира в их отношении к христианству: В 3 т. Т. I: СПб., 1872; Т. II: Там же, 1875; Т. III: Там же, 1878.
53. РГИА.Ф. 796. Оп. 159. Д. 377. 1878 г.
54. НА РТ.Ф. 10. Оп. 1. Д. 7148.
55. Курганов Ф.А. Отношения между церковной и гражданской властью в Византийской империи. Обзор эпохи образования и окончательного установления характера взаимоотношений между церковной и гражданской властью в Византии (325–565). Казань, 1880.
56. НА РТ.Ф. 10. Оп. 1. Д. 7480.
57. Будрин Е.А. Антитринитарии XVI века. Вып. I: Михаил Сервет и его время; Вып. II: Фауст Социн. Казань, 1878, 1886.
58. НА РТ.Ф. 10. Оп. 1. Д. 8091.
59. НА РТ.Ф. 10. Оп. 1. Д. 9180.
60. Писарев Л.И. Учение блаженного Августина, епископа Иппонского, о человеке в его отношении к Богу. Казань, 1894.
61. НА РТ.Ф. 10. Оп. 1. Д. 9385.
62. Никанор (Бровкович), архим. Разбор римского учения о видимом главенстве в Церкви, сделанный на основании Священного Писания и Предания первых веков христианства. СПб., 1856–1858.
63. Никанор (Бровкович), архим. Разбор римского учения о видимом (папском) главенстве в церкви, сделанный на основании Священного Писания и предания первых веков христианства до I Вселенского собора (включительно). Казань, 1871.
64. Дмитриевский А.А. Описание литургических рукописей, хранящихся в библиотеках православного Востока. Т. 1: Типикон. Ч. 1: Памятники патриарших указов и ктиторские монастырские Типиконы. Киев, 1895.
65. Соколов И.И. Константинопольская Церковь в XIX в. Опыт исторического исследования. Т. I. СПб., 1904.
66. Голубев С.Т. Киевский митрополит Пётр Могила и его сподвижники. Опыт церковно-исторического исследования. Т. II. Киев, 1898.
67. Поснов М.Э. Гностицизм II в. и победа христианской Церкви над ним. Киев, 1917.
68. Сухова Н.Ю. Учёное монашество в России: научно-богословская деятельность и проблема консолидации // Сухова Н.Ю. Вертоград наук духовный. Сборник статей по истории высшего духовного образования в России XIX – начала XX века. М., 2007.
69. Лебедев А.П. Русская церковно-историческая наука // Лебедев А.П. Церковная историография в главных её представителях с IV до XX в. СПб., 2000.
70. Болотов В.В. К вопросу о Filioque // Христианское чтение. 1913. № 5.
Сокращения
В статье используются общепринятые сокращения в названиях духовных школ: СПбДА – Санкт-Петербургская Духовная Академия, МДА – Московская Духовная Академия, КазДА – Киевская Духовная Академия , КазДА – Казанская Духовная Академия.
Секция православной филологии
Преподавание церковнославянского языка: лексические трудности
Е.И. Аюпова
В статье анализируются лексические трудности, с которыми сталкиваются преподающие и изучающие церковнославянский язык. Приводится классификация проблемных элементов церковнославянского лексикона, характеризуются основные способы преодоления трудностей. Основное внимание уделяется так называемым «ложным друзьям переводчика» – церковно-славяно-русским паронимам, приводятся примеры их интерпретации с опорой на греческие соответствия.
Ключевые слова: церковнославянский язык, лексические трудности, церковно-славяно-русские паронимы, методические рекомендации.
The teaching of the Church Slavonic language: lexical difficulties
E.I. Ayupova
In the article the lexical difficulties are analyzed, faced by teachers and learners of the Church Slavonic language. The article presents the classification of problematic elements of the Church Slavonic vocabulary, the basic ways of overcoming the difficulties are characterized. The main attention is paid to the so-called «false friends of the translator» – Church Slavonic-Russian paronyms, the examples of their interpretation based on the Greek compliance are given.
Преподавание церковнославянского языка стало в наши дни насущной необходимостью. Очень радует тот факт, что Московская патриархия с этого года требует начать преподавание церковнославянского во всех воскресных школах, на всех приходах. И это действительно требование времени, а не пустая прихоть! Надо помнить самое важное: церковнославянский – это язык Церкви, богослужения, церковной жизни. Невозможно быть воцерковлённым православным, если ты не понимаешь языка, который звучит в стенах храма, не постигаешь смысла слов молитв и священных книг! Именно язык доносит смысл происходящего во время богослужения, сакральную глубину древних текстов. Совершенно невозможно воспитать православную молодёжь без знания церковного языка. Чтобы Крещение не превращалось в простую формальность, чтобы люди действительно становились членами Церкви, они должны знать хотя бы азы церковнославянского. А кроме того – это язык, впитавший многовековую культуру славян, это наша культурная память, духовное богатство наших предков, и было бы непростительным варварством растерять это драгоценное наследство.
После длительного перерыва, начавшегося вместе с революцией, преподавание церковнославянского в нашей стране должно возродиться. До революции его преподавали повсеместно и в обязательном порядке, букварь читали параллельно на русском и церковнославянском. Сейчас, конечно, в школы церковнославянский не вернётся, но на приходах он должен быть (хотя бы в воскресных школах, поскольку с православными гимназиями у нас пока дело обстоит неважно...). Во многих наших воскресных школах приходится начинать с нуля. Однако интерес к языку есть, группы набираются, и детские, и взрослые, а это уже замечательная тенденция!
С другой стороны, всё это легко на словах, а на деле получается очень непросто. Приходы столкнулись с такими трудностями, как острая нехватка учебников, рабочих тетрадей, прописей, методичек, неопытность преподавателей, добавим ещё известную нестабильность групп в воскресных школах, которая затрудняет систематическое проведение занятий. Если учебные пособия ещё можно разыскать по Интернету и выписать в приходскую библиотеку (тут вопрос больше финансовый), то кадровый вопрос особенно сложен: будущим педагогам негде пройти подготовку, им зачастую приходится заниматься самообразованием, что не всегда эффективно. Приходится рассчитывать только на трудолюбие и языковое чутье тех, кто берет на себя эту непростую ношу – систематическое преподавание церковнославянского языка в воскресной школе.
Естественно, неопытным преподавателям сложно избежать ошибок. Они начинают преподавать, например, по сложным вузовским филологическим учебникам, не очень подходящим для неподготовленной аудитории. Нередко изучение церковнославянского сводится к освоению графической системы (азбука, титла, буквенное обозначение чисел) и краткого грамматического курса, сопровождающегося заучиванием образцов склонения и спряжения – грамматических парадигм. К сожалению, часто упускается из виду один важный принцип – внимание к тексту. Между тем именно чтение и анализ текста должны, на наш взгляд, быть центром урока церковнославянского языка, особенно если речь идёт о воскресной школе, а не о вузовском или семинарском курсе. На начальных и средних этапах обучения грамматический материал, вероятно, должен подаваться только как вспомогательный – в виде лексико-грамматического комментария к текстам. Целью занятий должно быть формирование таких рецептивных языковых способностей, как умение читать и аудировать, понимать смысл увиденного и услышанного. Большую роль играет также исторический, богословский, культурологический комментарий к изучаемым текстам, расширяющий кругозор, вписывающий данный текст в общую систему церковного знания. Ведь главная цель любого курса в воскресной школе – воцерковление учащихся, а не обеспечение, скажем, филологической подготовки.
Об этом писал и академик Владимир Константинович Журавлев в книге «Русский язык и русский характер»: «Усвоение церковнославянского языка – прежде всего усвоение определённого объёма богослужебных текстов, церковных песнопений, псалмов, обыденных молитв. Преподавание церковнославянского языка в воскресной школе имеет двуединую цель – богодуховную и собственно грамматическую, языковую. Не грамматика сама по себе, не азбука, не склонения и спряжение, а постижение богодуховного смысла молитвы и псалма, отдельных фраз и словосочетаний, отдельных слов во фразе должно становиться во главу угла при преподавании церковнославянского языка. Ведущим принципом преподавания церковнославянского языка детям должен стать принцип от текста – к грамматике, от грамматики – к толкованию текста» [1].
Итак, в центре занятия должен находиться текст. И анализ его должен быть, разумеется, комплексным, всесторонним. Однако от внимания преподавателей, увлекающихся грамматическими упражнениями, часто ускользает лексический аспект, что совершенно недопустимо. Именно о лексических трудностях, с которыми сталкивается читатель/слушатель церковнославянского текста, и хотелось бы поговорить подробнее.
С точки зрения лексики церковнославянский язык весьма коварен. Учащихся обычно приводит в ужас малопонятная архаичная грамматика, замысловатые формы. На лексику не обращают особого внимания (слова почти родные!). Генетически близкородственный русскому, церковнославянский создаёт обманчивое впечатление, что многие слова похожи, что интуитивно всё понятно. Действительно, с одной стороны, большой пласт слов полностью совпадает с русскими, многие специфические лексемы на слуху (зело, паки, вельми, присно, сей и пр.), знакомы со школьных лет по поэзии XIX в. Любой более-менее образованный и начитанный человек, даже вовсе не церковный, знаком с огромным количеством славянизмов, с этой стихией «высокого штиля». И это прекрасно! Но, с другой стороны, велико число лексических единиц, создающих помехи при восприятии текста. Попробуем сгруппировать эти лексические трудности с методической точки зрения.
К первой группе можно отнести многие знакомые церковнославянские слова, которые имеют непривычную огласовку (блато, млеко, крава, пещь, хожду, елень). Эта группа слов не создаёт серьёзных методических проблем. Тут нам помогает языковая догадка, чутьё, работа с этим материалом всегда очень нравится и детям, и взрослым, ибо фонетические соответствия чётки, практически не имеют исключений. Забавно осознать, например, что гражданин – это точное соответствие слову горожанин, храм – это то же, что хоромы, а смородина – смрадная (то есть ароматная) ягода. Достаточно один раз продемонстрировать учащимся схему соответствий (в идеале ещё и закрепить системой упражнений) – и они легко будут «расшифровывать» по принципу аналогии новые для них лексемы такого типа.
К этой же группе отнесём слова с прозрачной внутренней формой, с чёткими словообразовательными характеристиками – они также легко и правильно осмысляются учащимися, если те дадут себе труд задуматься над словом, отнестись к нему внимательно, произвести элементарный этимологический или словообразовательный анализ. Вот лишь несколько примеров: слова горе/долу, горний/дольний запоминаются по ассоциации с русскими гора и долина, слово неподобная переведём однокоренным неподобающее (соответственно время подобно означает ‘подобающее, подходящее’), к слову тощно подберём однокоренное тщательно, усыритися, как показывает корневая морфема, значит ‘затвердеть как сыр’, анализ префиксов убеждает нас, что обстояние – это ‘окружение’ (букв. ‘стояние вокруг’), совнидем означает ‘войдём вместе’ и т. п.
Очень часто такого комбинаторного анализа требуют словосочетания: мірское слитие следует понимать как ‘слияние, соединение с миром’, память смертная – это ‘память о смерти’, спасение Твое означает ‘спасение, которое Ты даёшь’ (вопреки привычной интерпретации ‘ты сам спасаешься’), исходища водная – это ‘источники вод’ (в том числе ‘слёзы’ в контексте исходища водная изведосте очи мои).
Глагол довлети обязательно должен быть соотнесён со словом довольно (вопреки популярной ассоциации с давлением), ср.: Довлеет дневи злоба его (букв. ‘достаточно дню его забот’); вера моя да довлеет вместо всех (‘довольно одной веры...’). Ещё пример: глагол подвизатися этимологически родствен русскому двигаться, о чём нетрудно догадаться. Осознание этого факта помогает не только правильно понимать это слово в контексте (На дела твоя подвизаюся милосердием твоим.., то есть букв. ‘двигаюсь, устремляюсь’), проникнуть в смысл словообразовательного гнезда (подвиг, подвижник), но и избежать столь распространённого ошибочного словоупотребления в духе народной этимологии: Этот монах подвяжется в монастыре.
Итак, с первой группой лексических трудностей проблем не так много. Главное – обратить на это внимание учащихся, подключить языковую догадку, вызвать интерес к словообразовательному и этимологическому анализу. Именно эта группа лексики даёт благодатный материал для языковых открытий, прибавляет учащимся уверенности в своих силах, мотивирует к дальнейшему изучению языка.
Во вторую группу лексических трудностей можно включить такие слова, которые вообще неизвестны русскому человеку и не поддаются «дешифровке» без контекста. Да и контекст не всегда проливает свет на их семантику. Если не знать смысл слова выну, трудно догадаться, что же оно значит, например, во фразе Грех мой предо мною есть выну (то есть ‘всегда’). К этой группе относятся также «любимые» всеми учащимися служебные словечки зане, обаче, убо, ниже, во еже, дóндеже и под. Есть такие слова и среди любых других частей речи. Как, например, понимать слово срящ? На первый взгляд трудно, но можно всё же найти ассоциацию: это слово обычно толкуют как ‘несчастный случай, случайная встреча’ (ср. срящет ‘встретит’). Что значит труднопроизносимое слово превыспренняя? Запомнить его смысл ‘поднебесье, высоты’ помогает старинное выражение выспренний (то есть высокопарный) слог. Глагол непщевати (‘думать, полагать’), не вызывающий подобных ассоциаций, всегда приводит учащихся в недоумение, сколько бы раз они его ни встретили.
Значение таких слов, конечно, тоже лучше определять в контексте, по догадке, а потом выписывать в специальный словарик. Но если контекст не подсказывает, можно обратиться к большому словарю (например, прот. Григория Дьяченко [2]) – это полезная и эффективная работа, которая способствует запоминанию лексики. Особенно незаменим словарь в том случае, когда встречаются прямые заимствования из греческого, ставящие в тупик читателя (в одном только 103 псалме обнаруживаются и онагри (‘дикие ослы’), и скимни (‘молодые львы’), и еродиево жилище (‘гнездо аиста’)). Таким образом, и с этой группой лексики проблем не так много, если прилагать усердие и не забывать о возможности заглянуть в словарь.
Наконец, третья, самая коварная группа трудностей – «ложные друзья переводчика», так называемые межъязыковые паронимы по отношению к схожим русским словам (живот, неделя, прозябати и мн. др.). Вот их-то глаз и ум могут автоматически пропустить, не осмыслить, и значение всей фразы исказится. Подобные единицы собрала известная современная исследовательница О.А. Седакова в справочном издании «Словарь трудных слов из богослужения: Церковно-славяно-русские паронимы»[3] – издании, на полноту не претендующем, но очень полезном в обучении.
Удивительно, но даже те, кто регулярно посещает богослужения, не всегда правильно понимают следующие, например, всем известные фрагменты:
– Миром Господу помолимся (означает не ‘всем миром’, как часто думают, а ‘в мирном духе’);
– Премудрость, прости, услышим Святаго Евангелия (краткое прилагательное следует перевести ‘прямые, стоящие благоговейно’);
– Честнейшую Херувим (букв. ‘почитаемую выше херувимов’);
– Сердца же и утробы испытуяй (выделенный фрагмент переведём ‘наблюдающий внутренние помыслы’, то есть сердце и утроба здесь выступают как синонимы, обозначая внутренний мир человека);
– Да исправится молитва моя... (означает ‘пусть направится’ (вверх, к Тебе, как дым из кадила, ср. гр. kateuquvnomai ‘направляться, устремляться’);
– Яко непостоянно великолепие славы Твоея (современное значение аналогичного русского слова полностью искажает смысл, так как церковнославянское означает ‘нестерпимо, против чего невозможно устоять’).
При восприятии текста такие паронимы создают успокаивающее обманчивое впечатление понятности, известности слов. Даже если человек не вдумывается в каждое слово, он интуитивно воссоздаёт смысл, цепляясь за лежащие на поверхности лексические сигналы. Насколько же удивлены бывают учащиеся, узнав, что понимать надо, мягко говоря, несколько иначе! Так, название иконы «Умиление» (гр. κατάνυξις”) не имеет отношения к современному значению слова ‘нежность, растроганность’ (хотя именно так это название переводят на другие языки): оно должно толковаться как ‘сердечное сокрушение, удрученность’ или как ‘помилование’ [3, с. 16].
Приведём ещё несколько показательных примеров подобных паронимов, обнаруженных нами в 17 кафизме, то есть в тексте 118 псалма:
– Научи мя оправданием Твоим переведём как ‘научи меня твоим заповедям’ (вопреки кажущейся очевидности здесь нет семантики глагола оправдываться, так как в греческой параллели находим δικαιώματα ‘заповеди, законы, уставы’);
– (Устнама моима возвестих) вся судьбы уст твоих можно истолковать как ‘все приговоры твоих уст’ (ср. в гр. τὰ κρίματα ‘решения (суда), постановления, приговоры’);
– В заповедех твоих поглумлюся – глагол здесь вовсе не несёт негативного смысла (гр. μελετήσω имеет семантику ‘буду усердно думать, изучать, размышлять, упражняться’), ср. аналогичный пример: раб твой глумляшеся во оправданиих твоих (‘упражнялся в заповедях, размышлял о заповедях’);
– Путь истины изволих и судьбы твоя не забых можно перевести ‘путь истины я избрал и постановления твои не забыл’ (гр. αἱρετίζω ‘избирать, предпочитать’);
– (Вразуми мя, и) испытаю закон твой имеет смысл ‘изучу закон твой’ (гр. ὲξερευνάω ‘изучать, исследовать’);
– Полунощи востах исповедатися тебе о судьбах правды твоея может быть переведено как ‘я встал в полночь прославить тебя за твои справедливые решения’ (гр. ἐξομολοέομαι ‘славить, возвещать славу’);
– Исчезает во спасение твое душа моя передает буквально смысл ‘убегает, устремляется’ (гр. ἐκλείπω ‘уходить, убегать’ имеет и другие значения (например, ‘исчезать’, ‘умирать’), но они не подходят к семантике направления);
– Всякия кончины видех конец можно передать как ‘я видел предел всякого совершенства’ (гр. συντέλεια ‘завершение, окончание, цель, зрелость, совершенство’);
– Мнози изгонящии мя и стужающии ми имеет значение ‘многочисленны изгоняющие и притесняющие меня’ (гр. ἐκθλίβω ‘теснить, угнетать’; церковнославянское причастие связано этимологически не с гнездом студити, стыд, а со словами туга, тугой, тужити) а со словами логически имеет негативного смысла ловекаю: богатое наследство.
Примеры можно умножать бесконечно. Сложность анализа в третьей группе очевидна (знакомое значение привычного слова всплывает в мозгу автоматически, учащимся трудно переключиться, игнорировать лежащий «на поверхности» смысл). Именно поэтому на занятиях при разборе церковнославянских текстов обязательно должна вестись постоянная работа с подобной лексикой (нужно делать пофразовые подстрочные переводы, составлять словарик и т. п.). Важно обращать внимание на грамматическую сочетаемость, разницу в управлении, которая иногда затрудняет поиск соответствия (так, исповедатися, стужати сочетаются с дательным падежом, тогда как их русские соответствия славить и теснить управляют прямым объектом).
Очень большим подспорьем в таких случаях, как мы убедились, может и должен служить греческий источник, подсказывающий, о каком именно значении славянского слова идёт речь. И это не случайно. Как указывает О.А.Седакова, «многие расхождения в значениях русского и церковнославянского слов <...> объясняются именно греческим субстратом последнего, греческим смыслом в плоти славянских звуков и морфем» [3, с. 13].
Литература
1. Журавлев В.К. Церковнославянский язык в современной русской национальной школе. Рекомендации преподавателям церковнославянского языка в воскресных школах // Русский язык и русский характер. – М., 2002. [Электронный ресурс] / URL: http://slovnik.rusgor.ru/rus/shuravlev/07.html, режим доступа: свободный.
2. Дьяченко Григорий, прот. Полный церковнославянский словарь. – Репринтное воспроизведение издания 1900 г. [Электронный ресурс] / URL: http://slavdict.narod.ru/ , режим доступа: свободный.
3. Седакова О.А. Словарь трудных слов из богослужения: Церковнославянорусские паронимы. – М.: Греко-латинский кабинет Ю.А. Шичалина, 2008. 432 с.
Естественнонаучные изыскания в перероде «Богословия» Иоанна Дамаскина XVII в)1
А.И. Бовсуновская
Статья содержит анализ перевода «Точного изложения православной веры» Иоанна Дамаскина, выполненного в XVII веке Епифанием Славинецким. Обращается особое внимание на главы, отражающие естественнонаучные представления Дамаскина в изложении Славинецкого. Выводы работы предназначены дополнить сведения об истории русского литературного языка преднационального периода.
Ключевые слова: церковнославянский язык, древнегреческий язык, Иоанн Дамаскин, «грекофилы», Епифаний Славинецкий, язык перевода.
Natural science researches in Johann Damaskin «Theologie» (XVII с.)
A.I. Bovsunovskaya
The article includes the analysis of Epiphany Slavinetsky translation (XVII c.) of Johann Damaskin’ «Theologie». The basic attention is paid for natural science imaginations of Damaskin in Slavinetsky interpretation. The results of the work complete the data of prenational literary Russian history.
«Точное изложение православной веры» Иоанна Дамаскина, по собственному его утверждению, не является оригинальным произведением, но собранием богословской и библейской мудрости, создаваемой на протяжении предыдущих веков. Перевод «Богословия» Иоанна Дамаскина, выполненный Славинецким в XVII веке, отличается скрупулёзным следованием оригинальному греческому тексту. При этом, однако, Славинецкий меняет структурное членение текста, вводя дополнительные подглавы, например, в восьмую главу «О Троице». Поморфемно копируя риторические построения Дамаскина, переводчик подчас пренебрегает удобством восприятия. Его перевод труден для понимания, но незаменим для сопоставительного анализа. Тяжеловесные риторические построения особенно характерны для разделов, описывающих Божественные свойства и действия. Надо заметить, что памятник содержит и удивительно точные научные наблюдения, вплетённые в богословскую ткань повествования. Эти главы («О воде», «Об огне», «О светилах») отличаются более простыми синтаксическими конструкциями и представляют интерес, во-первых, как одно из свидетельства научных преставлении древности, во-вторых, в аспекте их богословской трактовки.
Вот, к примеру, как изящно переплетается рассуждение о небе как атмосфере с характеристикой Бога как обитателя небес (Книга 2, глава 6 «О небе»):
| Нб҃о есть ѡбдержанїе видимых же и невидимых зданїй внꙋтрь бо егѡ, ꙋмныѧ Агг҃льскїѧ силы, и всѧ чювственнаѧ заключаютса и ѡпределѧютсѧ. ѥдино же Бжⷭ҇тво неѡписано есть всѧ полнѧщее и всѧ ѡбдержащее и всѧ ѡпределѧющее ѧко паче всехъ сꙋщее н всѧ народоделавшее | Небо есть то, что облекает как видимые, так и невидимые творения. Ибо внутри его заключаются и ограничиваются и умные силы ангелов, и всё чувственнопостигаемое. Неописуемо же одно только Божество, Которое всё исполняет, и всё обнимает, и всё ограничивает, так как Оно – выше всего и всё сотворило. (Здесь и далее русский перевод дан по изданию [1]) |
Далее следует сообщение о семи планетах, которое будет развито в главе «О светилах», и размышление о смене дня и ночи:
| Седмь же поѧсы гл҃ютт, нб҃се, единъ дрꙋгагѡ вышщий. Гл̀ютъ же тое тончайшлгѡ естествл, ꙗкѡ дымъ, и на коемждо поѧсе выти единꙋ планитъ. Седмь бо планнты гл̀ютъ быти: Слнце, Лꙋнꙋ, Дїа, Ермїа, Ареа, Афродїтꙋ же гл҃ютъ овогдл ꙋбѡ сбетоносицꙋ овогдл же вечерницꙋ бывающꙋю. Планиты же сїѧ назваша ꙗкоже противно нб҃си творѧтъ движенїе. Нб҃си бо и прочымъ звездамъ ѿ востѡкъ на запады движꙋщымсѧ сїѧ едины ѿ злпадѡвъ на востоки движение имꙋтъ, и сїе познаемъ ѿ Лꙋны, малѡ въ вечеръ воспѧщающїѧсѧ. Елицы ᲂубѡ реша крꙋговидно бытии нб҃о, равно гл҃ютъ ѿстоѧти емꙋ и ѿсвенѧтиса земли свыше же и ѿ стрлнъ и снизꙋ. Снизꙋ же и ѿ стрлнъ гл҃ю, елико къ нлшемꙋ чꙋвствꙋ. Понеже по последованїѧ словꙋ ѿ всюдꙋ вышнее место нб҃о содержитъ, и землѧ нижнее и гл҃ютъ небѡ круговиднѡ кружати землю и соѡбносити скорейшимъ движенїемъ своимъ Сл҃нце же и Лꙋнꙋ и звезды. И наⷣ землею ᲂубѡ сущꙋ Сл҃нцу Дн҃ь бывати здѐ поⷣ землею же нощь. Поⷣ землею же низшедшу Сл҃нцу зде нощь тамѡ же Дн҃ь | У неба же, говорят, есть семь поясов, один выше другого. И утверждают, что оно тончайшей природы, словно дым, и что в каждом поясе находится одна из планет. Ибо сказано, что есть семь планет: Солнце, Луна, Юпитер, Меркурий, Марс, Венера и Сатурн. Венерою же называют звезду, которая бывает то Утренней, то Вечерней. А планетами (блуждающими) их назвали потому, что они совершают своё движение в противоположном небу направлении; ибо в то время как небо и прочие звезды движутся с востока на запад, они одни только имеют движение с запада на восток. И это мы узнаём по луне, которая в продолжение вечера несколько отступает назад. И вот утверждающие, что небо – шарообразно, говорят, что оно одинаково удалено и отстоит от земли как сверху, так и с боков и снизу. «Снизу» же и «с боков» я говорю применительно к нашему ощущению, потому что по последовательному рассуждению небо отовсюду занимает верхнее место, а земля – нижнее. И говорят, что небо шарообразно окружает землю и в быстрейшем своём движении увлекает с собою и солнце, и луну, и звёзды; и когда солнце находится над землёю, то здесь бывает день, а когда под землёю – ночь. Когда же солнце пускается под землю, здесь бывает ночь, а там – день |
В сочинении Дамаскина отражено, как видим, первичное представление об орбитах (7 поясов) и учение о гелиоцентрической системе мироздания, согласно которой все планеты и светила обращаются вокруг земли, подчиняясь, по объяснению автора, движению неба. Трудно сказать, утверждается ли здесь шаровидная форма земли, земля предстаёт, как нечто, с одной стороны, имеющее верхнюю и нижнюю сторону (по отношению к описывающему, который находится на верхней её стороне: ср. представление об антиподах). С другой стороны, землю окружает небо и вокруг неё движутся светила.
В современном переводе мы видим латинские названия планет, которые Дамаскин причисляет к светилам, в тексте «Богословия» мы имеем греческие: Зевс, Гермес, Арес, Афродита, Крон. По-видимому, во время написания текста 5 планет были неизвестны астрономам, здесь даётся представление о «семи небесах».
Приводит Дамаскин и другие научные изыскания, подкрепляемые цитатами из пророков и Псалтири:
| Инїи же полкрꙋжїе нб҃о возмечташа ѿ еже Бг҃оглаголивомꙋ Дв҃дꙋ гл҃ати: Простираѧй нб҃о ꙗкѡ кожу еже ꙗвлѧетъ скинїю и Бл҃женномꙋ Исаїю: Поставилъ еси нб҃о ꙗкѡ камару и ꙗко заходѧ Сл҃нце же и Лꙋна и ѕвезды крꙋжатъ землю ѿ запада на северъ и тако паки на востокъ приходатъ | Другие же вообразили себе, что небо – полушарие, на основании того, что богоглаголивый Давид говорит: Простирали небо яко кожу (Пс.103:2), что обозначает палатку; и блаженный Исайя: Поставивши небо яко комару (Ис.40:2); и потому, что солнце, луна и звёзды, заходя, обходят землю от запада к северу и таким образом опять приходят на восток |
В следующей главе «Ѡ свете, огне, светилехъ, Сл҃нце же и Лꙋне и ѕвездахъ» (Περὶ φωρός, πυρός, φωστήρων ηλίου τε καὶ ἄστρων) повторяется сообщение о планетах, более подробно описано их местоположение:
| Быти же на коемждо поѧсе нб҃се единꙋ седми планитъ. На первомъ ᲂубѡ сиречь вышшемъ Крона (далее следует обозначение, похожее на букву ять). На второмъ же Дїа (цифра 4 с вытянутой вправо поперечиной). На третїемъ же Ареа (кружок со стрелкой вправо вверх). На четвертом же Сл҃нце (кружок с точкой внутри). На пѧтомъ же Афродїтꙋ (кружок с крестиком снизу). На шестомъ же Ермїа (греческая буква гамма с округлой петлёй). На седмомъ же и нижайшомъ Лꙋнꙋ (растущий месяц, выгнутый вправо) | Говорят же, что в каждом поясе неба находится одна из семи планет. В первом, то есть более верхнем, находится Сатурн. Во втором же – Юпитер. В третьем же – Марс. А в четвёртом – Солнце. В пятом же – Венера. В шестом же – Меркурий. А в седьмом и низшем – Луна |
В целом, описываемые представления о степени удалённости планет от земли достаточно точны и практически соответствуют современным.
Здесь же даётся описание зодиакальных созвездий, которые распределяются по 12 месяцам года:
| Глаголютъ же дванадесѧть животна из ѕвездъ быти в небеси противное движенїе имꙋщаѧ Сл҃нцу же и Лꙋне и инымъ пѧти планитамъ и сквозе дванадесать животнаѧ преходити седмь. Сл҃нце ᲂубѡ по коемꙋждо животномꙋ совершаетъ мцⷭ҇ъ единъ: и дванадесѧтми месѧцы дванадесать животна преходитъ | Говорят же и то, что на небе находятся двенадцать знаков зодиака из звёзд, которые имеют движение, противоположное [движению] и солнца, и луны, и остальных пяти планет, и что семь планет проходят через эти двенадцать созвездий. Солнце в каждом знаке зодиака проводит один месяц, и в продолжение двенадцати месяцев проходит через двенадцать созвездий |
Далее следует перечисление зодиакальных знаков: Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпий, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы.
В этой части достойным внимания представляется опровержение ложного эллинского (языческого) учения о влиянии движения планет через знаки Зодиака на судьбы людей:
| Еллини ᲂубѡ ѕвездъ сихъ Сл҃нцл же и Лꙋны, бостокомъ, и западомъ и со ꙋдаренїемъ глаголютъ всѧ ᲂустроѧватисѧ сꙋщаѧ по намъ Ѡ сихъ бо ѕвездословїе вываетъ. Мыже гл҃елмъ ѧкѡ знаменїѧ ᲂубѡ из них быбаютъ, дожѧа и вездождїѧ, стꙋдени же и теплоты, мокроты же и сꙋхоты и ветрѡвъ и таковыхъ нашихъ же деѧнїй никакѡ. Мы бо самовластни ѿ народодетелѧ вывше господїе нашихъ есмы деѧнїй. Аще бо ѿ ѕвездъ ношенїѧ всѧ деемъ по нꙋжди деемъ, ꙗже деемъ по нꙋжди же бывающе ниже добродетель ниже ѕлоба есть аще же ниже добродетель ниже ѕлобꙋ стажаваемъ ниже похвалъ и венцовъ ниже гажденїй или мꙋкъ есмы достойни. Ѡбращаетсѧ же и Бг҃ъ неправеденъ, овымъ ᲂубѡ бл̀гаѧ, овымъ же скѡрби даѧ | Эллины, стало быть, говорят, что через восхождение, и захождение, и сближение этих звёзд, и солнца, и луны управляются все наши дела – ведь этим занимается астрология. Мы же утверждаем, что предзнаменования дождя и бездождия, холода и жара, влажности и сухости, и ветров и подобного от них бывают, но никоим образом не предзнаменования наших дел – ведь мы, будучи сотворены Создателем обладающими свободною волею, сами распоряжаемся своими поступками. Ибо, если мы всё делаем вследствие движения звёзд, то совершаем то, что делаем, по необходимости; а то, что происходит по необходимости, не есть ни добродетель, ни порок; если же мы не имеем ни добродетели, ни порока, то недостойны ни похвал и венцов, ни порицании и наказаний) – да и Бог окажется несправедливым, доставляя одним блага, а другим бедствия. |
Дамаскин опровергает ложное эллинское учение, утверждая лишь влияние светил на состояние атмосферы и погоду.
Иоанн Дамаскин в своём труде внимательно и точно отражает астрономические представления древности. Приводимых наблюдений недостаточно для анализа памятника с точки зрения науки, автор использует их с единственной целью: как «размышление о Божьем величии», подкрепляя и поверяя научные факты цитатами из Псалтири и Книг Пророков и тем самым создаёт некое единство богословского и научного знания, приглашая вслед за ним рассматривать естественнонаучные исследования как попытку приблизиться к непостижимой разумом тайне мироздания.
Литература
1. Святой Иоанн Дамаскин. Точное изложение православной веры / греч. текст и русский перевод проф. А.А. Бронзова. – Афины , 2010. 395 с.
2. Сборник переводов Епифания Славинецкого. – М.: Печатный двор, 1665. 410 л.
Идеографическое описание русской, украинской и польской религиозной лексики в современной теолингвистике
А.К. Гадомский Г.П. Гадомская
Настоящая статья посвящена актуальным проблемам современной славянской теолингвистики: в работе предпринимается попытка систематизации терминологии, используемой для описания религиозной лексики, и представлены результаты идеографического описания русской, украинской и польской религиозной лексики.
Ключевые слова: теолингвистика, русская, украинская, польская религиозная лексика, идеографическое описание.
G.P. Gadomska
A.K. Gadomski
Ideographic description Russian, Ukrainian and Polish religious lexicon in modem theolinguistiсsф
This article is dedicated to the topic issues of modern Slavic theol
g
st
: the aim of work was to systematize the terminology used to describe the religious lexicon, and show the results of ideographic description of Russian, Ukrainian and Polish religious lexicon.
Начало славистическим традициям изучения религиозной лексики положили Ф. Буслаев, Э. Клих, Ф. Миклошич, А. Фринт, Е. Шетка. Позднее эти исследования были продолжены другими учёными.
Целью настоящей работы является систематизация терминологии, используемой для описания религиозной лексики, и представить результаты идеографического описания русской, украинской и польской религиозной лексики – её интегрированную классификацию.
Как показывает анализ исследований по данной теме, для описания религиозной лексики в русской, украинской и польской теолингвистике используются многочисленные термины [3; 4;5]. Перечислим некоторые из них:
1) библеизмы (русск.) – бiблеїзми (укр.) – biblizmy (польск.);
2) библейская лексика /терминология (русск.) – бiблiйна лексика / термiнологiя (укр.) – slownictwo biblijne (польск.);
3) богословская терминология (русск.) – богословська термiнологiя (укр.) – terminologia teologiczna (польск.);
4) богослужебная лексика (русск.) – богослужбова лексика (укр.) – slownictwo liturgiczne (польск.);
5) богослужебная терминолексика (русск.) – богослужебна термiнолексика (укр);
6) конфессиональная лексика (русск.) – конфесiйна лексика (укр.);
7) коранизмы (русск.) – koranizmy (польск.);
8) лексика религиозного характера (русск.) – лексика релiгiйного характеру (укр.) – slownictwo religijne (польск.);
9) лексика, связанная с религиозной жизнью (русск.) – лексика, пов’язана з релiгiйним життям (укр.) – leksyka zwizana z zyciem religijnym (польск.);
10) литургическая терминология (русск.) – лiтургiйна термiнологiя (укр.) – terminologia liturgiczna (польск.);
11) обрядовая терминология (русск.) – обрядова термiнологiя (укр.) – terminologia obrz’dowa (польск.);
12) протестантская религиозная лексика (русск.) – протестантська релiгiйна лексика (укр.) – protestanckie slownictwo religijne (польск.);
13) религиозная терминология (русск.) – релiгiйна термiнологiя– terminologia religijna (польск.);
14) религиозная/сакральная лексика (русск.) – релiгiйна /сакральна лексика (укр.) – slownictwo religijne (польск.);
15) сакрализмы (русск.) – сакралiзми (укр.) – sakralizm (польск.);
16) сакральная терминология (русск.) – сакральна термiнологiя (укр.) – terminologia sakralna (польск.);
17) сакрально-богослужебная лексика (русск.) – сакрально-богослужбова лексика (укр.);
18) слова религиозного происхождения – слова релiгiйного походження (укр.);
19) христианская богословская терминология (русск.) – християнська богословська термiнологiя (укр.) – chrzescijanska terminologia teologiczna (польск.);
20) христианская лексика (русск.) – християнська лексика (укр.) – slownictwo chrzescijanskie (польск.);
21) церковная / церковно-религиозная лексика (русск.) – церковна/ церковно- релiгiйна лексика (укр.);
22) церковно-обрядовая терминология / лексика (русск.) – церковно-обрядова термiнологiя (укр.);
23) церковно-терминологическая лексика (русск.) – церковно- термiнологiчна лексика (укр.) и ряд других.
В данном случае мы старались приводить термины на трёх языках только в том случае, если они были найдены нами в русских, украинских и польских лингвистических источниках.
Однако единого термина для обозначения религиозной лексики, как и её полного, общепринятого определения, по-прежнему нет. Поэтому очень часто языковеды употребляют термин «религиозная лексика», вкладывая в него различное содержание. Всё это порождает определённые противоречия в исследованиях религиозной лексики, о чём мы уже ранее писали в ряде статей [3; 4; 5]. Обусловлено это, прежде всего, многообразием религий, конфессий, религиозных направлений, течений и т. п. Современная теолингвистика стремится к тому, чтобы, по возможности, этот фактор учитывался во всех исследованиях.
Мы считаем термин «религиозная / сакральная лексика» ключевым термином, архитермином, «именем» терминологического поля (группы), элементы которого перечислены выше, и предлагаем систематизировать перечисленную ранее терминологию. В данной системе (классификации) терминология приводится только на русском языке, без украинских и польских соответствий, а термины «церковь», «церковный» употребляются нами в широком понимании, поскольку имеется в виду институт Церкви вообще:
1) религиозная/сакральная лексика;
2) церковная/религиозно-церковная лексика;
a. библейская лексика;
b. кораническая лексика и т. п.;
3) конфессиональная лексика;
a. христианская лексика:
i. православная лексика;
ii. католическая лексика;
iii. протестантская лексика и т. п.;
b. исламская лексика:
i. суннитская лексика;
ii. шиитская лексика и т. п.
c. лексика других религий и их конфессий;
4) богословская лексика:
a. христианская богословская лексика:
i. православная богословская лексика;
ii. католическая богословская лексика;
iii. протестантская богословская лексика и т. п.;
b. исламская богословская лексика:
i. суннитская богословская лексика;
ii. шиитская богословская лексика;
c. богословская лексика других религий и их конфессий;
5) церковно-обрядовая лексика:
a. христианская богословская лексика:
i. православная церковно-обрядовая лексика;
ii. католическая церковно-обрядовая лексика;
iii. протестантская церковно-обрядовая лексика и т. п.;
b. исламская обрядовая лексика:
i. суннитская обрядовая лексика;
ii. шиитская обрядовая лексика (русск);
c. церковно-обрядовая лексика других религий и их конфессий;
6) литургическая лексика:
a. христианская литургическая лексика:
i. православная литургическая лексика;
ii. католическая литургическая лексика;
iii. протестантская литургическая лексика и т. п.;
b. литургическая лексика других религий и их конфессий.
С целью написания статьи нами также были проанализированы классификации, русской, украинской и польской религиозной лексики, представленные в работах:
а) русистов: Е. Антушева [1, c. 10]; С.В. Булавина [2]; С.А. Журавлев [8, c. 290291]; И.А. Королева [11, c. 12]; М.Е. Петухова[16]; И.Ю. Г.Н. Скляревская [20, c. 6–7]; Д.Э. Розенталь, Е.В. Джанджакова, Н.П. Кабанова[19]; Ярмульская [24, c. 12,13,16] и др.;
б) украинистов: Е. Грицак [7, c. 34–38]; А. Горбач [6, c. 99–146]; П. Ковалив[10]; И. Огиенко (митрополит Илларион) [12; 13]; Ю.В. Осинчук [14; 15]; Н.В. Поддубная [17, c. 32–39]; Н.В. Пуряева[18]; В.М. Русановский[19]; М. Худаш[21] и др.;
в) полонистов: И. Винярска-Гурска [27, c. 168–318.]; Р. Пшибыльска, В. Пшичина[26]; Э. Клих[25]; М. Юрковски[23] и др.
В основу проделанной работы были положены следующие принципы:
а) лексика располагается не в алфавитном, а идеографическом (тематическом) порядке;
б) анализируется лексика различных религий и конфессий;
в) материалом исследования является русская, украинская и польская религиозная лексика.
Результаты работы по идеографическому описанию русской, украинской и польской религиозной лексики представлены в следующей классификации.
1. Названия, имена и перифразы сверхчеловеческих существ:
1) названия Бога:
а) названия, имена и перифразы Бога в христианских религиях и относящиеся к ним прилагательные: русск.: Бог Сын, Бог Святой Дух, Бог-Отец, Владыка небесный, Господь наш Иисус Христос, Дух Святой, Единый Бог; укр.: Бог, Божий, Авва ‘Отец’, Адонаи ‘Господь’, Христосъ ‘помазанник’, Бог, Господь, Саваоф, Єгова, Отець (Вiтець), Владика, Владика живота мого, Всемогутнiй, Всемогучий, всевишнiй; Iсус, Христос, Iсус Христос, Син Божий, Господь Iсус, Вседержитель Христос, Учитель, Бог-любов, месiя, пророк, Спаситель, воскреслий Бог, Боголюдина, надлюдина; Святий Дух; польск.: Bуg Ojciec, Кrук Niebios, Кrуl Niebieski, Pan Stworzenia, Syn Bozy;
б) названия, имена и перифразы Бога в нехристианских и языческих религиях: русск.: Авва, Аврора, Аллах, Брахма, Вакх; укр.: Авва, Аврора, Аллах, Брахма, Вакх; польск.: Adnai, Allach, Jahwe;
2) названия, имена и перифразы ангелов и относящиеся к ним прилагательные: русск.: Ангел Хранитель, Ангелы, Архангелы, Небесное воинство Гавриил; укр.: ангелъ, архангелъ, херувимъ; польск: Aniol, Aniol–Stryz, Gabriel.
2. Названия, имена и перифразы отрицательных высших существ, противостоящих Богу: русск.: бес, дьявол, лукавый; укр.: антихристъ, вельзавелъ, дияволъ, демонъ, сатана; польск: bies, diabl, zly.
3. Названия, имена и перифразы возвышенных человеческих существ:
1) названия, имена и перифразы Божией Матери и относящиеся к ним местоимения:
русск.: Благодатная Мария, Богородица, Богоматерь, Дева Мария, Матерь Божия, Невесто Неневестная; укр.: Мати Божа, Мати Божа небесна, Пречиста Мати, Матiнка Христова, Богоматiр, велика Матiр, Мати свята; польск: Boza Rodzicielska, Matka Boza, Matka Boska;
2) названия, имена и перифразы святых, апостолов, мучеников, пророков: русск.: апостол, великомученик, Георгий Победоносец, Илья Пророк, Иоанн Богослов, Иоанн Златоуст; укр.: апостол, великомученик, Георгiй Побiдоносець, Iлля Пророк, Iоанн Богослов, Iоанн Златоуст; польск: Apostol Anglii (=sw. Augustyn z Canterbury), Apostol Narodyw (= sw. Pawel), sw. Jan Chrzciciel;
4. Названия мест трансцендентной действительности: русск.: рай эдемский, ад, чистилище, небесное царство; укр.: рай, пекло; польск.: czysciec, eden.
5. Названия служителей религиозного культа, официальных званий титулов и чинов в иерархии:
1) монахи, монашество, законы, братства:
а) звания и титулы монахов и обращения к ним: русск.: аббат, амма, иеромонах, инок; укр.: братiя, чернецтво, монашество, iночество, монах (монахиня), чернець (черниця), чорноризець, iнок, калугер; польск.: ichumen, kaplan, mnich;
б) названия особых видов монашества: русск.: иезуитство, иночество, отшельничество; укр.: послушник, схимник (схимниця), малосхимник (малосхимниця), великосхимник (великосхимниця); польск: pustelnictwo, jezuityzm;
в) названия членов законов, братств, церковных объединений: русск.: доминиканцы, иоанниты, францисканцы; укр.: домшшанщ, юаншти, францисканщ; польск: franciszkanie, dominikanie, jezuici, paulini;
2) звания, должности и титулы служителей религиозного культа и обращения к ним:
а) звания, должности и титулы высших должностных духовных лиц и обращения к ним: русск.: Архиепископ Кентерберийский, Блаженнейший Патриарх (Папа и Патриарх), Епископ-Президент Епископальной Церкви в США, Заместитель Патриаршего Местоблюстителя, Местоблюститель Патриаршего Престола, Папа Римский, Патриарший Местоблюститель, Примас всей Англии и Митрополит, Святейший Католикос Востока и Митрополит Маланкарский, Святейший Папа Римский, Святейший Патриарх Московский и всея Руси, Святейший Патриарх Московский и всея Руси; укр.: архидиякон, iєрарх, митрополит, екзарх, кардинал; польск.: general, dziekan, eparcha, egzarcha;
б) звания, должности, титулы священнослужителей невысших должностных духовных лиц и обращения к ним: русск.: архидиакон, иерарх, архимандрит Евгений, Блаженнейший Папа и Патриарх, Его Блаженство, Его Высокопреосвященство (для митрополитов и архиепископов), Его Высокопреподобие (для архимандритов, игуменов, протоиереев), Его Преосвященство (для епископов), Его Преподобие (для иеромонахов и священников), Его Святейшество, католикос, митрополит Волоколамский и Юрьевский, муфтий, отец Алексий, пастор, патриарх, Святейший Патриарх Алексий; укр.: архiдиякон, тодиякон, протодиякон, ieродиякон, диякониса; польск.: arcydiakon, hierarcha, pastor;
в) названия священников и церковнослужителей: русск.: звонарь, звонарка, титарь, псалтырьщица, муэдзин, дьячок, еклесиарх (ключарь); укр.: паламар, паламарка, читець, Спiвець, дзвонар, псаломник, псаломщик, регент, свiчконос, проскурниця, проскурник; польск.: diak, lektor, czlowiek, zajmujcy sie ikonami.
6. Названия верующих:
1) названия верующих по вероисповеданию:
а) названия верующих, исповедующих христианскую религию: русск.: христианин, католик; укр.: евангеликъ, християнинъ; польск.: chrzescijanin, katolik;
б) названия верующих, исповедующих нехристианские религии: русск.: арианин, мусульманин, буддист; укр.: поганинъ, язычникъ; польск.: arianin, mahometanin, buddysta;
2) названия людей по их отношению к вере:
а) истинно верующие: русск.: богопокорный, мирянин, богопочитатель, боголюб; укр.: богопокорний, мирянин, боголюб; польск.: wierni;
б) верующие, не облачённые саном, посвятившие себя Богу по собственному желанию: русск.: богорадка, богоугодник, молильница, христоподражатель; укр.: богорадка, богоугоднiк, молiльнiца; польск.: posl uszny Bogu;
в) верующие, участники обрядов, обычаев: русск.: исповедник, крестный отец, мать; укр.: сповiдник, хрещений батько, мати; польск.: spowiednik, ofiarodawca;
г) верующие, соблюдающие только внешний обряд церкви: русск.: пустосвят, скоросвят, святец, ипокрит, богомерзкий; укр.: пустосвят, скоросвят, святець, богомерзкий;
д) верующие, нарушающие заповеди, обряды: русск.: немоляха, согрешник, распутный, прелюбодейщик; укр.: немоляха, розпусний, согрешнiк; польск.: grzesznik, heretyk, heretyczka;
е) лица, отвергшие Бога, отошедшие от учения церкви: русск.: богохульник, святоборец, богоборный, вероотступник; укр.: богохульник, вiровiдступник, святоборец; польск.: bluznierca, apostata, zaprzaniec;
7. Имена основателей религий: русск.: Будда, Мухаммед (Мохаммед, Магомет, Магомед), Дао, Конфуций; укр.: Будда, Мухаммед (Мохаммед, Магомет, Магомед), Дао, Конфуцiй; польск.: Buda, Mahomet;
8. Названия религий:
1) названия христианских религий: русск.: православие, католицизм, протестантизм; укр.: православ’я, католицизм, протестантизм; польск.: greckokatolickie wyznanie, wyznanie ewangelickie;
2) названия нехристианских религий: русск.: иудаизм, буддизм, ислам, индуизм; укр.: iгудаїзм, буддизм, iслам, iндуїзм; польск.: judaizm, buddyzm, islam.
9. Названия религиозных движений и их последователей: русск.: артамоновщина, поповщина, секта, апостазия; укр.: артамоновщiна, попiвщина, секта, апостазiя; польск.: Odnowa w Duchu Swietym, Ruch Zwiatlo–Zycie, Ruch pod wezwaniem Ducha Swietego.
10. Распространение религиозного учения и борьба с ним: русск.: миссия, прозелитизм, секуляризация, проповедать; укр.: мiсiя, прозелiтизм, секуляризацiя, звiщати; польск.: nawracanie, sekularyzacja.
11. Названия наук о религии и их разделов:
1) названия наук о религии: русск.: апологетика, догматика, гомилетика; укр.: апологетика, догматика, гомилетика; польск.: hagiografia, hermeneutyka, egzegetyka;
2) названия представителей религиозных наук, искусств и др.: русск.: богослов, библейник, миссионер, кивотчик, семинарист, иконник; укр.: бiблейнiк, богослов, iконник, кiвотчiк, мiсiонер, семiнарист; польск.: spiewak demestwenny, malarz ikon, biblista.
12. Названия религиозных книг и документов:
1) названия культовых книг:
а) названия христианских религиозных книг: русск.: Библия, Бытие, Ветхий Завет, Вторая книга Царств, Евангелие, Закон Божий, Исход, Книга Иова, Книга пророка Исаии, литургиарий, Минея Месячная, молитвенник, Новый Завет (Евангелие), Первое Послание апостола Петра, Песнь песней, Постная Триодь, Псалтирь, Псалтырь, Святая Библия, Священное Писание (Писание), Служебник, Требник, Триодь постная, Триодь цветная, Часослов,Четвероевангелие, Четьи-Минеи; укр.: Євхалигiон, мiнея, Требник, восьмигласник – октоїх, давнє октаик, молитвослов (молитвеник, молитовник), часослов, служебник – лiтургiкон, мiсяцеслов, трипiснець – трiодь, цвiтослов – анфологiон; польск.: Gemara, dekalog, Dzieje, Apostolskie, Nowy Testament;
б) названия иудейских религиозных книг: русск.: Тора, Талмуд; укр.: Тора, Талмуд; польск.: Tora, Talmud;
в) названия исламских религиозных книг: русск.: Коран; укр.: Коран; польск.: Koran;
2) названия документов, грамот, религиозных уставов, сборников правил: русск.: типик, клировые ведомости, епитрахильная грамота, соборное послание, Церковный Устав; укр.: типик, клiрської вiдомостi, епiтрахiльная грамота, соборне послання, Церковний Статут.
13. Названия религиозных искусств, произведений искусств, художественных произведений, религиозно-обрядовых театрализованных представлений:
1) названия религиозных искусств: русск.: иконология, образотворение; укр.: iконологiя, образотворення; польск.: malarstwo ikon, ikonografia, sztuka sakralna;
2) названия произведений искусств, языковых памятников, деклараций, законов, благотворительных акций, военных операций: русск.: Кодекс канонического права; укр.: Кодекс каноничного права; польск.: Bogurodzica, Kodeks prawa Kanonicznego;
3) названия религиозных художественных произведений (книг, работ, статей, стихотворений, песенок, песен, фильмов, театральных постановок), названия их разделов: русск.: укр.: Глорiя; польск.: hymn koscielny Gloria;
4) названия религиозно-обрядовых театрализованных представлений: русск.: вертеп, раек, мистерия; укр.: вертеп, райок, мiстерiя; польск.: misterium, zlobek, jaselka.
12. Названия религиозных и культовых сооружений и их частей:
1. Названия христианских религиозных сооружений;
1) названия христианских построек-предтеч: русск.: базилика, катакомбы, крипта, кубикулы скиния; укр.: скинiя, катакомби, крипта, кубiкула, базилiка; польск.: bazylia, katakumby krypta, kubikula;
2) названия православных религиозных сооружений: русск.: дом Божий, дом Бога, святой дом, дом Господень, дом веры, дом хлеба, иклисия, придел, храмина, церковь, це́рквушка, церкву́шка, храм; укр.: церква, церков, церкiвця, церковка, церковця, церковиця, церквичка, церквиця, храм, храмина, храминка, iклiсiя, придiл, дiм Божий, дiм Бога, святий дiм, Господнгй дiм, дiм вiри, дiм хлiба; польск.: kosciуl, kaplica, dom Bozy swiety dom, dom, dom wiary, dom chleba;
3) названия католических и протестантских религиозных сооружений: русск.: костел (костёл), молитвенный дом; дома молитвы; укр.: костел (костьол); молитовний дiм; дома молитви; польск.: kosciol, dom modlitwy, dom modlitewny;
4) названия центральных христианских религиозных сооружений: русск.: католикон, кафедра, кафедральный собор, кафедрал, собор, укр.: собор, катедра (кафедра), кафедральний собор, католикон, кафедрал; польск.: ambona, katedra;
5) названия христианских религиозных сооружений без алтаря: русск.: колокольня, колоколенка, молельня, часовня; укр.: каплиця, капличка, капела, дзвiниця (дзвониця, звониця), дзвiничка, молитовня, молитовниця, молельня, часовня, кампанiла, мартирiй; польск.: dzwonnica, kaplica;
6) названия христианских монастырей: русск.: монастырь (монастырь), обитель, обитальниця, скит, пустынь, лавра; укр.: мона́стир (монасти́р), мнишниця, мандра (мудра), обитель, обитальниця, кляштор, скит, пустинь, лавра; польск.: klasztor;
7) названия частей христианского храма;
a. названия восточной части храма: русск.: алтарь (санктуарий), дияконион, Захристия (сакристия, закристия), хор; иконостас, протезис, пастофорий; пономарня, паламарка; укр.: вiвтар (санктуарiй); о́лтар, олта́р, вiвтар, хор; iконостас, дияконiон, протезис, пастофорiй; захристiя (сакристiя, закристiя), дияконник, паламарня, паламарка; польск.: oltarz (sanktuarium), ikonostas;
b. названия центральной части храма: русск.: неф, оратория, ораторюм; укр.: корабель (нава, неф, ораторiя, ораторюм); польск.: nawa, oratorium;
c. названия западной части христианского храма: русск.: атриум, притвор, нартекс, вестибюлум, пронаос, трапеза, паперть, портикус, передхрамье; укр.: вестибюлум, атрiум, пронаос, трапеза, пруст, паперть, портiкус, передсiнок, передхрам’я, бабинець, бабник; польск.: atrium, weranda;
8) названия помещений – жилищ священников и монахов: русск.: келья, келиица, кельица (келеица), молчальница, поповщина, плебания, резиденция, пасторат; укр.: плебанiя (кпєбанiя), фара, приходство, балган, резиденцiя, пробоство, пасторат, келiя, келиица, кельица (келеица), келiйка (келенька), келiєчка, громадська (парихарна, парохiяльна) хата, батющиний двiр; польск.: prezbiterium, plebania, parafia.
2. Названия религиозных сооружений нехристианских религий:
1) названия священных мест язычников: русск.: капище, кап, мольбище, молебник, святыня, святилище, алтарь, идольница, жертвенник, живец, пятница; укр.: капище, кап, капищниця, молебник, церквище, фанум, фан, коптина (котинь), святиня, кумирниця, кумирище, чтили ще, живець, п’ятниця, святiє, святило; польск.: swiatynia, cap, sanktuarium, sanktuarium, oltarz;
2) названия религиозных сооружений восточных религий (иудаизма, мусульманства и буддизма): русск.: синагога, соборище, скопище, мечеть (мечеть), минарет, мизгит (мизгат, мезгит, мизгить) ропать (ропата, ропот), теке, худжры, ханджами, тюрбе, михраб, минбар, пагода, кенаса, гурдваре, хондэн, хайдэн, дзиндзя, девагриха, чайтья, дзингудзи, кондо, кодо; укр.: синагога, соборище, сонмище, мечеть (мечет), мiнарет, мiзгит (мiзгат, мезгит, мiзгить), ропать (ропата, ропота), теке, худжра, ханджамi, тюрбе, мiхраб, мiнбар, пагода, кенаса, гурдвар, хонден, хайден, дзiндзя, девагрiха, чайтья, дзiнгудзi, кондо, кодо; польск.: soborysche synagoga, tlum, Meczet (Meczet), Minaret, pagoda, kenesa. (В основу классификации Названий религиозных и культовых сооружений и их частей – положены исследования Н. Поддубной [17, с. 57–170].
13. Названия принадлежностей, священных предметов, утвари храма:
1) названия принадлежностей храма: русск.: амвон, «Царские врата»: престол, жертвенник, солея, горнее место, иконостас, алтарь; укр.: амвон, «Царськi врата»: престол, жертовник, солея, iконостас, вiтвтар; польск.: stol ofiarny, oltarz ofiarny, ikonostas;
2) названия священных сосудов и предметов: русск.: дискос, звездица, лжица, Святая Чаша, Потир – как вмещающий Святые Дары, дарохранительница, Святая Плащаница, крест, мощи, чётки, рипида, Плащаница; укр.: Свята Чаша, Потир – як вмiщає святi Дари, церковна лавка, Свята Плащаниця, хрест, мощi, чотки, Плащаниця; польск.: artoforion, daronosica, diskos, krzyz, paschal, rozaniec, monstrancja;
3) названия церковной утвари: русск.: антиминс, панагиар, дикирий, чаша; укр.: антимiнс, панагiар, дикирiй, чаша; польск.: dikerion, podwojny swiecznik.
14. Названия предметов культа:
1) названия священных предметов, предметов особого почитания: русск.: крест, мощи, чётки, рипида, Плащаница; укр.: хрест, мощI, чотки, Плащаниця; польск.: gammadium, hostia, olej oliwny, krzyz, paschal, rozaniec, monstrancja;
2) названия икон: русск.: вратная икона, образ, Взыграние (название иконы), чудотворный образ, икона, образ, икона Донской Божией Матери, образ Знамения Божией Матери; укр.: чудотворний образ, iкона, образ, iкона Донський Божої Матерi, образ Знамення Божої Матерi; польск.: cudowny obraz, deesis;
3) названия обрядовой пищи: русск.: святое причастие, облатка, Агиасма (святая вода), кулич; укр.: облатка, Агiасма (свята вода), паска, святе причастя; польск.: prosfory, woda zycia.
15. Названия священных одежд: русск.: Деисис, не Деисус, аналав, бармы, епитрахиль, порамница, священнодеяние, ряса; укр.: епитрахилъ, манътия, омофоръ, орарь, роиска, сакосъ; польск.: dalmatyka, epitrachelion, chiton.
16. Названия постов, недель и дней седмичных:
1) названия постов: русск.: Великий пост, Петров пост, Успенский пост, Рождественский (Филиппов) пост; укр.: Петрiвка, Пилипiвка, Спасiвка; польск.: post, Wielki post; adwent;
2) названия недель: русск.: Неделя о мытаре и фарисее, Неделя о слепом, Неделя о самаряныне; укр.: Тиждень про митаря i фарисея, недiля про слiпого, Недiля про самарянина; польск.: tydzien zielonoswiatkowy, Wielki Post;
3) названия дней седмичных: русск.: Седмица Страстная, седмица Светлая, седмица Пасхальная, седмица Троицкая, седмица Сырная; укр.: Седмиця Страсна, седмиця Свiтла, седмиця Пасхальна, седмиця Троїцька, седмиця Сирна;
4) названия дней Страстной седмицы: русск.: Великий Понедельник, Великий Вторник; дни Светлой седмицы: Светлый понедельник, Светлый вторник; укр.: Великий Понедiлок, Великий Вiвторок; днi Свiтлої седмицi: Свiтлий Понедiлок, Свiтлий Вiвторок;
5) названия некоторых суббот: русск.: суббота Троицкая, суббота Димитриевская, Суббота Акафиста, Суббота родительская; укр.: Субота Троїцька, субота Димитрiвська, субота Акафiста;
17. Названия таинств и обрядов, обрядовых действий:
1) названия таинств: русск.: миропомазание, исповедь, Таинство Евхаристии, Таинство Священства, Таинство Брака, Святая Евхаристия, Святое Крещение; укр.: Вiнчання, євхаристiя, Єлеопомазання, Миропомазання, Сповiдь, Хрещення; польск.: glossalia, eucharystia, namaszczenie, chrzest (sakrament chrztu), bierzmowanie (sakrament bierzmowania), pokuta (sakrament pokuty);
2) названия обрядов, обрядовых действ: русск.: введение, возведение, освящение, отпущение грехов, вход, разрешение, рукоположение; укр.: введення, возведення, мироварiння, мирування, освячення, вiдпущення грiхiв, вхiд, розрiшення, рукопокладання; польск.: rozgrzeszenie, poswiecenie, konsekracja;
18. Названия религиозных праздников и событий:
1) названия дохристианских праздников: русск.: День Ивана Купалы; укр.: День Iвана Купали; польск.: Dzien Swietego Jana;
2) названия христианских праздников:
а) названия праздника Пасхи: русск.: Введение во храм Пресвятой Богородицы, Пасха, Святая Пасха, Антипасха; укр.: Введення в храм Пресвятої богородицi, Великдень, Свята Пасха, Антипасха; польск.: Wielkanoc;
б) названия великих двунадесятых праздников: русск.: Рождество Христово, Рождество Пресвятой Богородицы, Введение во Храм Пресвятой Богородицы, День Святой Троицы, Вход Господень в Иерусалим – Неделя ваий; укр.: Рiздво Христове, Рiздво Пресвятої Богородицi, Введення в Храм Пресвятої Богородицi, День Святої Трiйцг, Вхiд Господнiй у Єрусалим – Тиждень Квiтна; польск.: Boze Narodzenie, Swieto Narodzenia Bogurodzicy, Ofiarowanie Najswi ’etszej Maryi Panny;
в) названия великих недвунадесятых праздников: русск.: Обрезание Господне, Рождество святого Иоанна Предтечи, Усекновение главы святого Иоанна Предтечи, Покров Пресвятой Богородицы, память святых апостолов Петра и Павла; укр.: Обрiзання Господнє, Рiздво святого Iанна Предтечi, Усiкновення глави святого Iоанна Предтечi, Покров Пресвятої Богородицi, пам’ять святих апостолiв Петра i Павла; польск.: Swi’eto Narodzenia Jana Chrzciciela, Obrzezanie Panskie, Swie’to Sci’ecia Glowy Jana Chrzciciela;
г) названия праздников, посвящённых святым, без указания на событие или обстоятельства, связанные с установлением праздника: русск.: память пророка Илии, память священномученика Ермогена, Патриарха Московского и всея Руси; укр.: пам’ять пророка Iллi, пам’ять священномученика Єрмогена, Патрiарха Московського i всiєї Русi;
д) названия празднований в честь иконы Божией Матери: русск.: «Нечаянная Радость»;
е) названия рождественских праздников: русск.: Рождественский сочельник, Крещенский сочельник, Святки; укр.: Рiздвяний святвечiр, Водохресний святвечiр, Святки; польск.: Wigilia;
3) названия католических праздников и событий: русск.: Благовещение Пресвятой Богородицы, Богоявление; Воскресение, Вознесение Господне, Тайная Вечеря; укр.: Благовiщення Пресвятої Богородицi, Богоявлення; Воскресiння, Вознесiння Господнє, Таємна Вечеря; польск.: Zwiastowanie Najswie’tszej Maryi Panny, Nowy Rok, Boze Narodzenie, Objawienie Panskie, Wielkanoc, Wniebowstapienie Panskie, Ostatnia Wiecierza;
4) названия мусульманских праздников: русск.: Байрам, Рамазан (Рамадан), Навруз укр.: Байрам, Рамазан (Рамадан), Навруз; польск.: Bajram, Ramadan, Nawruz;
5) названия иудейских праздников: русск.: Ханука, Шаббат; укр.: Ханука, Шаббат; польск.: Szabas;
6) названия международных или государственных религиозных праздников, придуманные их организаторами: польск.: Kongres Eucharystyczny we Wroclawiu, Tydzien modlitw o Jednosc Chrzescijan;
7) названия религиозных исторических событий: русск.: раскол, уния, крестовый поход, реформация; укр.: Рiздвяний пiст, Рiздво, Святий вечiр, м’ясниц (масляниця), Водохрещi, Благовiщення, Стрiтення, Великий пiст, Страсна (свята) п’ятниця, Великдень (Свято свят), Вербна недiля; польск.: wielka schizma, unia, wyprawy krzyzowe, reformacja.
19. Названия религиозные обычаев и традиций: русск.: субботки, славить Христа, коляда, колядовать, христосование; укр.: славити Христа, коляда, колядувати, хрiстосованiє; польск.: swi’etopietrze, obchodzic dziesi’eciny, zapusty, andrzejki, mikolajki, pawelki, dyngus.
20. Названия служб и её частей:
1) христианская служба: русск.: Акафист Божией Матери пред Казанской Её иконою, акафист, Великий канон, вечерня, всенощная, Евхаристический канон, крестный ход, литургия, мша, панихида, Последование ко Святому Причащению, последование, Служба Святителю Николаю, служба, утреня, чин; укр.: вiдправа, лiтургiсати, набоженство, правити, служба, служити; польск.: droga krzyzowa, gуrskie zale, liturgia godzin, pasterka, suma;
2) названия православных служб суточного круга: русск.: вечерня, повечерие, утреня, часы Великой Пятницы, великая вечерня, рождественские часы, царские часы, крещенские часы, Андреево стояние, Мариино стояние; укр.: всеношна, вечiрня, повечери’я, полуношниця, утреня, перший час, третiй час, шостий час, дев’ятий час, Лiтургiя, Служба Бож); польск.: jutrznia, Wielki Piatek, Wielka sobota;
3) названия литургий: русск.: Божественная литургия, Литургия Преждеосвященных даров, Златоустова, Литургия святого Василия Великого, Римская месса, Литургия Апистольских постановлений, Литургия святого апостола Якова брата Господня, евхаристия;
4) названия приватных богослужений: русск.: акафист, молебен, панихида, похороны; укр.: акафист, дев’ятини, молебень, панахида, парастас, похорон, сороковини; польск.: аkatyst, uslugi pogrzebowe, pogrzeb;
21. Названия молитв, проповедей, песнопений: русск.: антифон, икос, Трисвятая (молитва), Херувимская песнь; укр.: Катавасiя, Кондак, Канон, вiдпуст, єктенiя, богородичен, воскресний, молебень – параклис, отпустительний, стиховнi, троїчен; польск.: ektenia, antyfona.
22. Названия религиозных действий и жестов: русск.: прикладываться ко кресту, к мощам; укр.: благословення, головопреклонiння, колiнопреклонiння, пiднесення рук, поклiн; польск.: czynienie znaku krzyza dwoma palcami, dwupalcowy znak krzyza, возблагословить.
23. Названия подаяний, денежных приношений: русск.: милостынька, приклад, подаянье, свечные деньги, сороковина;
24. Покупка церковных должностей: русск.: симония, святокупный, святокупство; укр.: симонiя, святокупний, святокупство; польск.: swie’tokupstwo;
25. Названия, связанные с административно-территориальным делением:
1) названия административных церковных подразделений: русск.: патриархия, епископия, иерархия (округ иерарха), митрополия; укр.: патрiархiя, епископия, iерархiя (округ iєрарха), митрополiя; польск.: dziekanat, archidiecezja, diecezja, parafia, kustodia;
2) названия органов церковной (религиозной) власти: русск.: Поместный Собор, Архиерейский Собор, Священный Синод, Международная Исламская конференция; укр.: Помiсний Собор, Архiєрейсъкий Собор, Священний Синод, Мiжнародна Iсламсъка конференцiя; польск.: wladze eparchialne, rada eparchialna, Polski Autokefaliczny Kosciol Prawoslawny w RP;
3) названия религиозных собраний, организаций: русск.: Синод (собор высших духовных лиц), Вселенские соборы, церковь, Чёрный собор, Всемирный Совет Церквей; укр.: Синод (собор вищих духовних осiб), вселенськi собори, церква, Чорний собор, Всесвiтня Рада Церков; польск.: zebranie eparchialne;
4) названия учреждений Московского Патриархата: русск.: Отдел внешних церковных связей Московского Патриархата; Издательский Совет Московского Патриархата; Издательство Московской Патриархии; Учебный комитет при Священном;
5) названия местных органов церковной власти: русск.: Епархиальное собрание, Епархиальный совет, Приходский совет; укр.: єпархiальнi збори, єпархiальна рада, Парафiяльний рада; польск.: biskupstwo, diecezja;
6) названия религиозных органов власти других религий: русск.: епископат; укр.: епископат; польск.: episkopat, Konferencja Episkopatu Polski;
7) названия духовных учебных заведений: русск.: семинария, раввинское училище, приходская школа, дикастерия, академия, семинария; укр.: семiнарiя, рабинське училище, парафiяльна школа, дикастерiя, академiя; польск.: Wyzsze Seminarium Duchowe Archidiecezji Krakowskie.
26. Названия религиозных учреждений и их структурных подразделений:
1) названия храмов, мест отправления религиозных обрядов:
а) названия храмов: русск.: церковь, костёл, синагога, кирха, мечеть; укр.: церква, костел, синагога, кiрха, мечеть; польск.: Kosciol, Cerkiew;
б) названия монастырей: русск.: монастырь, кеновия, пустынь, усыпальница, аббатство; укр.: монастир, кенова, пустель, усипальниця, абатство; польск.: klasztor, cela pustelnika, odosobnienie pustelnika;
в) названия храмов других религий, молитвенных домов, культовых зданий: русск.: дацан, мечеть, часовня, синагога; укр.: дацан, мечеть, каплиця, синагога; польск.: synagoga, meczet;
г) названия мест для молитвы, комнат для молитвы: русск.: образная, крестовая, молитвенница, мольбище; укр.: образна, хрестова, молiтвеннiца;
2) Названия Церквей и религиозных объединений:
а) названия, относящиеся к Церкви: русск.: Святая Церковь, Единая Святая Соборная и Апостольская Церковь, Тело Христово; укр.: Свята Церква, Єдина Свята Соборна i Апостольська Церква, Тiло Христове; польск.: Kosciol Swi’ety, Cialo Chrystusa;
б) названия православных церквей: русск.: Константинопольская Православная Церковь, Православная Церковь в Польше, Православная Церковь в Америке; укр.: Константинопольська Православна Церква, Православна Церква в Польщi, Православна Церква в Америцi; польск.: Cerkiew Konstantynopola, Kosciol prawoslawny w Polsce, Kosciol Prawoslawny w Ameryce;
в) официально зарегистрированные собственные имена церквей и храмов:
– названия освящённых храмов: храм во имя святителя Тримифунтского Спиридона;
– названия храмов, освящённых в честь какого-либо праздника или иконы: храм в честь Успения Пресвятой Богородицы, храм в честь Чуда Архистратига Михаила, храм в честь Владимирской иконы Божией Матери;
– названия храма в сокращённой форме: Николаевский храм (или Никольский, Успенский храм);
– названия храмов, имеющих собственные названия, единичные: Кулич и Пасха, Никольский Морской собор, Князь-Владимирский (не Владимирский) собор;
– названия монастырей: Московский Данилов монастырь, Одесский Успенский монастырь, Виленский Свято-Духов (не Духовский) монастырь, Троице-Сергиева Лавра, Киево-Печерская Лавра, Почаевская Успенская Лавра;
– названия благочиний и представительств за рубежом: Русская Духовная Миссия в Иерусалиме, Представительство Русской Православной Церкви при Патриархе Антиохийском и всего Востока, Представительство Патриарха Московского и всея Руси в Нью-Йорке, Венгерское православное благочиние, Патриаршие приходы в Финляндии, Патриаршие приходы в США и Канаде, Западноевропейский Экзархат, Среднеевропейский Экзархат;
г) названия неправославных церквей: Ko[ciуB Ewangelicki, Ko[ciуB episkopalny, Римско-Католическая Церковь, Евангелическо-Лютеранская Церковь, Методистская Церковь, Протестантские Церкви, Древняя Неразделённая Церковь, Ориентальные Православные Церкви (нехалкидонские);
д) названия старообрядческих общин и толков: Московская Преображенская старообрядческая община, Рижская Гребенщиковская старообрядческая община, федосеевский толк, поморский толк.
Анализ классификаций позволил заметить, что вся лексика условно может быть разделена на 26 лексических групп (подгрупп), которые, в свою очередь, можно объединить в три более крупные группы:
1) Бог (высшие существа);
2) человек (верующий в Бога);
3) институт Церкви.
Бо́льшая часть религиозной лексики связана Институтом церкви, с религией. Об этом свидетельствует и полученная классификация. Это в очередной раз убеждает нас в правильности вывода о том, что из всех приведённых выше терминов наиболее адекватным является термин «религиозная лексика».
Литература
1. Антушева Е. К этимологии христианской лексики: Диссертация на соискание учёной степени magister atrium по русскому языку. – Тарту, 2005. 131 c.
2. Булавина С.В. Русские устойчивые словосочетания, содержащие церковно-религиозную лексику: Автореферат дис ... канд. фiлол. наук: 10.02.01. – Воронеж, 2003. 24 с.
3. Гадомский А. К. Определение религиозной лексики как одна из проблем современной теолингвистики // Диалог культур. Теория и практика преподавания языков. Материалы II международной научно-практической конференции, посвящённой 30-летию первого выпуска иностранных студентов филологического факультета 6–8 сентября 2007. – Симферополь: Издательство «ДОЛЯ», 2008. С. 135–146.
4. Гадомский А.К. Польская и русская религиозная лексика: попытка систематизации // Крымско-польский сборник научных работ. Krymsko-polskie zeszyty naukowe. Кримсько-польський збiрник наукових праць. Т VI. – Симферополь: Универсум, 2007. C. 287–296.
5. Гадомский А.К., Гадомская Г П. Изучение религиозной лексики в украинской теолингвистике ХХ–XXI ст. // Теолингвистичка истраживања српског и других словенских jезика. Зборник научних радова. – Белград: Српска академиjа наука и уметности. Одељење jезика и књижевности, 2013 (в печати).
6. Горбач О. Україська народна релiгiйно-християнська термiнологiя й лексика // О. Горбач. статтi до 1000-лiття християнiзацiї Руси-України. Б. м., 1991. С. 99–46.
7. Грицак Є. Вплив церкви й релiгiї на українську мову (Студiя з дiлянки української лексикографiї. II Mie’dzynarodowy zjazd slawistyw (Filologyw slowianskich): Ksi’ega referatуw I. Sekcja I: J’ezykoznawstwo. Warszawa, 1934. С. 34–38.
8. Журавлев С.А. Религиозная лексика и прагматика словаря / С.А. Журавлев // Русская и сопоставительная филология: состояние и перспективы: Международная научная конференция, посвящённая 200-летию Казанского университета (Казань, 4–6 октября 2004 г.): Труды и материалы: / Под общ. ред. К.Р. Галиуллина. – Казань: Издательство Казанского Университета, 2004. C.290–291.
9. Iсторiя української мови: Лексика i фразеологiя / За ред. М. Русанiвського. – К.: Наукова думка, 1983. 741 с.
10. Ковалiв П. Лексичний фонд лiтературної мови Київського перiоду (X–ХIV ст.): Запозичення. Нью-Йорк, 1964. 280 с.
11. Королева И.А. Православная сакрально-богослужебная лексика в современном русском языке и в художественном тексте: Дис. ... канд. филол. наук. Королева И.А. Православная сакрально-богослужебная лексика в современном русском языке и в художественном тексте Волгоград, 2002. 186 с.
12. Огiенко I. (Iларiон). Етимологiчно-семантичний словник української мови. Т. 1–3. Вiннег, Т. 1. – 1979; Т. 2. – 1982; Т. 3. – 1988.
13. Огiенко I. Церковний словничок. – Холм: Свята Данилова Гора, 1943. 48 с.
14. Осинчук Ю.В. Iсторiя богослужебно-обрядової лексики української мови:
Дис... канд. фiлол. наук: 10.02.01; Iнститут української мови НАН України. – Київ, 2008. 231 с.
15. Осинчук Ю.В. Iстopiя україської богослужбово-обрядової лексики: Монографiя. – Київ: Iнститут української мови НАН України, 2009. 176 с.
16. Петухова М.Е. Функциональные особенности церковной лексики с предметным значением в русском языке: Автореферат дис ... канд. фiлол. наук: 10.02.01. – Казань, 2003. 24 с.
17. Пиддубна Н. Формування номенклатури назв релiгiйних споруд в українськiй мовi Дис... канд. фiлол. наук: 10.02.01; Харкiвський держ. педагогiчний ун-т iм. Г.С. Сковороди. – Харкiв, 2000. 208 с.
18. Пуряєва Н.В. Формування української церковно-обрядовї1 термiнологiї (назви богослужбових предметiв): Дис... канд. фiлол. наук: 10.02.01; Iнститут української мови НАН України. – Київ, 2001. 234 с.
19. Розенталь Д.Э., Джанджакова Е.В., Кабанова Н.П. Справочник по правописанию, произношению, литературному редактированию. – М.: ЧеРо, 1999. 400 с.
20. Скляревская Г.Н. Словарь православной церковной культуры. – М.: Наука, 2000. 280 с.
21. Худаш М.Л. Лексика українських дiлових документiв кiнця XVI – початку XVII ст. (на матерiалах Львiвського ставропiгiйського братства). – К.: Вид-во АНУРСР, 1961. 164 с.
22. Юрковский М. Староукраїнська сакральна термiнологiя // Варшавськi українознавчi записки. Варшава, 1988. С 75.
23. Юрковский М. Українськi назви храму // Греко-католицький церковний календар. – Варшава, 1987. С. 71–73.
24. Ярмульская И.Ю. Духовное послание в документоведческом и стилистическом освещении: Автореф. дис. канд. филол. наук: 10.02.01. – Волгоград: ВолГУ 2006. 24 с.
25. Klich E. Polska terminologia chrzescijanska, Poznan 1927.
26. Przybylska R., Przyczyna W. (red.). Zasady pisowni slownictwa religijnego, Tamуw 2004.
27. Winiarska I. M. Slownictwo religijne polskiego kalwinizmu od XVI do XVIII wieku na tle terminologii katolickiej, Warszawa 2005.
Перевод «Богословия» прп. Иоанна Дамаскина архиепископа Московского Амвросия (Зертис-Каменского): традиционное и индивидуальное в языке и стиле2
Н.Г. Николаева
иеродиакон Амвросий (Горновский)
Статья продолжает серию работ, посвящённых переводу «Богословия» прп. Иоанна Дамаскина на церковнославянский язык, выполненного во второй половине XVIII века архиепископом Московским Амвросием (Зертис-Каменским). В данной публикации рассматриваются особенности церковнославянского языка этого перевода в контексте традиции и в связи с процессами секуляризации русского литературного языка, отмечаются общие переводческие установки архиепископа и индивидуальные переводческие находки.
Ключевые слова: история церковнославянского языка, славянская традиция «Богословия», переводные памятники, духовное образование.
Translation of St. John Damaskin’s «Divinity» by archbishop of Moscow Amvrosiy (Zertis-Kamenski): traditional and individual features of language and style
Natalia G. Nikolayeva
Hierodeacon Amvrosiy (Gornovski)
The article continues a series of works devoted with Church Slavonic Translation of St. John Damaskin’s «Divinity», made in the second half of the XVIIIth century by archbishop of Moscow Amvrosiy (Zertis-Kamenski). The features of Church Slavonic language of this translation are considered in traditional context and in connection with processes of secularization of literary Russian. The common translator principes and individual archibishop’ finds are marked.
Трактат Дамаскина «Точное изложение православной веры» известен в славянской традиции более под названием «Богословие», а история его началась в X веке, когда к нему впервые обратился славянский духовный деятель и переводчик – болгарский экзарх Иоанн, непосредственный продолжатель заложенных Кириллом и Мефодием традиций. Этот перевод был авторитетен на протяжении многих веков: он переписывался, исправлялся, дополнялся, служил основой для новых переложений. К XVI веку, однако, он стал восприниматься как устаревший – об этом пишет князь Андрей Михайлович Курбский, сподвигшийся вместе со своим младшим другом и единомышленником на создание новой церковнославянской версии «Богословия», в предисловии к этому переводу [1]. Эта версия, созданная уже в годы эмиграции князя, не была распространена в Московии. Исследователь труда Экзарха Иоанна К. Калайдович в XIX веке знает только три перевода «Богословия»: перевод болгарского экзарха, перевод Епифания Славинецкого и перевод архиепископа Амвросия.
К. Калайдович сделал небольшую попытку сравнения трёх текстов (перевод Курбского, как мы писали, не был ему известен) и пришёл к следующим выводам: «Перевод Иоаннов, несмотря на глубокую древность, чист и ясен; Епифаниев, по излишней буквальности, иногда тёмен; а Амвросиев, как новейший, служит пояснением и того и другого» [2, с. 37]. Таким образом, и спустя более полувека после создания перевода владыки Амвросия он воспринимался как новый и понятный, что уже само по себе может считаться его высокой оценкой. Эта оценка означает, что архиепископ в своём труде ориентировался на живой для своего времени – в богослужебной и церковно-книжной сфере – церковнославянский язык, сумев выразить на нём все тонкости православной догматики сочинения Дамаскина.
Надо отметить, что с формальной стороны архиепископ Амвросий сохраняет в первую очередь наиболее типичные и живые (то есть понятные, находящие отклик у носителей русского языка) черты классического церковнославянского языка. Это, прежде всего, касается словообразовательных особенностей лексического состава его текста: в нём традиционно много словосложений, в том числе и не подкреплённых соответствующими по структуре эквивалентами греческого оригинала, при этом многие словосложения имеют значение и функцию элатива. Например: греч. ῥήτα – слав. ꙋдобог҃лема [3, л. 2], греч. συνοχη – слав. союзосплетенїе [3, л. 4], греч. διειδε – слав. чистовидная [3, л. 43], греч. δεκτικόν – слав. ꙋдобоприятельна [3, л. 43], греч. ὀργανικω слав. органочленнагѡ [3, л. 52об.], греч. ὀρμήν – слав. склонностремительномꙋ [3, л.53об.], греч. χόλος – слав. острожелчїе [3, л. 56об.], греч. κεχρωσμένον – слав. цветовидное [3, л. 57об.], греч. μεταξΐ – слав. междоместное [3, л. 57об.], греч. οξύτητα – слав. острогласїе [3, л. 57об.], греч. φυτά – слав. садоращениѧ [3, л. 68]; греческие слова с ἀπρίατίυμ передаются словосложениями с первым элементом неудобо-: ἀδιάγνωστα – неꙋдоборазпознаваема [3, л. 36об.], ἀνίατο – неꙋдобосцелен [3, л. 72об.] и т. п.
В русле той же тенденции можно рассматривать замену простого греческого слова словосочетанием типа: греч. ἄγει – слав. предводительствꙋющее бывает [3, л. 63].
Элативные образования, называющие и характеризующие сущности и явления трансцендентной сферы, имеют в своём составе префиксоиды все-, пре-, само-, эквиваленты которых также необязательно присутствуют в греческом тексте, например: греч. ὑπερτβλὴ «καὶ προτέλειο» ‘сверхсовершенный и предсовершенный’ в переводе получают дополнительный признак превосходства – самопресовершенный и вся предсовершающїй [3, л. 7], греч. ἀπεροδύναμον ‘безгранично сильное’ Амвросий передаёт как всепремогꙋщее [3, л. 9], греч. πάντων κρατούσαν καὶ ἀρχούσαν ‘всем правящую и владеющую’ переводится как вседержителнꙋю и гд҃оначалнꙋю [3, л. 9об.], греч. κίνησΐ ‘движение’ – как самодвижность [3, л. 16об.], греч. ποιητη ‘творец’ – слав. вседетель [3, л. 29], греч. σφαιροειδη’ ‘шаровидное’ – слав. самокрꙋговидное [3, л. 34], греч. ἀριστοτέχνην ‘лучшего созидателя’ – слав. всехитраго хꙋдожника [3, л. 36], греч. πρεπωδέστατο‘достойнейший’ – слав. всеприличнейший [3, л. 51об.] и т. п.
Менее коррелирующие с живым русским языком черты, как то: употребление оборота «дательный самостоятельный», субстантивированных инфинитивов, также сохраняются в его тексте, но в гораздо меньшем объёме, чем в переводах его предшественников. Эти элементы воспринимаются уже как приметы высокого стиля внутри самого церковнославянского. Вот несколько примеров с дательным самостоятельным: греч. τοῦ ἡλίου τῆς δικαιοσύνης τοὶς δίκαίοις ψαιδρως ἐπιλάμποντος – слав. солнцꙋ правды, праведнымъ ѧснѡ прїѡсїѧвающꙋ [3, л. 29об.], греч. τοὺ γὰρ οὐρανοῦ καὶ τῶν λοίπῶν ἀστέρων ἐξ ἀνατολης ἐπὶ δυσμὰς κίνουμένων – слав. ибо небꙋ и протчымъ ѕвездамъ ѿ востѡкъ на запады движꙋщымсѧ [3, л. 34об.–35] и т. п.
Также в переводе владыки Амвросия очень незначительное количество субстантивированных инфинитивов типа еже быти – черта, заимствованная церковнославянским из греческого и не имевшая, в сущности, опоры в народно-разговорных славянских языках. Частотный в текстах такого типа греческий термин τὸ εἶναι чаще всего передаётся как бытїе – слово, находящееся в то время в процессе терминологического оформления, но имеющее все предпосылки для того, чтобы термином стать. В этой ситуации архиепископ порой склонен к его уточнению (например, греч. αὐτο τὸ εἶναι переводит как самое свое бытїе [3, л. 15], но привычного в средневековом церковнославянском субстантивата в большинстве случаев избегает.
Нами обнаружены немногие примеры такого употребления, в том числе при описании свойств Божественного естества эти греческие по сути формы появляются в следующем фрагменте: Несозданное, везначалное, везсмертное, везконечное, невещественное, вечное, бл҃гое, вседетелное, првⷣное, просветителное, неизменное, везстрастное, неѡписанное, невместимое, везтелесное, везпределное, невидимое, непостижимое, неѡскꙋдное, самодержавное, самовластное, вседержителное, животворящее, всемогꙋщее, всесилное, везконечномощное, ѡсщ҃ающее, и подаваемое, и еже содержати и еже сохранѧти всѧческаѧ, и ѡ всꙍхъ промышлѧяти: сїѧ всѧ (гл҃ю) и такѡвая в естестве своемъ имать [3, л. 27об.]. Субстантивированные инфинитивы вписываются здесь в ряд отадъективных субстантиватов, являющихся яркой приметой церковнославянского языка.
В следующем примере использование субстантивированного инфинитива, по- видимому, обусловлено семантикой самой фразы в целом, переводчику необходим был наиболее нейтральный вариант выражения понятия воли, в наиболее общем смысле, без семантических нюансов, которые неизбежно сопровождают любое морфемное производное слово, так что он описывает это понятие с помощью традиционного средства церковнославянского языка: воля бо есть самаѧ простаѧ сила, еже хотети (греч. τὸ θέλειν) [3, л. 64об.].
Субстантивированные инфинитивы появляются и в цитатах из Писания, имеющих стабильное употребление именно в такой форме, например: древо же, еже разꙋмети доброе и лꙋкавое (Быт.2:17) [3, л. 50об.]. Интересно, что ни Курбский, ни Славинецкий цитаты либо не узнали, либо решили перевести её вольно, не опираясь на традицию: древо же веданїе добра ї зла [1, л. 43] у Курбского и древо же знанїѧ добрагѡ и лꙋкавагѡ [4, л. 18об.] у Славинецкого.
Надо заметить, что в переводе Амвросия несколько меньше и доля субстантивированных прилагательных, чем обыкновенно в традиционном церковнославянском тексте. Связано это с тем, что субстантивированное прилагательное не воспринимается уже однозначно как передающее нераздельно качество с его носителем – возникает потребность вычленить качество и обозначить его носителя. Таким образом, конкретизируется качество: прилагательное, по А.А. Потебне, всегда конкретнее субстантивата, поэтому важно, чтобы качество прилагалось к некоей вещи, а к какой именно – не так существенно. При этом обозначение качества, несомненно, важнее, чем определение носителя, субстанции, которая не определена, несущественна, всеобща, поэтому в большинстве случаев она получает наименование вещь. В переводе Амвросия это слово появляется ещё также несомненно под влиянием латинского res, которое ещё раньше десубстантивировало прилагательные оригинала, превращая их в словосочетание. Например: созданных вещей союзосплетенїе [3, л. 4] – греч. ἡ τῆς κτίσεως συνοχη; – лат. rerum creatarum compage; некїѧ вещи сꙋщество [3, л. 5об.] – греч. τὴν τινος οὐσίαν – лат. rei alicujus naturam; иныѧ некїѧ вещи [3, л. 17] – греч. ἤ τινος ἑτέρου – лат. aut alterius cujusdam rei.
Кроме слова вещь, Амвросий употреблял и другие лексемы, которые передают наиболее общие нюансы характера носителя признака. Например: τὸ λογικόν – словесное действие [3, л. 40], τοῦ παθητικοΰ – страдателнаго свойства [3, л. 61] и т. п.
Приём своего рода «прививки» традиции обновлённому церковнославянскому заключался в сознательном контактном употреблении старого, традиционного, и нового. Так, греческое слово σύμβολον и его производные в первых славянских переводах передавалось как знаменїе (и его производные), а с XVI века в текстах этого типа используются и заимствованные лексические единицы. Владыка Амвросий соединяет в своём переводе обе традиции: συμβόλοΐ передаётся у него как сѵмволїческихъ знаменїй [3, л. 20].
В предисловии к своему труду владыка Амвросий ведёт скрытую полемику с автором предшествующего перевода «Богословия» на церковнославянский язык – Епифанием Славинецким. Он говорит, что единственной причиной, толкнувшей его на такое нелёгкое дело, как перевод Богословия, является великое историческое значение и огромная польза творений преподобного Иоанна Дамаскина. В конце предисловия он пишет: «Безпристрастномꙋ читателю предоставлѧетсѧ сꙋдить о доброте как прежнѧго так и сего новаго перевода: тот без сꙋмнениѧ полезнеишим почестьсѧ должен, в коем чистота, внѧтность, и приѧтность преимꙋществовать бꙋдет». Создаётся впечатление, что он тактично намекает на истинную причину возникновения своего перевода, а именно на то, что творение его предшественника непонятно и не отвечает современным требованиям. Однако при внимательном вчитывании в текст перевода Амвросия можно обнаружить неоднократные пересечения его с переводом Славинецкого. Особенно это заметно на примере совпадения таких характерных и редких форм, как заꙋщаетсѧ (не от ꙋхо, а от ꙋста) [3, л. 8об.] – ἐπιιστομιζέσθω, простотствꙋющих простота [3, л. 21об.] – τῶν ἁπλουμένων.
Следующие выборочные примеры несомненного влияния перевода Славинецкого на перевод Амвросия (речь идёт прежде всего об излюбленных Славинецким словообразовательных типах или необычных переводческих вариантах, перенятых Амвросием – мы опускаем в данном списке структурные кальки, которые могли появиться в переводах независимо друг от друга) покажем в таблице:
| греческий | Епифаний Славинеикий | архиепископ Амвросий |
| ἀληθεύωσι | истинствꙋют [4, л. 12об.] | истинствꙋют [3, л. 33] |
| κοσμογενείᾳ | мїробытїи [4, л. 12об.] | мїробытїѧ [3, л. 34] |
| φοτὸς δοχεῖον | света прїѧтелище [4, л. 14] | света прїѧтелище [3, л. 37об.] |
| ὅμορα | кꙋпнопредельнаѧ (народы) [4, л. 16] | кꙋпнопределнїи [3, л. 44] |
| διατρητὸς | проскважнита [4, л. 16об.] | проскважистаѧ [3, л. 45] |
| ὑπόνομος | подровенникы [4, л. 16об.] | подровенники [3, л. 45] |
| θημυδίας | дꙋшесладостїѧ [4, л. 17об.] | дꙋшесладостїѧ [3, л. 48об.] |
| προσεδρίᾳ | приседению [4, л. 18] | приседенїи [3. л. 50] |
| αἰσθητήρια | чꙋвствила [4, л. 20об.] | чꙋвствила [3, л. 57] |
| ὑπερῷα | превыспрьница [4, л. 21] | превыспреница [3, л. 58] |
| αποτέλεσμα | совершенство [4, л. 23] | совершенство [3, л. 65] |
| κυρίως | господственне [4, л. 24] | господственно [3. л. 69] |
И т.д. и т. п.
Порой Архиепископ перенимает некие черты перевода предшественника как, по всей видимости, примету высокого церковнославянского, так что даже превосходит Епифания в последовательности их употребления, ср., например, случай употребления глаголов на -ствовати: блꙋдствовати, или целомꙋдрствовати у Амвросия [3, л. 62об.] vs. блꙋдити, или целомꙋдрствовати у Епифания.
Несмотря на то, что в пространном заглавии труда архиепископа значится, что переводил он с греческого, уже в XIX веке было подмечено, что Амвросий ориентировался и на латинский текст «Богословия» (см. предисловие к переводу МДА, 1844 г.). Судя по всему, владыка использовал оба текста – греческий и латинский. И всё многообразие отношений между тремя текстами (греческим, латинским и церковнославянским) весьма существенно для исторической лингвистики и текстологии. Здесь же мы приведём лишь некоторые примеры этих отношений, отражающих воплощение кирилло-мефодиевских традиций искусства перевода в данном тексте. Греч. καὶ πάντων τῶν ὄντων τοὺς λόγους καὶ τὰς αἰτίας ἐν ἑαυτῷ προέχων, лат. rerumque omnium causas et rationes in se continent ‘содержит в себе причины и смыслы всего сущего’ Амвросий переводит как и всехъ сꙋщихъ винословїѧ и вины в себе содержитъ [3, л. 22]. Греч. λόγο и лат. ratio (в латинском переводе явная инверсия) чрезвычайно обширны по своему семантическому объёму и многозначны как термины. В передаче αἰτία/causas переводчик подбирает привычное церковнославянское соответствие – вина. В первом же случае, где речь идёт о сущностных основаниях «всех вещей», переводчик приводит существующее церковнославянское слово винословіе ‘причинность’, которое одновременно актуализирует и генетическую связь со словом вина и семантические нюансы их различия. Появляется же это слово, несомненно, под влиянием обоих исходных текстов как калька-гибрид латинского causa и греческого λόγο. Однако это не единственный случай такого соответствия, ниже Амвросий снова возвращается к эквиваленту винословїе для греческого λόγο, актуализируя тем самым в славянском переводе творящую сущность Логоса [3, л. 69об.].
Вообще, архиепископ Амвросий, ощущая всю понятийную насыщенность греческого слова λόγο, всякий раз переводя его, пытается передать связь между изречённым словом и мыслью, заложенную в греческом термине. Ср.: чрез словесное, или по разꙋму как перевод греч. διὰ τοῦ λογικοΰ, и ниже – словесное, или разꙋмъ (λογικόν) [3, л. 53об.–54]; далее он создаёт словосложение, объединяющее эти значения воедино: словесноразумный как перевод λογικόν [3, л. 70].
Случаев такого взаимовлияния двух языков, подобно вышеописанному, не так много в тексте владыки Амвросия – чаще речь идёт о предпочтении латинского или греческого чтения для выбора славянского эквивалента. Так, явно латинский вариант повлиял на выбор слова в следующих случаях:
| латинский | греческий | архиепископ Амвросий |
| рenetrabilitatem ‘проницаемость’ | τομώτατον ‛сильно въедающееся’ | тонкопроницанїе [3, л. 30] |
| sacrorum magister ‘учитель священного’ | ἱεροτελεστή ‘посвящающий в таинства’ | свѧщенноꙋчитель [3, л. 32] |
| entitatem suam plenam et perfectam ‘его полной и совершенной существенности’ | πλήρους·ὀντότητος ‘полной существенности’ | полные и совершенныѧ сꙋществательности [3, л. 62] |
| de rebus agendis ‘о вещах, которые должны быть’ | πρακτῶν γινομένη ‘о появляющихся действиях (вещах)’ | о хотѧщих быти вещах [3, л. 62об.] |
| voluntatis subjectum ‘подлежащее воле’ | тὸ θελητόν ‘желаемое’ | подлежащее дело к хотенїю [3, л. 64] |
| perfectio ‘совершенство’ | ἀποτέλεσμα ‘результат, исход’ | совершенство [3, л. 65] |
Рассуждая о латинском влиянии, невозможно не коснуться темы: ощущается ли какое-либо воздействие перевода князя А. Курбского на текст архиепископа Амвросия? Известно, что князь переводил «Богословие» в основном с латинского подстрочника, поскольку знал этот язык значительно лучше греческого. Но известно также, что перевод Курбского не получил распространения в Московском государстве.
Невозможно ответить на этот вопрос однозначно. Если и можно обнаружить следы предполагаемого воздействия, то оно было минимальным. Однако примеры, которые можно было бы представить в порядке дискуссии по этому вопросу, весьма любопытны. Так, в главе «Об ангелах» (2-я книга) говорится, что ангелы не подлежат восприятию в (привычном человеку) трёхмерном пространстве; и Курбский, и Амвросий делают пояснения, что значит трёхмерное пространство. Ср. у Курбского в отдельном примечании на полях: всѧкое бо тело три обрлзы величествл имеетъ, сире(ч), до(л)готꙋ, широтꙋ, то(л)стотꙋ [1, л. 28об.]. Амвросий вставляет пояснение в основной текст: [ниже трегꙋбѡ:] сиречь, въ высотꙋ, широтꙋ и глꙋбинꙋ [3, л. 31].
Некоторые варианты перевода у обоих книжников совпадают, но невозможно однозначно сказать, случайны ли эти совпадения или это свидетельства межтекстового взаимодействия. Например, слово circumstantiae ‘обстоятельства’ оба переводчика передают примерно одинаково: ꙗж нарїцаютсѧ, от рїторов частї окрестные [1, л. 57] у Курбского и подробности же сꙋть, ꙗже ᲂу риторѡвъ ѡкрестнѡсти нлрицаютсѧ, [3, л. 66об.] у Амвросия (лат. circunstantiarum particulae) – ср. у Славинецкого: ѡбстоѧтелныѧ части [4, л. 23об.]. Явное сходство обнаруживается и между по приꙋподоблению глⷢ҇ана сꙋть Амвросия [3, л. 20] и ꙋподобительне реченны Курбского [1, л. 18об.] на фоне расхождения греческого υμβολικως ἐστι λελεγμένα и латинского figurate dicta sunt.
Безусловно, что основным текстом, на который ориентировался архиепископ в своём труде, был всё же греческий. Следующие примеры показывают явное предпочтение им греческого чтения латинскому:
| латинский | греческий | архиепископ Амвросий |
| Deus ergo nec oratione ulla explicari <.. > potest | Ἀρρητον οῦν τὸ Θεῖον | иеизглаголанно ꙋбѡ божество его есть [3, л. 1] |
| ut <.. .> nec omnia sermone explicari queant | οὐδὲ πάντα ῥητά | ниже всѧ ꙋдобоглаголема [3, л. 2] |
| corporis causa | πρὸς τὴν τοῦ σώματος σύστασιν | телеснаго ради нашего состава [3. л. 8] |
| in theologia praestantissimus | θεολογικώτατος | богословнейшїй [3, л. 32] |
| vera dicant | Αληθεύωσι | истинствꙋютъ [3, л. 33] |
Наконец, надо отметить, что архиепископ Амвросий обогатил традицию славянского «Богословия» в частности и традицию церковнославянского языка в целом рядом необычных переводческих находок. Приведём несколько интересных примеров: греч. τὸ μὴ ὄν, лат. non est переводчик раскрывает до предложения сꙋщества своего не имеетъ [3, л. 65]. Слово свѧтенію [3, л. 72об.] не находит соответствий ни в греч. ωτηρίαν, ни в лат. salutem, ни в спасенію у Славинецкого. С этой точки зрения интересна фраза ѧкѡ ѡ бжⷭ҇тве и егѡ смотренїи [3, л. 2] у Амвросия – в то время как в латинском, греческом и у всех других переводчиков речь в данном месте идёт не о божественности, а о богословии (τά τε τῆς θεολογίας, τά τε τῆς οἰκονομίας, ea quae ad doctrinam, tum de divinitate, tum de incamatione spectant). Подобно и самою вещію пріѧ [3, л. 3] – при греч. πεῖpαν ἐδέξατο и лат. periculum fecerit – не находит соответствий в предшествующих переводах, которые однозначно говорят об искусе. Похожий пример встречаем и во второй книге [3, л. 50об.]: самою же вещїю – греч. τῷ ὅντι δε (‘по сути’), лат. revera tamen (‘на самом деле’).
Отметить следует и случаи явного логического противоречия перевода Амвросия всем другим вариантам, обусловленные скорее не ошибочным, а осознанным и особым пониманием смысла: ѧже сꙋть в бжтⷭ҇ве [3, л. 17об.] – греч. τὰ ἐν οἷς ἡ θеότης ἤ (‘в которых Божество’), лат. ea, in quibus Deitas est (тот же смысл), в них же бжтⷭ҇во у Славинецкого; или сїе никакоже бꙋдетъ безначалное [3, л. 11об.] – греч. οὐ πάντως ἄναρχον (дословно переведённое Славинецким не всѧчески везначалное), лат. hoc prorsus principio non caret.
Можно отметить и словотворческое начало в переводе владыки Амвросия – сопреискачꙋщее движение [3, л. 16об.], соответствующее греч. ἔξαλμα τῆς κινήσεως, лат. motionis praesultationem и изскаканїе движенїѧ у Славинецкого.
Всё это говорит о том, что кирилло-мефодиевские традиции сохранялись и продолжали своё существование и в творчестве переводчиков XVIII века. Следует уточнить, что мы понимаем под кирилло-мефодиевскими традициями (поскольку это понятие бывает часто или ограничено хронологическими рамками, или содержательно размыто).
Во-первых, поскольку первоучители и их последователи занимались переводом богослужебных и богословских текстов, то и традиции их школы могут относиться только к сфере церковной литературы, потому как специфика этого рода текстов в аспекте влияния их содержания на их построение неоспорима.
Во-вторых, по этой же причине, следует снять хронологическое ограничение действия кирилло-мефодиевских традиций эпохой первых переводов на древнеславянский язык, так как религиозный текст сохраняет жанрово-стилистическое своеобразие, отражённое в его языке, независимо от времени его создания.
В-третьих, при признании выявленных частных методов перевода как дополнительных факторов, основным принципом кирилло-мефодиевской традиции следует считать смысловой перевод: частные приёмы связаны более с языковой личностью переводчика и могут отсутствовать в том или ином тексте – главное основание для причисления текста к названной традиции заключается в соблюдении основного принципа. Насколько глубоко этот принцип вошёл в историю переводов прежде всего церковно-религиозной книжности и укрепился в ней, можно судить по завету святителя Филарета (Дроздова), высказанного им в связи с проектом Московской духовной академии в по созданию новых переводов творений отцов Церкви в середине XIX века: «Если же встретится выражение, которое имеет неблаговидный смысл: надобно найти в нём существенную мысль святого Отца, которая должна быть чиста, и по ней устроить перевод, верный, если не по букве, то идее святого Отца» [5, с. 19].
В-четвертых, должен быть соблюдён баланс между содержательной стороной и формой выражения – это и есть искусство перевода, свойственное кирилло-мефодиевским текстам, то, что делает эти тексты столь выдающимися в истории славянской письменности и что является образцом для последующих переводов их школы.
И наконец, в-пятых, перевод, выполненный в духе кирилло-мефодиевской традиции, должен быть культуро-ориентированным, то есть учитывать закономерности сложившейся культурной среды, в которой выполняется перевод.
Все эти критерии соблюдены в переводе архиепископа Амвросия (Зертис-Каменского). Его перевод являет образец живого церковнославянского языка, продолжающего почти тысячелетние традиции, но и отражающего новые тенденции своего развития, главной из которой можно считать наметившуюся стилистическую дифференциацию внутри самого церковнославянского языка, выраженную в отборе и сочетании старых и новых языковых средств. Судьба церковнославянского языка сложилась так, что едва в нём наметились изменения, определяющие жизнеспособность его как коммуникативного средства, сфера его употребления была ограничена, и это не способствовало его дальнейшему развитию. Однако ту роль, которую определил своему переводу архиепископ в предисловии к нему – духовное просвещение учащихся, – этот перевод может выполнять до сих пор, представляя высокий и жизнеспособный образец церковнославянского языка на службе описания основ православной догматики.
Литература
1. Die Dogmatik des Johannes von Damaskus in der Übersetzung des Fürsten Andrej M. Kurbskij (1528–1583) / hrsg. von J. Besters-Dilger. – Freiburg i. Br.: Weiher, 1995. – LXXX+1025S. – (Monumenta Linguae Slavicae Dialecti Veteris. Fontes et Dissertationes; T.XXXV).
2. Калайдович К.Ф. Иоанн, экзарх Болгарский: исследование, объясняющее историю славянского языка и литературы IX и X столетий. – М., 1824. 218 с.
3. Иоанн Дамаскин, прп. Точное изложение православной веры / Пер. на слав. архиеп. Амвросия (Зертис-Каменского). – М., 1774. 186 л.
4. Сборник переводов Епифания Славинецкого. – М.: Печатный двор, 1665. 410 л.
5. Корсунский И.Н. К истории изучения греческого языка и его словесности в Московской духовной академии. – Сергиев Посад., 1894. 124 с.
Экстралингвистические аспекты перевода Богословия Иоанна Дамаскина кружком князя А.П. Курбского
иеромонах Филарет (Кузьмин С.И.)
В статье рассматриваются различные неязыковые влияния на один из переводов Богословия или Точного изложения православной веры, выполненных в кружке князя А.М. Курбского. Рассматриваются глоссы и «сказы Андрея», как показатели исторической ситуации, в которой пребывает переводчик, стремлений и интенций самой переводческой деятельности, а также демонстрации учёности переводчика.
Ключевые слова: «Сказы Андрея», «глоссы», экстралингвистические аспекты перевода, средневековая учёность.
Статья подготовлена при поддержке РГНФ (проект № 12–34–01322 «Богословие Иоанна Дамаскина в церковнославянской традиции и рецепции»)
Extra-linguistic aspects of translation of Theology of St. John Damascene circle prince AM Kurbskii.
The article discusses the various non-linguistic influence on one of the translations of Theology and precise summary of the Orthodox faith, made in a mug of Prince AM Kurbskii. Considered “glosses” and “Tales of Andrew”, as indicators of the historical situation in which the translator resides, aspirations and intentions of most of translation, as well as demonstrations of translators learning.
В ряду богословских произведений, не теряющих свою актуальность многие столетия, вряд ли можно найти какой-либо труд, равнозначный Богословию (или Точному изложению православной веры) преподобного Иоанна Дамаскина. Выполненный как своего рода компиляция святоотеческого наследия, имеющегося к VIII столетию в Церкви, труд преподобного является первым систематическим изложением православного вероучения. Всё то, что было создано до этого, безусловно, является важным и богословски весьма насыщенным, однако Богословие – это в первую очередь попытка выразить целостную богословскую картину, учитывая множество появляющихся подтем.
В связи с этим положением, Богословие попадало под внимание переводчиков достаточно часто. Так, первый его перевод в Slavia Orthodoxa относится к IХ в. и связывается с именем Иоанна экзарха Болгарского. Далее редактором перевода выступил митрополит Даниил, а чуть позднее появляется сербский перевод творения святого Иоанна. В XVI столетии за перевод Богословия берутся члены переводческого кружка князя Андрея Михайловича Курбского, которые работали в Великом княжестве Литовском, а затем спустя несколько столетий был выполнен ещё один перевод, благодаря архиепископу Амвросию (Зертис-Каменскому). Все эти переводы, безусловно, представляют собой интерес для глубокого лингво-теологического исследования. Вообще «Точное изложение православной веры» Иоанна Дамаскина в (древне)церковно-славянских переводах давно привлекает исследователей как в России, так и за рубежом. В языковом аспекте «Богословие» в переводе Иоанна экзарха Болгарского и других книжников изучалось немецкими и австрийскими славистами (А. Лескиным, Л. Садник, Э. Вайером, Э. Ханзаком, Ю. Бестерс-Дильгер) – круг их интересов составляли особенности перевода, а также текстологическое изучение отдельных памятников. Большой их заслугой является критическое издание почти всех основных переводов «Богословия» на церковнославянский язык (Иоанна экзарха IX века, южнославянского перевода XIV века, перевода А. Курбского и М. Оболенского XVI века). Литературной рецепцией памятника занимался болгарский исследователь Х. Трендафилов. В отечественном языкознании после классического труда К. Калайдовича, посвящённого работе Иоанна экзарха, глубокого описания списков перевода А. Горским, К. Невоструевым и первого издания рукописи Синодального собрания О. Бодянским наступило некоторое затишье в изучении этого памятника. В последние годы этот перевод послужил материалом исследования проблем влияния греческого языка на язык первых переводных славянских памятников (работы М.И. Чернышевой). Существуют исследования по текстологии древнерусских списков (Л. Садник, О.С. Сапожникова и др.). Однако в данной статье речь пойдёт о так называемых экстралингвистических аспектах одного из вышеперечисленных переводов – переводе князя Алексея Михайловича Курбского.
Сразу стоит оговориться, что несмотря на то, что работал князь с группой переводчиков, очень часто переводы носят именно его имя. Быть может, из-за того, что среди прочих он является наиболее обсуждаемой и неоднозначной фигурой. Хотя среди участников рабочей группы, собранной князем Курбским, были лица с не менее драматичной судьбой и не менее оригинальными взглядами. Мы остановились на оценке именно этого перевода, во-первых, из-за времени, в котором он создавался, во-вторых, из-за того, что выполнен он группой исследователей, а значит, несёт на себе отпечаток коллективной мысли, разнообразных воззрений и идей, в-третьих, как кажется нам, этот перевод более прочих является собой картину творчества средневекового ума с множеством так называемых глосс и сказов. Меняется само по себе отношение к тексту и, если ранее редактор (переводчик) позволял себе вносить дополнения и свои мысли непосредственно в текст (так называемые расширения и пр.), то во время работы князя подобная практика уходит из употребления и появляются «сказы Андрея» – весьма объёмные рассуждения Курбского, подтверждающие или дополняющие мысли Дамаскина и вынесенные на поля перевода.
Немного о самом князе и его труде. Идея этого перевода сложилась к 1575 г. и, таким образом, выполненный во второй половине XVI веке, он решал двойственную задачу: с одной стороны, восполнял непереведённые Иоанном Экзархом 52 главы, а с другой – выполнял задачу миссионерского характера. Это очень важное замечание для оценки экстралингвистических аспектов перевода. Оказавшись в ситуации преобладания католического влияния и агрессивного насаждения западного варианта христианства, князь задумался над сохранением «отеческой веры» и решил, что перевод основных памятников станет серьёзным вкладом в дело сохранения православия на земле Великого княжества Литовского. Мощный противокатолический/еретический посыл ощущается на протяжении всего перевода кружка Курбского и является причиной появления большого числа сказов. Так, например, многие пассажи Дамаскина трактуются Курбским, как направленные против либо философских течений, либо против еретических воззрений. Например:
666–147a-21(99):
900: ска(з)
Сіе слово нлписа(л) дама(с)кинъ, проти(в) манихеѧ єретика, он бо полагаеть два начала миробы(т)ствꙋ, £єдино добро, гл҃ще, иже бг҃ь бе(з)плотные и невидимые сотвори(л) анг҃лы и прочие (Chl прочіи) силы, а другое зло иже о(т) него началисѧ, по и(х) мнѣнію видимые и веществен̾ные: на что свидете(л)ство приводѧть о(т) ма(т)ѳеева (Chl маѳеева) £єв(г)ліа иже рекль діаволъ во(з)ве(д)ши ха҃ на горꙋ, всꙗ сіѧ да(м) ти аще па(д) поклониши ми сꙗ, о(т) того слова ᲂутвер̾жаю(т) діꙗвола (Chl діавола) бы(ти) правителе(м) и господо(м), тѣ(х) нижа(и)ши(х) (Chl нижаишы(х)) вещеи; а не разꙋмѣюще сего сіе блꙗдꙋть иже о(н) прескве(р)ны(и) (Chl -нны(и)) вра(г) о(т) преи(з)лишные гор(д)ости сіе х҃ꙋ реклъ, ꙗ(ж) во(з)лагае(т) собѣ всег(д)а чꙋждее (Chl чꙋ́ждое), и ᲂусвоꙗе(т) чего не имѣеть ꙗко прегор(д)ыи дѣмо(н), бго(м) мнѧсꙗ и подобе(н) ємꙋ бытии любопритсѧ, того ради блꙋда и на нике(и)ско(м) (Chl никіискомъ) соборе ст҃ые сіе слово возложили во сты(и) си(м) волъ (Chl си(м)в̾во(л)), вѣрꙋю во єдина(г) бг҃а [сиречь во едино начало] творца нб҃ꙋ (Chl нб҃а) и зе(м)ли, видимы(м) же всѣ(м) и невидимы(м), поне(ж) вси (Chl всѣ) о(т) едина(г), а не о(т) двꙋ нача(л)
или:
1200: ска(з)
Несторіи блѧдослови(л), иже хс҃ роже(н) о(т) дв҃ицы а не бг҃ъ [и не обо(л)чен̾но было плотію слово божіе, ꙗко цр҃ько(в) мꙋ(д)роствꙋе(т) во £єдино(м) бьт(и) (Chl быти) соединен̾на составе, бг҃а соверше(н)на и соверше(н)на чл҃ка єдинаго х(с҃)а] но ходило слово бж҃іе невидимо во свое(и) ипостаси, и чꙋдеса творило, а плотоносе(ц) хс҃ во свое(и) ипостаси: сицевꙋю хꙋлꙋ о(т)рыга(л) нечестивы(и).
Вставки подобные последней – не редки в рассматриваемом переводе. Тем самым автор демонстрирует собственные познания, но, что важнее, пытается бороться с усиливающимися отклонениями в среде христиан. То, что перевод выполнен в эпоху, полную споров, богословских и философских исканий и постоянных рассуждений, несомненно. Ещё одним отражением ситуации, в каковой перевод осуществлялся являются глоссы и сказы, посвящённые языковой ситуации.
Известно, что, хотя сам Курбский жаловался на плохое знание греческого языка, переводил он с греко-латинской билингвы3 и на греческий язык тоже ориентировался.
В системе «текст – глосса» попадаются и слова греческого происхождения, причём в основном в рейхлиновской огласовке, что означает их прямое восприятие, без латинского посредства, например: состав – іпостась, ср. греч. ὑπόστασις (л. 11об.), ѻ́браз – характер, ср. греч. χαρακτήρ (л. 9об.), скініѧ – шатеръ, ср. греч. σκήνη (л. 32), драконы – зміеви великіе, ср. греч. δράκων (л. 38об.), ріторъ – красногл҃ьнїкъ, ср. греч. ῥήτωρ (л.57), катапетазма – препона, або завѣса, ср. греч. καταπέτασμα (л. 127), зᲂуграф – малꙗр, ср. греч. ζωγράφος ‘художник’ (л. 138об.), акровістіѧ – ѻбрѣзокъ, ср. греч. ἀκροβυστία ‘крайняя плоть’ (л. 152), сінагога – сонмїще, ср. греч. συναγωγή ‘собрание’ (л.156 об.), феотокосъ – бц҃а, ср. греч. Θεοτόκο” ‘Богородица’ (л. 83об.), феологіѧ – бг҃ословїе, ср. греч. θεολογία (лл.3:93) и т. п.
Среди сказов, частотны рассуждения, подобные нижеприведённым:
478–100b–17(66):
800: гре(ц)каѧ пословица та́, а по слове(н)скꙋ, ꙗко в сꙋще(м) последꙋетъ
498–105b–19(68):
1400: тропꙋ(с) нариче(т)сѧ (Chl наречетсѧ) фикгꙋра (Chl фигꙋ́ра), або образець а пернфрази(с) по гре(ц)кꙋ выто(л)кова(л) сам дамаскннъ, ꙗко в сꙋщи(м) читаю (Chl чнтаючн) ᲂузришъ
504–107a–21(70):
19оо: ска(з)
по ри(м)ски(и) (Chl римски), релꙗтивꙋ(м), або ад аликвидъ, а по словенъскі(и) (Chl словенски) о(т)носꙗщее, ꙗко о(т)ц҃ь сн҃а ра(ди) гл҃етсѧ, и сн҃ъ о(т)ц҃а ради, ибо никог(д)а же бы наречен̾ былъ о(т)ц҃ъ, аще бы сн҃а не имѣлъ, тако(ж) никогда бы(л) бы нарече(н) сн҃ъ, аще бы о(т)ц҃а не имѣлъ
Каким образом князь оказался в оговорённой выше языковой ситуации, не является нашей специальной темой, но и умолчать об этом нельзя, так как в определённой степени этот факт будет отражаться в мотивации его деятельности. Князь бежит в Великое княжество Литовское от гневного современника – царя Иоанна Васильевича Грозного. Будучи в положении среднем между диссидентом и предателем, князь Андрей Михайлович начинает мифологизировать свой побег из Руси, представляя себя несчастным изгнанником с «земли Божией», – как он сам и пишет, – а по отношению к царю неоднократно применяет всевозможные унизительные эпитеты, называя его по временам «воплощением антихриста»4. Последнее наименование тоже является веянием времени. Христиане жили в так называемом «седьмом дне», то есть ожидали скорейшего окончания мира видимого, которому предшествует появление единовластного правителя церкви и государства, жестокого тирана и гонителя – антихриста, с каковым и отождествляет князь своего противника.
XVI век был весьма насыщен событиями в истории Русской Церкви. После ожидаемого и несостоявшегося «конца света» в 1492 году (в связи с 7000-летием истории от сотворения мира) настроения, обыкновенно сопровождавшие такие ожидания в Средние века, не растворились, но переродились в ощущение надвигающихся со всех сторон угроз для православия. Действительно, ближайшее окружение российского государства составляли страны католические, в которых очень активно действовала иезуитская миссия, стремящаяся подчинить своему влиянию рубежи русских земель. Внутри самого государства силы были направлены на борьбу с множащимися ересями. И всё это на фоне напряжённых отношений светской и церковной властей (эпоха Ивана Грозного) и присоединения новых земель (Казанское ханство) с возникшим в связи с этим идеологическим противостоянием... В такой ситуации опальный князь стремился книжным делом послужить утверждению православия, очищению его догматических основ от сомнительных интерпретаций, которые позволял делать устаревший и испорченный текст первого перевода. Курбский находился буквально на передовой внешнего фронта, должного поставить предел надвигающемуся католицизму, а также дать реакцию на многие сложные вопросы, волновавшие христиан его времени.
Проблемы летосчисления и связанная с этим ситуация, близкая к истерии, о которой свидетельствуют историки, находит отражение и в сказах мудрого князя:
686–152a–25(103):
15°°: ска(з)
аки бы реклъ, ꙗко(ж) во ветхо(м) осмы(м) дн҃е(м) обрзаніа ради сꙋббота разориласѧ (Chl разорѣласѧ); сице и воскр(с)ив̾шаго ради члч(с)тва бг҃а слова, во осмы(и) дн҃ь суббота въ дх҃но(м) (Chl дхꙋвномъ) законе ꙋпра(з)ниласѧ, поне(ж) честь єꙗ на осмы(и) дн҃ь преложиласѧ воскресениѧ ради гн҃ѧ (Chl гн҃ꙗ); такоже и седморичны(и) (Chl -нои)) вѣкь ѹпразднитсѧ (Chl ѹпразнитсѧ) втораго ради хв҃а пришествіѧ, и общаго длꙗ воскр(с)ніѧ и(з) мр҃твы(х) всеѧ члчскіе плоти: понеже о(с)маѧ тысѧща конца не имѣеть, сконча(в)шꙋ бо сѧ се(д)моричномꙋ вѣкꙋ, сире(ч) се(д)мотисещ̾номꙋ (Chl тысѧщномꙋ), осмы(и) же єсть ꙗко окро(м)ніи (Chl -нои) и свобо(д)ны(и) (Chl -нои) о(т) числа се(д)моричнаго: сіе саломо(н) ꙗ(в)лѧеть, да(л) єси часть се(д)мы(м), сире(ч) бы(л) єси в законе мо(и)сѣско(м) (Chl моѵсѣискомъ) почитающе се(д)мые дн҃и и лѣта, и сед̾мъ (Chl се́(д)мые) се(д)миць, єже єсть вилео єгда же ѹпразни(л)сꙗ зако(н) хв҃ы(м) пришествіемъ, даи часть и осмомꙋ, сире(ч) дн҃ю гд҃ьскомꙋ и прочемꙋ пре(д)речен̾номꙋ
Но, кроме того, князь Курбский стремился найти идеологическую основу своего побега, придать ему некий характер героичности, а своей деятельности на «земле чуждей» – миссионерский импульс. Это и стало основанием для развития весьма активной переводческой работы, благодаря которой мы знаем не только князя-диссидента, но и Курбского-переводчика. Неоднократно отмечалось, что вокруг Курбского складывается кружок и поэтому «стоит говорить именно о кружке, а не о конкретно самом переводчике Андрее Михайловиче Курбском»5. В состав кружка в разные годы входили бакалавр Амброджий, князь Михаил Оболенский, старец Артемий, Марк Сарыхозин и Станислав Войшевский.
Здесь сделаем ещё одно замечание относительно означенных выше экстралингвистических аспектов перевода. Как известно, к таковым относят компетенцию, жизненный опыт, личностные особенности и предпочтения переводчика, а также особенности окружающей его действительности, включая политический строй и условия жизни6. Всё вышеперечисленное в полной мере отразилось на переводе князя.
Кроме того, что в своих сказах князь пытается актуализировать миссионерскую направленность перевода, средневековое отношение к учёности не могло не отразиться в нём. И хотя у членов кружка к этому было своё отношение, о чём речь пойдёт ниже, отметим, что ряд сказов обладает ярко выраженным желанием продемонстрировать собственно интеллектуальный багаж переводчика в области естественных наук:
напр.: 36.
9. кометы звѣзды хвостатые, або тѣ(м) подобные (подоб̾ны) (во ѹречен(н)ое бывае(т) то(мꙋ) времꙗ о(т) началъ)
или
57b.
21. сире(ч), ѹро́чище нео(т)мѣн̾ное (нео(ти)ме(н)ное), блѧдꙋ(т) звез(д)очеты (-че(т)цѣ) о(т) пер̾ских̾ вол̾хвовне(й) (волхвованій) навы́кши (навыкшы навыкше), а не о(т) и́стинные (-нныѧ) астро́логіи (астрологіѧ)
в области философии:
15а.
5. ска(з): рекше, ра(з)решите(л)нꙋ о(т) тѣла (плоти), до в̾ремени (времѧни) во(с)кр(с)ниѧ: а не ꙗко епикꙋріꙗ́не (епикꙋріꙗнѧ) глю(т) ищезате(л)нꙋ
богословия:
432–89a–14(63):
16оо: сире(ч) не принѧ(л) х҃с страдалные и терпꙗщіе воли, рекше, мꙋчимые о(т) греховны(х) страсте(и), по прч(с)ту (Chl + и) непорочнꙋ, и ко греху не склонителнꙋ, и никако(ж) послꙋшнꙋ, грехꙋ ꙗко пр(о)ркъ реклъ, се(и) не согреши(л), а ни обреласѧ лесть в (Chl -) ѹсте(х) єго
антропологии:
50b.
5. пріимꙋюще (пріимꙋще), сире(ч), помышленіа о(т) ср(д)ца и(с)ходѧщіе (исходѧщіи) о(т) животные (животныѧ) части дш҃и чре(з) послы̀, рекше, внꙋтрен̾ные (внꙋтрьные) чꙋв̾ства: и позна(в)ши и вырозꙋмѣвши, и ра(з)сꙋди(в)ши, и постановивши ко ѹправленію, посылае(т) къ памети (памѧти) на дѣла исполненіе (исполненый пріимꙋюще и ра(з)сꙋ(ж)дающе)
Теперь перейдём к оговорённому выше отношению членов кружка к этапам постижения истины и мудрости. Во многом это отношение было сформировано, благодаря старцу Артемию, влиянии которого стоит сказать отдельно. Так, в переписке с учеником старца и впоследствии членом кружка князя Андрея Михайловича Курбского Марком Сарыхозином князь говорит о старце как о своём духовнике и учителе. Именно в разговорах с ним родилась идея создания собрания сочинений свт. Василия Великого на русском языке. Преподобный же и вызвался править перевод на современный язык.
На князя большое влияние оказало общение со старцем Артемием также и по вопросу поиска истинности, а главное – и тех методов, благодаря которым эта задача решалась. Рассуждая о том, кто может заниматься книжной деятельностью, князь отвечает, что это должен быть «только сведущий в философии, искусный в Писаниях и смиренномудрый» человек. С позиций современности кажется, что важнейшим всё-таки является не духовная, но интеллектуальная подготовка для переводчика, да вообще исследователя любого текста. На наш взгляд, к подобным выводам князя подтолкнули размышления старца Артемия, которые принимал не последнее участие в деятельности переводческого кружка.
Старец Артемий – фигура для православия XVI века весьма значительная и с драматичной судьбой. Представляя сторону нестяжателей в известном противостоянии с иосифлянами, старец не устраивал иосифлянски настроенную иерархию. Будучи учёным монахом, старец Артемий занимал должность настоятеля Троицкого-Сергиева монастыря, где, по замечанию И.К. Смолича, «в пору своего настоятельства <...> пытался поднять уровень монашеской жизни, и нажил себе много врагов»7. Возможно, что именно по этим причинам на Соборе 1553 года был оклеветан, а попытавшись бежать, был пойман и вызван на Собор уже не в качестве учёного, но обвиняемого. Не вдаваясь в подробности процесса, стоит отметить, что церковные учёные с большой осторожностью говорят о «вине» старца8. Скорее всего, он попал в жерло противостояния и интриг и именно поэтому был осуждён Собором к извержению из сана и заточению в Соловецкий монастырь. Наказание в данном случае абсолютно не соответствовало тяжести «содеянного». После этого Артемий был вынужден бежать в Великое княжество Литовское, с представителями которого имел общение ещё в Псковской земле в Печорском монастыре. Будучи человеком «широкой религиозности», он рассуждал с «литовскими людьми» о вопросах веры. Появившись в Литве, Артемий проявил себя как апологет и церковный писатель с оригинальным взглядом на духовность и монашеское делание.
В это время он начинает вести переписку с Андреем Курбским, и они сходятся во мнении относительно того, что необходимо создавать новые, «чистые» переводы. С одной стороны, как показывает эта переписка, князь полагал, что по причине недостаточной учёности многие погрешают ересью, а идеи, передаваемые святыми отцами, затуманиваются. С другой – старец пишет о том, что из-за недостаточной духовной подготовки многие также впадают в ереси. Старец считает, что понимание приходит только через личную аскезу. Он пишет, что для результативной работы необходимо уединение, переживание своего одиночества и выход к состоянию деятельной любви. Каждый обязательно должен стремиться к «самораспинанию» – так старец именует комплекс аскетических упражнений и духовных практик. Только через этот путь человек может обрести понимание и ви́дение Истины в Писании или в писаниях святых. Видимо, эти идеи и легли в основу постулируемого князем «смиренномудрия». Стоит, однако, отметить и то, что старец никогда не был чужд и не осуждал «общей» учёности. В ранний этап формирования своих богословских взглядов Артемий и к откровенной ереси относился, как к «младенчествованию», «ребячьему» мудрствованию9.
Подводя черту, можно сказать, что грамотность есть лишь ступень к познанию истины, раскрытию её в тексте. Одна лишь грамотность не гарантирует человеку то, что он познает Истину. Но в совокупности с деятельной аскезой, с «самораспинанием» она позволит человеку познать Истину и передать её другим, к чему, собственно, и стремился Андрей Михайлович Курбский и весь его переводческий кружок. Таким образом, истина открывается через соприсутствие, с одной стороны, личной аскезы исследователя и его благочестия и грамотности – с другой.
И проповедуя эти идеи, создавая «чистые» переводы, тем самым князь вновь пытался решить неязыковые задачи обличения своих идеологических врагов (царя Иоанна Грозного), проповеди православия среди агрессивной католической среды, утверждения святоотеческого учения среди еретически настроенной учёной среды того времени.
Кроме сказов Андрея, в переводе представлены также и глоссы – перевод или объяснение какого-то отдельного слова или термина. В переводе Курбского картина глоссирования весьма многообразная: во-первых, наряду с лексико-словообразовательными вариантами достаточно много глосс грамматического характера, но при этом выбор стоит не между формами одного языка, а между грамматическим выражением одного и того же значения в разных языках – церковнославянском и польском; во-вторых, наряду с глоссированием греко-латинских заимствований (в основном новых, многие из которых ещё не освоены к тому времени славянским языком) в системе «основной текст – глосса» обнаруживается и достаточно много польских и белорусских слов. При этом о лексической нестабильности свидетельствует и факт употребления одних и тех же слов как в основном тексте, так и на полях, и факт подбора одному и тому же слову в основном тексте разных глосс.
Приведём следующие характерные примеры с латинскими заимствованиями: славянское воздѹхъ и заимствованное аер (как варианты в разных рукописях и в качестве глосс [лл. 4об.; 22, 36об.]), фортуне: слꙋчаю (и наряду с этим не слѹчаѧ: а҆ не фортѹны, а҆бо казꙋ [л. 5]); аргѹментова́ніа: доводѹ (а также аргѹменты наѹкъ: свїдетелства поѹченеи [лл. 36; 50]); декретом: ѹсꙋжденїемъ (и наряду с этим ѹсꙋжденїем албо ѹложенїем и ѹложенїа албо постановленїа [лл. 52; 53; 54об.]); съ стіхіи: со елементов [л. 5, а также похожие случаи лл. 31, 38, 45], пітꙋітѹ: флꙗкгмѹ [л. 35], окрѹженіе: зразъ албо формѹ [л. 92]; тропꙋс: тропꙋс наричесѧ фикгꙋра або образець [л. 105об.]; лініею: чертою [л.120об.].
Таким образом, среди неязыковых аспектов перевода кружка князя Курбского отметим следующие:
1. Сам по себе перевод нёс миссионерскую направленность и осознавался переводчиками как крайне важная составляющая сохранения истинной веры;
2. Более того, перевод использовался и как средство борьбы со своими идеологическими противниками в сфере политической. Умело используя историческую канву, князь формирует образ царя Ивана Грозного как образ антихриста.
3. Перевод наполнен «нервным» и полным напряжения глоссированием, когда автору трудно определиться с точным соответствием. С одной стороны это явление лингвистического порядка, но с нашей точки зрения, вызвано оно и не языковым влиянием очень сложной среды, в которой авторы перевода живут и работают. Имею в виду разный уровень образованности, разность религиозных воззрений и терминологическую нерешённость.
4. Ещё один показатель неязыковых влияний – сказы. Автор в них стремится продемонстрировать собственную учёность, решить проблемы сохранения чистоты веры, обличить и укорить тех, кто этой чистоте не соответствует.
Необходимо отметить также, что текст перевода являет собой пример укоренения в древнерусской книжности такого явления, как авторский стиль. Индивидуальный стиль существовал всегда, но в высоких жанрах главенствовал канон и приветствовалась анонимность. Здесь же индивидуальные черты настолько ярко обрисовывают языковую личность книжника, что можно говорить о выраженном субъективно-индивидуальном начале в стилистическом рисунке произведений.
Литература
1. Алексеева С.О., Дегтярева А.А., Калошина Н.А. Изучение экстралингвистических аспектов перевода через сравнение двух переводов одного текста. // Вестник СевГТУ. – 2010. – Вып. 102. С. 157–163.
2. Калугин В.В. Андрей Курбский и Иван Грозный. Теоретические взгляды и литературная техника древнерусского писателя. – М , 1998. С. 30.
3. Курбский А.М. Предисловие к «Диалектике» Иоанна Дамаскина. – Классика КнигаФонда, 2013. [Электронный ресурс]. URL: http://www.knigafund.ru/books/ 170987/read.
4. Словарь книжников и книжности Древней Руси. – Вып. 1. – Л., 1987. [Электронный ресурс]. URL: http://Hb.pushkmskijdom.m/Default.aspx?tabid=3701.
5. Смолич И.К. Русское монашество, 988–1917. [Электронный ресурс]. URL: http://www.sedmitza.ru/lib/text/436603/.
Древнерусские письменные церковные памятники в исследованиях казанских историков языка
Г.А. Николаев
В статье показана роль казанских историков русского языка в изучении древнерусских церковно-книжных памятников и участие их в становлении и развитии православной лингвистики.
Ключевые слова: древнерусские церковно-книжные памятники, историкоязыковые исследования, православная лингвистика
Old Russian literary church monuments in researches of the Kazan language historians
G.A. Nikolayev
In the article is shown the role of the Kazan researchers of history of Russian in studying of Old Russian church and literary monuments and their participation in formation and development of Orthodox linguistics.
Key words: Old Russian Church and literary monuments, historical and language researches, Orthodox linguistics
Историко-языковые исследования занимают значительное место в работах лингвистов Казанского университета. В XIX веке, когда закладывались и складывались основные лингвистические традиции в университете, большое значение имело основное методологическое требование Казанской лингвистической школы: рассматривать язык как постоянно функционирующий и одновременно постоянно развивающийся феномен. Сами представители школы Бодуэна де Куртенэ, исходя из этой методологии, занимались активной разработкой проблем живых языков и, прежде всего, в их современном состоянии. Именно благодаря деятельности Московской и Казанской лингвистических школ появился курс современной русской грамматики. Историзм «казанцев» заключался не в источниках исследования, а в принципах рассмотрения языкового материала.
Первой работой, в которой исследовался древнерусский церковный памятник, была большая статья ученика И.А. Бодуэна де Куртенэ А.С. Архангельского «Древне-славянское Евангелие, принадлежащее Обществу археологии, истории и этнографии при Императорском Казанском университете», опубликованная в «Филологических записках» в 1883 году [1]. В ней дано краткое описание евангелия-апракос XIV века в аспекте орфографии, лексики и других особенностей его языка, в отличие от известных в то время церковнославянских текстов, по которым проходили церковные службы. Позднейшие исследования этого евангелия показали, что всё это языковые особенности полного апракоса Мстиславова типа [2, с. 95].
А.С. Архангельскому принадлежит и труд «Творения отцов церкви в древнерусской письменности» (Казань, 1889–1891), докторская диссертация учёного, где рассматриваются древнерусские переводы «сочинений двадцати церковных писателей: Афанасия Александрийского, Василия Великого, Григория Богослова, Ефрема Сирина, Иоанна Златоуста, Иоанна Лествичника, Иоанна Дамаскина и др.» [3, с. 7]. И хотя А.С. Архангельский был специалистом по древнерусской литературе, это его сочинение одинаково интересно и для литературоведов, и для лингвистов.
В советское время историки языка занимались в основном изучением оригинальных древнерусских рукописных памятников, каковыми являются «Слово о полку Игореве», «Моление Даниила Заточника», «Русская Правда»[4], «Уложение царя Алексея Михайловича 1649 года»[5], «Повесть временных лет», «Домострой», сочинения протопопа Аввакума и т. п. Первые послевоенные исследования казанских историков языка тоже были посвящены языку оригинальных русских произведений: лексике писцовых книг города Казани[6] и формам имён в языке судебников XV и XVI вв.[7].
Активное обращение казанских лингвистов к церковно-книжным памятникам связано с именем В.М. Маркова. В науке в то время господствовало мнение о малой информативности церковной литературы для истории русского языка. Эту версию особенно жарко поддерживали московские учёные. В начале 60-х годов В.М. Марков доказал своей исследовательской практикой обратное. На материале языка древнейшей русской книги майской служебной «Путятиной Минеи» XI века он решил проблему причин падения редуцированных гласных в русском языке.
Проблему эту можно было решить только на материале языка древнейших восточнославянских памятников, а таковыми были исключительно церковные книги. Кроме «Путятиной Минеи», В.М. Марков использовал также показания других церковных книг XI–XIV вв.: «Остромирова Евангелия» 1056–1057 гг., «Архангельского Евангелия» 1092 г., софийских миней XII–XIV вв. и др.[8]. Древнейшие новгородские берестяные грамоты подтвердили правильность выводов учёного, сделанных на материале языка церковных книг. Позднее В.М. Марков обратится к исследованию новгородского по происхождению Пантелеймонова Евангелия XII века. В статье об этом Евангелии он уже теоретически обоснует роль церковно-книжных текстов в изучении истории русского языка: с одной стороны, они обращены в старославянское прошлое, с другой – в восточнославянское будущее, т. к. «нет, пожалуй, ни одного языкового явления в этих текстах, которое так или иначе не было связано с реальной историей русского языка» [9, с. 31].
Язык церковных книг исследовался учёными в первой половине ХХ века обычно в аспекте его фонетических и грамматических особенностей. Содержательная сторона языка этих книг не затрагивалась. Очень осторожно это было сделано в работе Г.А. Николаева «Формы именного словообразования в языке Мерила Праведного XIV века»[10] и только потому, что церковная книга исследовалась чуть ли не впервые в аспекте словообразования, которое имело тесные связи с лексикой, семантикой и стилистикой.
Существует несколько типов историко-лингвистических исследований, различающихся соотношением, так сказать, темы, идеи и языкового материала. Первый тип – это исследование конкретной проблемы на протяжении истории языка (например, история звука «ять» в русском языке). Эта проблема решатся на материале многих памятников языка, выстроенных по хронологическому ранжиру. К работам такого типа относится и исследование В.М. Маркова о редуцированных гласных, и работа И.Э. Еселевич «К истории категории собирательности в русском языке»[11].
Второй тип историко-лингвистического исследования – это исследование одной проблемы на материале одного памятника. К такого рода работам относится упомянутая выше кандидатская диссертация Г.А. Николаева. В работах этого направления главным аспектом изучения является функциональный аспект языковых форм. А он так или иначе выходит на содержание исследуемого источника. Но объективность решений проверяется сопоставлением рассматриваемых категорий (здесь: словообразовательных типов) в других текстах, идентичных или неидентичных по содержанию с данным текстом, хронологически совпадающих или не совпадающих с ним. Таким образом, намечается и сопоставительное изучение фактов в рамках лингво-исторического исследования. Но сопоставление может быть применено и внутри одного памятника, если этот памятник разностильный. Таковы летописи, кормчие книги, мерила праведные и др. Так, Мерило Праведное XIV века (Тр. 15) совмещает в себе высокий проповеднический стиль, и более умеренный церковно-деловой стиль переводных византийских законов, и деловой стиль русских юридических текстов, помещённых в Мериле (например, Русской Правды) [12, с. 82].
Наконец, третий тип историко-лингвистических исследований – это комплексное исследование языка одного памятника, его графики, орфографии, фонетики, морфологии или лексики, словообразования, способов текстопостроения и др. К такого типа работам можно отнести диссертации молодых казанских историков языка: Д.Р. Копосова (Слова Серапиона Владимирского)[13], Н.Г. Николаевой (исследование Трактатов Дионисия Ареопагита и «Богословия» Иоанна Дамаскина) (См.[14]–[16]), М.О. Новак (язык Апостола)[17], Т.А. Литвиной (язык Жития свв. Гурия и Варсонофия)[18], Д.Р. Шакировой (язык Жития Авраамия Смоленского)[19], О.В. Чевела (язык древнерусской гимнографии) (См.[20],[21]), Л.А. Москалевой (исследование Паренесиса Ефрема Сирина XIII в.)[22], Э.И. Биккининой (язык Реймсского Евангелия)[23], А.И. Кузовенковой (исследование Паримейника XIV в.)[24], О.С. Пайминой (язык Пандектов Антиоха и других произведений церковного характера по Троицкому сборнику XII–XIII вв.)[25], работы профессора О.Ф. Жолобова (См.[26]–[29]) и др. Все эти работы выполняют важную функцию: они описывают языковые особенности церковных памятников Древней Руси и, можно сказать, создают своего рода энциклопедию языка церковнославянских памятников восточнославянской редакции.
Образцовой работой этого типа можно считать диссертацию Э.И. Биккининой о языке Реймсского Евангелия[23]. О сохранившихся шестнадцати кириллических листах рукописи было написано автором свыше 600 страниц текста. Язык Реймсского Евангелия ею описан исчерпывающе. Затронуты вопросы графики, орфографии, вопросы фонетики, лексики, словообразования, морфологии, синтаксиса, текстопостроения и т. д. Дано палеографическое и кодикологическое описание рукописи. Э. Биккинина ездила в Реймс и изучала рукопись на месте; кроме того, ей сделали прекрасные цветные фотографии всех листов рукописи во Франции. Диссертация написана в Испании, куда переехала выпускница Казанского университета Э.И. Биккинина. Её научным руководителем с российской стороны был профессор Г.А. Николаев.
Следует отметить, что именно работы перечисленных здесь молодых учёных и их руководителей (Г.А. Николаева и О.Ф. Жолобова) вышли на проблемы православной лингвистики, основной среди которых, как я себе это представляю, является проблема соотношения содержания богословского или богослужебного текста и языковых средств его выражения. Для оформления содержания, заключённого в церковных книгах, могут использоваться разные языковые средства: фонетические, лексические, словообразовательные, грамматические. Чаще, конечно, здесь бывает задействована лексика, словообразование, синтаксис. Так, определённую содержательную обусловленность имеет употребление глаголов вѣдѣти и знати или ити, ходити и грѧсти в древних евангельских текстах[30].
Для разграничения божественных сущностей и мирских реалий использовались и морфологические варианты. Причем это были не церковнославянские и древнерусские варианты (это явилось бы само собой разумеющейся истиной), а древнерусские варианты, появившееся в результате исторических изменений в системах склонения и спряжения. Например, дистрибуция форм родительного падежа единственного числа существительных мужского рода на –а и –у или дательного единственного на –у и –ови; ср.: въ имѧ отьца и сына вместо отьца и сыноу и слава отьцу и сыноу вместо отьцу и сынови. Новообразования сына в род. ед и сыноу в дат ед. закрепились в формулах-синтагмах божественного содержания, в то время как в обозначениях мирских реалий сохранялись формы исконных *u– основ (сыноу – сынови). О.Ф. Жолобов, исследовавший это явление, удачно назвал его грамматический символизм[31].
Для разграничения божественных сущностей и мирских реалий использовались и морфологические варианты. Причём это были не церковнославянские и древнерусские варианты (это явилось бы само собой разумеющейся истиной), а древнерусские варианты, появившееся в результате исторических изменений в системах склонения и спряжения. Например, дистрибуция форм родительного падежа единственного числа существительных мужского рода на -а и –у или дательного единственного на -у и -ови; ср.: въ имѧ отьца и сына вместо отьца и сынᲂу и слава отьцу и сынᲂу вместо отьцу и сынови. Новообразования сына в род. ед. и сынᲂу в дат. ед. закрепились в формулах-синтагмах божественного содержания, в то время как в обозначениях мирских реалий сохранялись формы исконных *u– основ (сынᲂу – сынови). О.Ф. Жолобов, исследовавший это явление, удачно назвал его грамматический символизм[31].
В работах казанских историков языка была установлена неоднородность церковно-книжных текстов в жанрово-стилистическом аспекте и установлена градуальная оппозиция их по этому признаку, отражённая в языковых формах. На одном конце этой оппозиции находятся высокие жанры, текст которых наполнен каноническими характеристиками и названиями отвлечённых действий, как правило, из мира морального. Это гимнография (триоди, служебные минеи, октоихи и т. п.), послания, проповеди и т. п. Более спокойный тип повествования мы находим в евангелиях, деяниях апостолов, житиях святых, патериках и т. п. Здесь же в жанрово-стилистической системе славяно-книжной литературы был выделен церковно-деловой стиль, сформировавшийся в таких её разрядах, как церковное законодательство (кормчие книги, мерила и другие сборники переводных византийских законов), памятники церковно-делового и церковно-бытового содержания, устанавливающие правила проведения церковных служб, монашеского общежития и т. п. (церковные уставы, трефологии, око церковное, златая цепь, чиновники, часословы, синодики и т. п.). Были показаны особенности некоторых из этих жанров в работах казанских историков языка (См.[32]–[34]). Исследования в этом направлении продолжаются казанскими лингвистами.
Важную для науки работу проделала группа молодых историков языка по описанию древнерусских рукописных книг, хранящихся в казанских книгохранилищах. Группу возглавлял проф. Г.А. Николаев. В неё входили: Т.А. Литвина, Н.Г. Николаева, М.О. Новак и О.В. Чевела, а также заведующая Отделом рукописей и редких книг Научной библиотеки Казанского университета (ОРРК НБЛ КГУ) Э.И. Амерханова. Рукописные книги XIV–XVII вв. числом более 100 хранятся, помимо ОРРК, в Национальном архиве Республики Татарстан (НАРТ) и Национальном музее РТ (НМРТ). За три года (2003–2005) члены группы, работа которых была поддержана грантом РГНФ, описали 58 русских рукописных книг, большинство среди которых представляют церковные книги: евангелия, псалтыри, минеи, триоди, октоихи, слова отцов церкви, жития святых, синодики, сборники-конволюты, устав иерусалимский и др. Описания некоторых книг были изданы в сборниках Казанского университета и «Православном собеседнике» Казанской духовной семинарии (См.[35]–[45]).
Ежегодно в Москву посылались отчёты о работе казанского творческого коллектива. Кроме того, была написана обзорная статья в Учёных записках КГУ «Русские рукописные книги XIV–XVII вв. в книгохранилищах Казани и их культурно-историческое значение»[46].
Изучение языка церковных книг начинается со студенческой скамьи. Успешное занятие наукой позволяет студентам быть участниками научных конференций разного уровня. Их доклады печатаются в материалах соответствующих конференций. Так, студентки-филологи А. Лунева и Е. Турцова занимались языком двух старейших русских книг – Остромирова Евангелия и Путятиной Минеи. С результатами своих наблюдений они неоднократно выступали на конференциях в Казанской духовной семинарии, и их доклады напечатаны в «Православном собеседнике»[47].
Сказанное позволяет заключить, что Казанский университет является одним из крупных научных центров России, в котором большое внимание уделяется изучению языка церковных книжных памятников Древней Руси. Данные, приведённые в статье, свидетельствуют о том, что Казань является ведущим центром по исследованию проблем православной лингвистики. Доклад мой преследовал две цели: во-первых, ознакомить участников конференции (и в первую очередь сотрудников КазДС) с той работой, которую проводят историки языка Казани по изучению языка богословской и богослужебной литературы. А во-вторых, опираясь на количество и качество их исследований по теолингвистике, внести свою лепту в открытие в КазДС магистратуры по православной лингвистике. Казанские историки языка могут взять на себя самую объёмную работу для поддержки этой магистратуры.
Литература
1. Архангельский А.С. Древне-славянское Евангелие, принадлежащее Обществу археологии, истории и этнографии при Имп. Казан. ун-те. Материалы для истории русского языка // Филологические записки. – Воронеж, 1883. 28 с.
2. Николаев Г.А. Казанское Евангелие-апракос XIV века // II Международные Бодуэновские чтения: Казанская лингвистическая школа: традиции и современность (Казань, 11–13 декабря 2003 г.): труды и материалы: в 2 т. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2003. – Т.2. С.65.
3. Воронова Л.Я. Александр Семенович Архангельский (1854–1926). – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2002. 76 с.
4. Обнорский С.П. Очерки по истории русского литературного языка старшего периода. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1946. 200 с.
5. Черных П.Я. Язык «Уложения» 1649 г. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1953. 205 с.
6. Мартьянова С.А. Лексика писцовых книг города Казани XVI–XVII вв. // Учёные записки Казан. гос. ун-та: сборник работ кафедры русского языка. – Казань, 1952. – Т. 112, Кн.6. С. 109–149.
7. Марков В.М. Формы имён в языке судебников XV–XVI веков // Учёные записки Казан. гос. ун-та: исследования в области языкознания. – Казань, 1956. С. 39–100.
8. Марков В.М. К истории редуцированных гласных в русском языке. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1964. 280 с.
9. Марков В.М. Из наблюдений над языком Пантелеймонова Евангелия (XII век) / / Марков В.М. Избранные работы по русскому языку. – Казань: ДАС, 2001. С. 104.
10. Николаев Г.А. Формы именного словообразования в языке Мерила Праведного XIV века: дис. ... канд. филол. наук. – Казань, 1965. 365 с.
11. Еселевич И.Э. Из истории категории собирательности в русском языке: очерки. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1979. 160 с.
12. Николаев Г.А. Мерило Праведное (Заметки о составе памятника) // Православный собеседник: альманах Казанской духовной семинарии. – Казань, 2007. – Вып.1 (14). С. 55.
13. Копосов Д.Р. Варьирование языковых средств в текстах церковно-книжных жанров Древней Руси: текстовые особенности Слов-поучений Серапиона, епископа Владимирского: автореф. дис. ... канд. филол. наук. – Казань, 1998. 22 с.
14. Николаева Н.Г. Трактат Дионисия Ареопагита «О божественных именах» в древнеславянском переводе. – Frankfurt/M u.a.: Peter Lang, 2000. – 255 S. – (Beit
ge zur Slavistik; Bd. 42)
15. Николаева Н.Г. Славянские Ареопагитики: лингвистическое исследование. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2007. 184 с.
16. Николаева Н.Г. Богословские переводные памятники в истории русского литературного языка: автореф. дис. . докт. филол. наук. – Казань, 2008. 50 с.
17. Новак М.О. Формы именного словообразования в древнеславянском переводе Апостола (семантико-стилистический аспект): автореф. дис. . канд. филол. наук. – Казань, 1998. 18 с.
18. Литвина Т.А. Текстовые и языковые особенности Жития Гурия и Варсонофия, казанских чудотворцев: автореф. дис. ... канд. филол. наук. – Казань, 1999. 18 с.
19. Шакирова Д.Р. Язык Жития Авраамия Смоленского как памятника древнерусской агиографии: автореф. дис. ... канд. филол. наук. – Казань, 1999. 16 с.
20. Чевела О.В. Лингвостилистические особенности перевода паримий и гимнов в составе Триоди цветной: автореф. дис. . канд. филол. наук. – Казань, 2000. 18 с.
21. Чевела О.В. Герменевтика литургической поэзии: историко-лингвистическое исследование: автореф. дис. ... докт. филол. наук. – Казань, 2010. 205 с.
22. Москалева Л.А. Графико-орфографические и фонетические особенности Паренесиса Ефрема Сирина по рукописи РНБ, Погод. 71а ок. 1289 г.: автореф. дис. канд. филол. наук. – Казань, 2006. 18 с.
23. Биккинина Э.И. Язык Реймсского Евангелия: дис. ... канд. филол. наук. – Granada: Universidad de Granada: Departamento de Filologia Griega y Eslava, 2009. 663 с.
24. Кузовенкова А.И. Языковые особенности Паримейника по рукописи РГБ, Тр. 4 второй половины XIV века: автореф. дис. ... канд. филол. наук. – Казань, 2011. 24 с.
25. Паймина О.С. Языковые особенности Троицкого сборника XII–XIII вв.: автореф. дис. . канд. филол. наук. – Казань, 2012. 24 с.
26. Жолобов О.Ф. Древнерусские «книги, рекомыя Ефремъ» // Лингвистическое источниковедение и история русского языка. 2010–2011. – М.: Древлехранилище, 2011. С. 241–262.
27. Жолобов О.Ф. Корпус древнерусских списков Паренесиса Ефрема Сирина. III, 1: БАН.31.7.2 // Russian Linguistics. – 2011. – Vol.35, №3. C. 361–380.
28. Жолобов О.Ф. К истории «уставных чтений»: древнеславянский Паренесис Ефрема Сирина // Scripnium. – 2011–2012. Т. 7–8, Part Two. С. 121–143.
29. Жолобов О.Ф., Паймина О.С. К лингво-текстологической характеристике Троицкого сборника конца XII века // Учёные записки Казанского университета. Сер. «Гуманитарные науки». – 2012. Т. 154, кн. 5. С. 24–34.
30. Николаев Г.А., Николаева Н.Г. Лексико-семантические славяно-греческие соответствия в древних канонических текстах // Актуальные вопросы русского языка и литературы. – Познань, 1996. С. 37–41.
31. Жолобов О.Ф. Грамматический символизм в древнерусских литературных текстах // Литературный язык Древней Руси. – Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1986. С. 104–108. – (Проблемы исторического языкознания. Вып. 3)
32. Бальцежак Е.Е., Николаев Г.А. О языке церковно-деловых текстов древнерусской письменности // Словообразование. Стилистика. Текст: Номинативные средства в текстах разных функциональных стилей. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1990. С. 155–164.
33. Чижевская (Бальцежак) Е.Е. «Око церковное» 1429 г. и стилевая дифференциация церковно-уставного текста // История русского языка. Стилистика. Текст. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1992. С. 144–154.
34. Николаев Г.А. Язык церковно-деловых памятников древнерусского извода // Христианизация, дехристианизация и рехристианизация в теории и практике русского языка / Под ред. Ежи Калишана. – Познань, 2001. С. 57–64.
35. Николаев Г.А. Минея служебная (апрель) 1587 г. (Описание рукописи) // Учёные записки Казанского гос. ун-та (Филиал в г. Набережные Челны). – Наб. Челны: ФКГУ в Н. Челнах, 2004. С. 147–153.
36. Николаев Г.А. Сборник толкований 1498 г. (рукопись Национального архива Республики Татарстан) // Русская и сопоставительная филология: лингво-культурологический аспект. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2004. С. 168–172.
37. Николаев Г.А. Книга пророков XVI века (из фондов Научной библиотеки Казанского университета) // Русская и сопоставительная филология 2005. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2005. С. 84–88.
38. Николаев Г.А. Малоизвестный список повести Гермогена о явлении Казанской иконы Богородицы // Православие в поликонфессиональном обществе: история и современность: материалы Всероссийской конференции, посвящённой 450-летию Казанской епархии РПЦ. – Казань: Магариф, 2006. С. 350–355.
39. Николаев Г.А. Формы субстантивного словообразования в Казанском Евангелии XIV века // Русская и сопоставительная филология 2007. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2007. С. 117–122.
40. Николаев Г.А., Литвина Т.А. Языковые и текстовые особенности Жития Гурия и Варсонофия, казанских чудотворцев // Studien zur russischen Sprache und Literatur des XI–XVIII Jahrhunderts (Beitrage zur Slavistik. Bd. XXXIII). – Frankfurt am Main u.a.: Peter Lang, 1997. S. 305–332.
41. Литвина Т.А. Пролог XVI века // Русская и сопоставительная филология: лингво-культурологический аспект. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2004. С. 147–150.
42. Николаева Н.Г. Палеографические и языковые особенности Богородичника XV века (рукопись из фондов Научной библиотеки Казанского университета) // Русский язык: исторические судьбы и современность: II Международный конгресс исследователей русского языка (Москва, 18–21 марта 2004 г.): труды и материалы. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 2004. С. 64.
43. Новак М.О. Рукописные книги из фонда библиотеки Казанской духовной академии // Православие в поликонфессиональном обществе: история и современность. – Казань: Магариф, 2006. С. 355–362.
44. Чевела О.В. О некоторых греко-славянских параллелях в переводе Цветной Триоди // Русская и сопоставительная филология: системно функциональный аспект. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2003. С. 152–156.
45. Амерханова Э.И. Филиграни кириллических рукописей XV века в фондохранилищах Казани // Православный собеседник. – Казань: Изд-во Казан. духов. семинарии, 2006. – Вып. 1 (11), ч. II. С. 31–42.
46. Николаев Г.А. Рукописные книги XIV–XVII веков в книгохранилищах Казани и их культурно-историческое значение // Учёные записки Казан. ун-та. Сер. «Гуманитарные науки». – 2005. Т. 147, кн. 2. С. 112–122.
47. Турцова Е.Е., Лунева А.А. Именные образования с суффиксом -тель в Остромировом Евангелии и Путятиной Минее // Православный собеседник: альманах Казанской духовной семинарии. – Вып. 3 (8). Материалы IV научно-практической конференции «Современный мир, гуманитарные и богословские науки». – Казань, 2004. С. 272–278.
Корпус церковнославянских текстов в составе НКРЯ: результаты и перспективы10
А.Е. Поляков
Объектом исследования являются церковнославянские тексты Национального корпуса русского языка, их грамматическое, орфографическое своеобразие, рассматриваются перспективы работы с корпусом.
Ключевые слова: церковнославянский язык, электронная система, грамматический словарь.
The corpus of Church Slavonic language in the National Corpus of Russian Language – the results and prospects
A.E. Polyakov
The Church Slavonic texts of National corpus of Russian, their grammatical, orthographical particularity is the object of the investigation; the prospects of further work with the Corpus are analysed.
1. Корпус
Церковнославянский язык, являющийся важнейшей частью русской национальной культуры, до сих пор не имеет адекватного описания, отвечающего современному уровню филологической науки. Существующие грамматики и словари носят в основном исторический или нормативный характер и описывают некоторую идеальную картину, которая часто не соответствует фактическому состоянию языка, отражённому в текстах. Без обращения к реальным текстам невозможно выяснить, как употребляется конкретное слово, как оно изменяется по формам, какие варианты написания имеет и т. д.
Адекватное научное описание церковнославянского языка должно носить не прескриптивный (нормативный), а дескриптивный (описательный) характер, опирающийся на реальное употребление. Единственной надёжной основой для создания такого описания является корпус текстов, снабжённых специальной разметкой (грамматической, структурной, метатекстовой). Корпус отличается от простого собрания текстов (библиотеки) именно наличием разметки, которая делает возможным поиск слов и словосочетаний по различным критериям (лемма, грамматические признаки, жанр текста и др.) и решение других задач. Корпус является важнейшим инструментом для исследовании, который позволяет получить реальную информацию о лексике, грамматике и словоупотреблении из текстов.
В рамках проекта «Национальный корпус русского языка» (http://ruscorpora.ru/) в 2012 году был открыт корпус церковнославянских текстов, который доступен по адресу: http://ruscorpora.ru/search-orthlib.html. Этот корпус является первым из раздела исторических корпусов русского языка, который в будущем должен включить в себя: корпус языка XVIII века; корпус языка среднерусского периода; корпус языка древнерусского периода; корпус берестяных грамот и др. Действительно, по своим лингвистическим свойствам церковнославянский язык ближе всего к языку XVII-XVIII века, когда в основном была оформлена каноническая форма современных богослужебных текстов.
Церковнославянский корпус включает около 1.250 текстов, которые охватывают все основные типы и жанры церковнославянской литературы (богослужебные, святоотеческие, писание, типикон, церковное право). Корпус имеет объем около 4,6 млн. словоупотреблений и включает около 150 тысяч различных словоформ, которые группируются примерно в 30 тысяч лексем. Корпус такого объёма вполне репрезентативен с точки зрения охвата лексики и различных жанрово-тематических групп текстов. Все тексты подготовлены в едином формате и снабжены метатекстовой и грамматической разметкой.
2. Тексты и метатекстовая разметка
Основным источником текстов для корпуса явилась «Библиотека святоотеческой литературы» (http://orthlib.ru). На данном ресурсе собраны результаты титанической работы по оцифровке и переводу в текстовый формат основных церковнославянских книг, за что создатели корпуса приносят искреннюю благодарность создателям данного ресурса.
Вот список основных книг и источников с указанием количества слов и % от объёма корпуса:
| Книга | Место, год издания | Слов | % | |
| Библия с параллельными местами | СПб., 1900 (репринт: 1993) | 650.253 | 14,36 | |
| Евангелие | М., 1984 | 88.246 | 1,95 | |
| Апостол | М„ 1989 | 105.236 | 2,32 | |
| Ирмологий | М., 1913 (репринт: 1995) | 46.641 | 1,03 | |
| Канонник | М., 1986 | 1.284 | 0,03 | |
| Минея | Киев. 1893 (репринт: 1996–1997) | 1.429 651 | 31,57 | |
| Минея общая | М. 2002 | 102.493 | 2,26 | |
| Минея праздничная | М., 1914 (репринт: 1993) | 188.819 | 4,17 | |
| Минея (из разных источников) | – | 13.923 | 0,31 | |
| Молитвы, читаемые на молебнах | Пг., 1915 (репринт: 1993) | 146.598 | 3,24 | |
| Молитвы (из разных источников) | – | 15.249 | 0,34 | |
| Октоих | М., 1981 | 254.655 | 5,62 | |
| Псалтирь следованная. Часть I | М., 1978 | 71.440 | 1.58 | |
| Служебник | М., 1896 | 65.385 | 1,44 | |
| Требник | М., 1906 | 108.325 | 2,39 | |
| Триодь постная | М., 1992 | 217.295 | 4,80 | |
| Триодь цветная | М., 1992 | 131.010 | 2,89 | |
| Часослов | М., 1980 | 29.434 | 0,65 | |
| Типикон | М., 1900 | 246.784 | 5,45 | |
| Алфавит духовный св. Димитрий Ростовского | М., 1837 (репринт: 1997) | 38.098 | 0,84 | |
| Добротолюбие или словеса и главизны священного трезвения | М., 2000 | 294.909 | 6,51 | |
| Ифика иерополитика, или Философия нравоучительная | СПб., 1764 | 39.937 | 0,88 | |
| Книга Правил святых апостолов, святых соборов и святых отец | М., 1893 (репринт: 1992) | 75.513 | 1,67 | |
| Пролог | М., 1643 (репринт: 1915) | 120.009 | 2,65 | |
| Акафисты (из разных источников) | – | 47.597 | 1,05 | |
К сожалению, тексты в том виде, как они представлены в библиотеке, не вполне пригодны для корпуса. Во-первых, они представлены в нестандартной кодировке HIP, которая удобна для набора на клавиатуре, но неудобна для чтения и обработки. Во-вторых, тексты не имеют грамматической разметки, что делает невозможным лексический поиск. Поэтому все тексты, взятые из библиотеки, были существенно переработаны и дополнены для нужд корпуса.
Метатекстовая разметка – это параметры, которые характеризуют текст в целом, а не отдельное слово. Сюда относятся следующие параметры текста:
1) Заголовок текста (иногда включает название книги).
2) Количество слов.
3) Жанр текста.
4) Период создания текста.
5) Перевод или оригинал.
Жанрово-тематическая классификация текстов ориентирована, прежде всего, на массового пользователя, а не на узкого специалиста, и строится исходя из принципов практического удобства и понятности. Выделяются следующие жанры текстов (с указанием % слов в корпусе):
а) библия (17%): ветхий завет, новый завет, служба (богослужебное Евангелие);
б) служба (64%): акафист, ирмологий, минея, октоих, служебник, требник, триодь, часослов;
в) типикон (5%);
г) святоотеческий (10%);
д) право («Книга Правил святых апостолов» = 1%);
е) научный («Ифика иерополитика» = 0,5%).
Период создания текста определяется условно, поскольку для многих книг невозможно точно определить дату создания, историю редактирования и дату последней правки. Дата издания позволяет определить только верхнюю границу, поскольку некоторые книги могли неоднократно редактироваться на протяжении XVII–XIX веков. В итоге выделяются следующие периоды:
а) стандарт (XIX–XX = 86%);
б) архаика (XVII–XVIII – «Пролог», «Добротолюбие» = 2%);
в) 20 век (3%);
г) гибридный (8%, например, «Алфавит Духовный»).
Таким образом, основу корпуса составляют современные богослужебные тексты (60%), однако представлены и остальные жанры и периоды. Отдельно стоит старообрядческий «Пролог», который резко отличается от остального массива архаичным языком и орфографией.
3. Орфография и кодировка
Каноническая церковнославянская орфография, ориентированная на точное типографское представление текста, включает множество омофоничных символов:
u=i=v, φ=θ, о=Ѻ=ѡ, е=є, ia=ѧ, оу=ук, ѿ, з=ѕ, ξ=кс, ψ=пс, ъ=’ (паерок), ударение (острое, тупое, облечённые).
Некоторые пары символов используются для различения лексем и грамматических форм:
– в греческих словах сохраняется этимологически правильное написание букв u–i–v, о-ѡ, ф–θ, ξ, ψ, например: аигустъ-авраамъ, акиндінъ, ікана, тиханъ, suмiaмъ;
– буквы и–i обычно распределены позиционно (i – перед гласным), однако используются для различения нескольких корней: миръ (спокойствие) vs. мiръ (вселенная), вiно vs. вина;
– буквы ѡ, ѿ используются для префиксов о(б), от и противопоставляются обычному о: ѡблачати vs. облакъ, общiй; ѡсмотрити vs. осмь; ѿчаятися vs. отчій, отрокъ;
– буквы о-ѡ используются для различения форм: единственное vs. множественное число (милости vs. милѡсти, домомъ vs. домѡмъ), винительный vs. родительный падеж в адъективном склонении (новаго vs. новагѡ, моего vs. моегѡ), прилагательное vs. наречие (сильно vs. сильнѡ);
– для различения омонимичных форм единственного vs. множественного/ двойственного числа также используются буквы е vs. є и острое vs. облечённые ударение (камора): конемъ vs. конємъ, iepee vs. iepeє, єлени vs. єлєни, рабам vs. раба, рабум vs. рабу, рабым vs. рабы.
Некоторые пары символов имеют нулевую или минимальную различительную способность:
– придыхание ставится автоматически над начальной гласной слова;
– диграф оу пишется в начале слова, лигатура ꙋ в середине и конце;
– ꙗ пишется в начале слова, ѧ в середине и конце, за исключением корней ꙗзык- (народ) vs. ѧзык- (орган);
– є (широкое) пишется в начале слова, е (узкое) в середине и конце, за исключением различения некоторых флексий единственного vs. множественного/ двойственного числа (см. выше);
– Ѻ (широкое) пишется в начале слова и корня в сложных словах (Ѻтецъ, праѺтецъ), о (узкое) в прочих случаях.
В результате тщательного анализа церковнославянской графики для представления корпуса в Интернете была выработана более простая орфографическая система, которая сохраняет наиболее существенные языковые различия, но не пытается имитировать точный типографский вид текста. В этой орфографии отсутствуют некоторые символы с малой или нулевой различительной способностью (придыхания, различие ᲂу/ꙋ, ꙗ/ѧ), однако сохраняются символы, связанные с различением лексем или грамматических форм (о-ѡ, u–i–v, ф–θ, з–ѕ). Кроме того, были выработаны правила перевода текста из этой орфографической системы в современный вид для удобства поиска.
Словоформы в корпусе представлены в том виде, в котором они встречаются в тексте, а леммы даются в унифицированном написании, в котором не используются избыточные буквы, а титла раскрыты (например, словоформа млⷭ҇ть относится к лемме милость).
Для поиска в корпусе можно использовать три орфографические системы:
1) Точная – служит для поиска словоформ, сохраняет максимально точный вид словоформы (е–є, о–Ѻ, титла, ударения) с учётом вышеуказанных отличий от канонической орфографии;
2) Упрощённая – служит для поиска лексем, сохраняет основные лексические оппозиции (о–ѡ, u–i–v, ф–θ, з–ѕ), но игнорирует различия, не служащие для различения лексем (е=є, о=Ѻ, титла);
3) Модернизированная – служит для поиска лемм и словоформ в современной орфографии, включает только современные буквы (е=ѣ, u=i=v, φ=θ, з=ѕ, о=ѡ).
Точная и упрощённая орфография ориентирована на специалистов, которые знают все тонкости церковнославянской орфографии и хотят получить наиболее точный результат. Модернизированная орфография рассчитана на широкий круг людей, которые хотят искать в корпусе, но не знают, как точно пишется некоторое слово (лѣто или лето, ікѡна или икона). Независимо от того, в каком виде слово введено в запрос, результаты поиска всегда выдаются в точной орфографии.
Церковнославянские тексты в интернете представлены в стандартной кодировке Unicode. Нестандартные кодировки, которые применяются при наборе текстов в типографиях (HIP, UCS), не могут использоваться в сети. Нам пришлось решать нетривиальную задачу по перекодировке из HIP в Unicode, чтобы сохранить максимум значимых различий, присутствующих в исходной кодировке, однако пришлось пожертвовать некоторыми менее значимыми деталями. Дело в том, что некоторые символы появились в стандарте Unicode 5.2 совсем недавно (ꙗ, ꙋ, букво-титла) и отсутствуют в большинстве доступных шрифтов. При просмотре текста в интернете браузер автоматически подгружает нужный шрифт и всё выглядит очень красиво, похоже на печатное представление. Однако если выделить текст и скопировать его в редактор, некоторые символы будут отображаться как пустые квадраты, особенно при использовании старых версий шрифтов. Чтобы не отталкивать пользователей, которые не хотят устанавливать шрифтов, мы пожертвовали некоторыми символами: ᲂу/ꙋ заменили на обычное у, ꙗ/ѧ заменили на обычное я. Мы считаем, что лучше немного упростить текст, но оставить его читаемым, поскольку буквы у и я весьма частотны и их потеря существенно затруднит понимание текста (в отличие от потери редких букв – Θ, ѡ, ѕ, ξ, ψ.
4. Грамматическая разметка
Корпус отличается от простого собрания текстов наличием лингвистической разметки (грамматической, синтаксической, семантической, и т. д.) и возможности поиска по этой разметке. Для языков с богатой морфологией, прежде всего, необходима грамматическая разметка, без которой невозможен лексический поиск. В идеале для каждой словоформы в тексте должна быть указана следующая информация:
– лемма (словарная форма),
– грамматические признаки лексемы (часть речи, род, одушевлённость, вид, переходность),
– грамматические признаки словоформы (падеж, число, время, лицо, наклонение).
Существующие грамматики и словари церковнославянского языка не дают полной картины словоизменения. Грамматики приводят парадигмы для наиболее частотных слов, а также отдельные примеры вариативных форм. Словари обычно включают наиболее частотные или важные слова, а грамматическая информация даётся фрагментарно или не даётся вообще. В результате нередко невозможно выяснить, какие реальные формы имеет данное слово, а спорные вопросы остаются без ответа (примеры см. п. 5). В таких случаях единственным достоверным источником является корпус.
Конечной целью грамматического описания является построение формальной модели словоизменения церковнославянского языка, которая включает в себя два основных компонента:
1) грамматический словарь,
2) таблица словоизменительных типов (парадигм).
Грамматический словарь представляет собой список лексем с приписанной им информацией о словоизменении. Каждая лексема в словаре содержит, как минимум, следующие параметры:
– лемма (словарная форма) и её варианты (если есть);
– постоянные признаки лексемы (часть речи, одушевлённость, переходность и др.);
– код парадигмы и особенности словоизменения (нерегулярные словоформы);
– краткое толкование для устаревших и малопонятных слов (по необходимости).
Словоизменительный тип (парадигма) представляет собой список грамматических значений и соответствующих им грамматических форм, общий для некоторого множества лексем.
В отличие от традиционных грамматик, парадигмы не задаются априорно, а выводятся эмпирически на основе анализа множества словоформ, имеющих однотипное соотношение между грамматическими формами. Таким образом, номенклатура парадигм получается значительно более детальной и может существенно отличаться от традиционных грамматик. Например, традиционное первое склонение (рабъ) распадается на 14 подтипов в зависимости от конечного согласного (парный твёрдый-мягкий, велярный, шипящий, йот), наличия беглого гласного и других особенностей.
Грамматический словарь и модель словоизменения создаются эмпирически и итеративно. Сначала из корпуса генерируется список словоформ и делается его первичная проверка и чистка (исправляются явные ошибки). Затем для частотных слов делается ручная лемматизация, определяются типичные шаблоны и строится первичная модель словоизменения. Далее на основе шаблонов разобранных словоформ анализируются другие словоформы, затем автоматические разборы проверяются и правятся вручную, снова уточняется грамматическая модель, и так далее. На последнем этапе разбираются вариантные и уникальные словоформы, и принимается решение о том, что с ними делать (исправить, включить в словарь, считать исключением, игнорировать).
В настоящее время создана пилотная версия грамматического словаря, которая используется для поиска в корпусе. Было проанализировано около 150 тысяч словоформ, которые в итоге были сведены примерно в 30 тысяч лемм. В результате ручной, а затем автоматической лемматизации удалось приписать грамматические разборы большинству словоформ. Часть словоформ была квалифицирована как ошибки (опечатки), а для некоторых редких форм лемму определить не удалось или она была определена гипотетически. Несмотря на то, что в настоящий момент грамматический словарь содержит много ошибок и неточностей, он является неплохим рабочим инструментом, который обеспечивает лексико-грамматический поиск в корпусе.
5. Вариативность
В церковнославянских текстах имеется множество орфографических и словоизменительных вариантов, обусловленных тем, что тексты создавались в разное время и в разной языковой среде. Вот некоторые примеры.
1) В грамматиках даётся список слов и корней, которые обычно пишутся под титлом: агг҃елъ, апⷭ҇лъ, бг҃ъ, гⷭ҇дь, млⷭ҇тъ, мт҃и, ст҃ый, чл҃вкъ. Возникает вопрос: всегда ли эти корни пишутся именно так (под титлом), а если нет, то как ещё они могут писаться? Ответ на этот вопрос может дать только корпус. В результате анализа разных написаний в корпусе оказывается, что например, корень апостол– может писаться тремя способами: апостол– (полностью раскрыто), апⷭ҇л– (полностью сокращённо), апⷭ҇тол– (частично сокращённо); основа прилагательного ангельскій пишется тремя способами: агг҃ельск-, агг҃лск-, агг҃льск-. Без корпуса выявление всех реально встречающихся вариантов было бы просто невозможно.
2) В грамматиках написано, что для различения омонимичных форм единственного и множественного/двойственного числа может использоваться замена букв (o-ѡ, е-є) или замена острого ударения на облечённые (камору). Таким образом, возникает конкуренция орфографических правил и непонятно, какое из них нужно применять в конкретном случае. Например, как будет множ. число от слов милость, высота: мимлѡсти (o-ѡ) или милости (камора), высѡтым (o-ѡ) или высоты (камора)? Ответ на этот вопрос может дать только корпус, который даёт следующую статистику: высѡтым (17 раз), высоты (9 раз), высѡты (1 раз), мимлѡсти (93 раз), милости (2 раза). Из анализа других аналогичных примеров мы можем сделать вывод, что при конкуренции правил замена o-ѡ более предпочтительна, чем замена ударения.
3) В грамматиках написано, что слова с суффиксом –тель типа делатель могут иметь особые формы именит. множ. на –е (делателе, как агаряне) и на –ѥ (делателѥ как царѥ). Кроме того, они могут иметь стандартные формы на –и (делатели). Естественно, возникает вопрос о том, какие из этих форм реально встречаются и с какой частотой. Решить подобный вопрос возможно только при помощи корпуса, который даёт следующую статистику: делатели – 36 раз, делатeлѥ – 18 раз, делателе – 13 раз. Таким образом, для данного слова чаще всего употребляется стандартная форма, за ней идёт форма на ѥ, а затем на –е. Для получения достоверных выводов нужно проанализировать остальные слова с суффиксом –тель, а также другие слова с аналогичными особенностями (с суффиксом –арь и т. д.).
4) Церковнославянский язык является смешанным по своему грамматическому строю. Многие грамматические формы совпадают с русскими, а несовпадающие, происходящие от старославянских, нередко вытесняются эквивалентными русскими формами. Например, наряду со старославянской формой на земли встречается русская форма на земле; предложный падеж множественного числа от слов первого склонения имеет вариативные формы селехъ/селахъ, жилищахъ/ жилищихъ, но только моряхъ, мужахъ (при отсутствующих *морихъ, *мужихъ). Вопрос о конкуренции старославянских и русских форм изучен совершенно недостаточно, а для получения достоверных результатов нужен корпус.
6. Перспективы
Представленный корпус является первым опытом создания универсального ресурса, который позволит резко повысить уровень и объективность исследований церковнославянского языка. Он устраняет значительную часть технических проблем, которые обычно препятствуют исследователю: недоступность текстов в электронной форме, нестандартные шрифты и кодировки, невозможность поиска по лемме и грамматическим признакам, сложность выбора примеров для анализа, и т. д. Конечно, в нынешнем состоянии корпус далеко не идеален и имеет простор для улучшения: некоторые слова проанализированы неправильно или неполно, не исправлены ошибки в текстах и т. д.
Предполагаются следующие направления работ по улучшению корпуса:
1) Грамматический словарь:
– проверить и исправить леммы и грамматические признаки для словоформ, которые были приписаны автоматически;
– найти ошибочные словоформы и исправить их в словаре, а затем перенести эти исправления в тексты;
– проверить правильность отнесения словоформ к леммам на основе шаблонов словоформ;
– проверить правильность грамматических признаков лемм.
2) Парадигмы:
– уточнить номенклатуру и состав форм для частотных парадигм;
– приписать парадигмы леммам в словаре.
3) Тексты:
– проверить и исправить ошибки в текстах, в том числе выявленные при проверке словоформ;
– проверить и исправить метатекстовые признаки;
– проверить разбиение текста на фрагменты (предложения) и внести дополнительную разметку при необходимости.
4) Толкования:
– проанализировать значения лемм и приписать краткое толкование тем из них, которые являются устаревшими, непонятными или имеют значение, отличающееся от современного;
– проанализировать значения лемм, определённых как имена собственные, и приписать им лексико-семантический класс (имя, топоним, этноним, и т. д.)
Литература
1. Алипий (Гаманович). Грамматика церковнославянского языка. – Jordanville (N.Y), 1964.
2. Алексеев П. Церковный словарь. – Часть I–IV. – М., 1815–1816.
3. Дьяченко Г. Полный церковно-славянский словарь. – М., 1900.
4. Бончев А. Речник на църковнославянския език. – T. I (А–О). – София, 2002.
5. Словарь церковно-славянского и русского языка, составленный Вторым отделением Императорской Академии наук. – T. I–IV. – СПб., 1847.
6. Словарь Академии Российской. – Ч. I–VI. – СПб., 1789–1794.
7. Плетнева А.А., Кравецкий А.Г. Церковнославянский язык. – М., 2001.
8. Бугаева И.В., Левшенко Т.А. Церковнославянский язык: учебные грамматические таблицы. – М., 2009.
9. Маршева Л.И. Церковнославянский язык. Местоимение. Теоретический очерк. Упражнения. – М., 2010.
Религионимы со значением ‘весенний праздник’ в русском и польском языках
Ю.Ю. Полякова
В статье исследуются религионимы со значением ‘весенний праздник’, а также проводится анализ словарных формулировок эортонимов в русских и польских словарях.
Ключевые слова: эортоним, весенний праздник, календарь, словарь, словарная формулировка.
Religionimy meaning ‘spring holiday’ in Russian and Polish
J.Y. Poliakova
In article eortonims meaning ‘spring holiday’, as well as an analysis of the data dictionary language eortonims in Russian and Polish dictionaries.
Праздник и календарь тесно взаимодействуют между собой. В календаре можно найти информацию об основных праздниках года: государственных, светских, религиозных. В словарях даются толкования некоторых эортонимов, имеющих важное значение для пользователей словаря.
Исследование и анализ русских и польских эортонимов, зафиксированных в календарях и словарях, необходимы для понимания сходства и различия между православием и католицизмом. Поэтому целью нашей статьи является анализ словарных формулировок эортонимов со значением ‘весенние праздники’ в польских и русских словарях.
Основные задачи:
– определить, какие праздники со значением ‘весенний праздник’ являются главными в классификациях православных и католических праздников;
– сделать выборку эортонимов главных праздников из календарей и словарей со значением ‘весенний праздник’;
– проанализировать эортонимы и словарные формулировки.
Для анализа были использованы словари:
СУ – Ушаков Д.Н. Толковый словарь русского языка: в 4 т. – М.: Сов. энциклопедия, 1947–1948 [1];
БАС – Словарь современного русского литературного языка: в 17 т. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1948–1965 [2];
МАС – Евгеньева А.П. Словарь русского языка: в 4 т. – М.: Рус. яз., 1981–1984[3];
СОШ – Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – М., 1992[4];
БТС – Бабенко Л.Г. Большой толковый словарь русских существительных. – М.: Аст-Пресс Книга, 2005[5];
СРЛ – Азаров А.А. Русско-английский словарь религиозной лексики (с толкованиями). – М.: Руссо, 2002[6];
LMU – Markunas А., Uczyciel Т. Leksykon chrze[cijaDstwa rosyjsko-polski i polsko- rosyjski. – PoznaD,1999[7];
ChL – Lewicki R. Chryescijanstwо. Slownik roszjsko-polski. – Warszawa, 2002[8];
ISJP – Banko М. Inny slownik je’zyka polskiego. – Т. 1–2. – Warszawa: PWN, 2000 (далее – ISJP)[9];
USJP – Dubisz S. Uniwersalny slownik je’zyka polskiego. – Т. 1–4. – Warszawa: PWN, 2003 (далее – USJP)[10].
Изучением религиозных праздников занимается эортология, которая тесно связана с литургикой, культурологией, лингво-культурологией, тео-лингвистикой.
Эортос – по-гречески: «праздник». Отсюда «эортология», это – праздниковедение. От этого термина образуется единица данной отрасли знания – эортоним. Под эортонимом «понимается имя собственное, обозначающее церковные праздники»[11]
Все слова, устойчивые сочетания религиозной сферы употребления называются религионимами[12]. Так как слова, обозначающие религиозные праздники, входят в состав религиозной лексики, то мы будем считать их религионимами.
Украинские языковеды (И. Бочарова), российские (И.В. Бугаева, С.М. Толстая, Б.А. Успенский); сербские (Р.С. Баич); польские (N. Maczulis, J. Drozdowska) исследовали эортонимы в разных аспектах (См. [2],[11],[13]).
Проблема интересна, по нашему мнению, ещё и по той причине, что в русском и польском языке отражаются две языковые картины мира, две культуры (польская и русская), две христианские конфессии (православие и католицизм), два календаря (юлианский и григорианский).
В православии и католицизме существуют свои классификации праздников.
В православии главные праздники называются двунадесятыми (12 основных праздников), которые разделяются на подвижные и неподвижные, то есть с фиксированной датой и датой празднования, зависящей от пасхального цикла. К двунадесятым, по значимости, относят и великие праздники, которые имеют особый вес и значение для Православной Веры и Русской Православной Церкви.
В католическом календаре различают два статуса праздников: «торжества» – главные праздники, которые имеют важное значение для католиков, и «праздники» – все остальные праздничные даты. «Торжества» и «праздники» также бывают подвижными и неподвижными.
Весна – это время года, во время которого как в католицизме, так и православии празднуется большинство переходящих религиозных праздников, в том числе и самый главный, самый почитаемый, праздник праздников в христианстве – Пасха.
В православии в весенний период празднуются только двунадесятые праздники.
Один из них непереходящий:
– Благовещение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии (7 апреля).
И обычно 3 из 4-х переходящие:
– Вход Господень в Иерусалим (за 7 дней до Пасхи Христовой);
– Пасха Христова (первое воскресенье после весеннего равноденствия);
– Вознесение Господне (40-й день после Пасхи Христовой).
В католицизме в весенний период также отмечается один непереходящий праздник и 3 переходящих:
– swi’eto Zwiastowania Najswi’etszej Maryi Panny (Благовещение) (торжество);
– Niedziela Palmowa, wjazd Jezusa do Jerozolimy (Вербное воскресение) (праздник);
– Niedziela Zmartwychwstania Panskiego (Светлое Христово воскресение) (праздник праздников);
– Wniebowstpienie Panskie (Вознесение Господне) (торжество).
Дальнейшая часть работы посвящена описанию каждого из перечисленных праздников и сравнительному анализу толкований эортонимов, зафиксированных в словарях польского и русского языков.
Благовещение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии 07.04 – swi’eto Zwiastowania Najswie’tszej Maryi Panny 25.03.
Благовещенье по православным традициям отмечается 7.04, а по католическим – 25.03.
Праздник посвящён воспоминанию об известии, которое принёс Архангел Гавриил Деве Марии о зачатии и о рождении Ею Богомладенца Христа. Этот праздник относится к двунадесятым непереходящим праздникам и отмечается каждый год в один и тот же весенний день.
Для обозначения этого праздника используется несколько эортонимов:
– народного происхождения: зачатие Христа, Благовещение о Христе, Начало искупления, Благовещение ангела Марии;
– церковного: Благовещение, Благовещение Пресвятой Богородицы.
В католицизме этот праздник также имеет несколько названий: Zwiastowanie Panskie, Zwiastowanie Bogurodzicy.
Рассмотрим эортонимы в польских и русских словарях.
В МАСе мы не находим этого эортонима. Скорее всего, это связано с датой выхода словаря. В это время намеренно отходили от религиозности, пропагандируя атеизм. Поэтому большинство религиозных праздников в данном словаре мы не найдём.
В СУ значение данной лексемы представлено следующим образом: «Благовещение – один из христианских праздников» [1, I, с. 145]. Толкование краткое, ни поясняет сути праздника, ни указывает его даты.
На основании анализа словарных формулировок интересующих нас эортонимов, зафиксированных в СОШ, БТС, СРЛ, можно выделить интегральные семы, ‘христианский праздник’, ‘один из двенадцати основных праздников’; ‘дата празднования’; ‘25 марта (7 апреля по новому стилю)’. Из толкований можно выделить дифференциальные семы, дающие представление о том чему посвящён праздник: ‘в память принесённой деве Марии благой вести’, ‘благой вести о её непорочном зачатии’, ‘о рождении Сына Божьего Иисуса Христа’.
В одних словарях значение расширяется, описывается история праздника, чему он посвящён. В других – толкования краткие, даётся только необходимая информация.
Например, в СОШ: «Благовещение. В христианстве: один из двенадцати основных праздников в память принесённой деве Марии благой вести о её непорочном зачатии и будущем рождении Иисуса Христа» [4, с. 49].
А в LMU «Благовещение Пресвятой Богородицы – это один из двунадесятых праздников православия. Отмечается 25 марта (7 апреля) в память о сообщении архангелом Гавриилом Деве Марии «благой вести» о грядущем рождении Сына Божьего Иисуса Христа. В этот день, считают богословы, было положено начало таинственному общению Бога с человеком. Именно отсюда особая значимость праздника для верующих. Этот праздник вошёл в христианский календарь лишь в IV в., его дату установили, отсчитав от рождества вспять 9 месяцев. На Руси стал отмечаться наряду с другими христианскими праздниками в конце Х в. swie’to Zwiastowania Najswi’etszej Maryi Panny» [7, с. 29].
В современных словарях польского языка мы не находим эортонима, обозначающего праздник «Благовещение Пресвятой Богородицы». В исследовании нам помог один из самых первых польских словарей – Linde B. «Slownik je’zyka polskiego» (1807–1814)[14], в котором мы нашли данный эортоним:
Zwiastowanie Najswie’tszej Marii Panny 1. przekazanie Marii przez archaniola Gabriela wiadomosci, ze bedzie matka Jezusa Chrystusa. 2. swie’to w Kosciele katolickim, obchodzone na pamiatke tego wydarzenia.
Перевод:
Благовещенье Пресвятой Богородицы 1. Передача Марии архангелом Гавриилом вести о том, что она станет матерью Иисуса Христа. 2. Праздник в католической Церкви, отмечаемый в память об этом событии.
В словарях русского языка делается акцент на христианстве: ‘христианский праздник’; в польском на том, что его отмечают в католицизме: swie’to w Kosciele katolickim’ (‘праздник в католицизме’).
Вход Господень в Иерусалим – Wjazd Jezusa do Jerozolimy (за 7 дней до Пасхи Христовой).
Это переходящий двунадесятый праздник в православии и торжество в католицизме. Отмечается в воскресенье перед Пасхой Христовой. Праздник посвящён воспоминанию о торжественном прибытии в Иерусалим Иисуса Христа на ослёнке. Что является символом мира и добра[15].
Для обозначения данного праздника используется несколько эортонимов. В православии: Вход Господень в Иерусалим, Неделя ваий (от греч. ветка), неделя цветоносная, Вербное воскресенье, Вербница.
В католицизме: Wjazd Jezusa do Jerozolimy (Въезд Иисуса в Иерусалим), Niedziela Palmowa (Пальмовая неделя).
Народные названия праздника появились из евангельского обряда приветствовать пальмовыми ветками, ветками верб и цветами Иисуса, въезжающего в Иерусалим.
Эортоним «Вербное воскресенье» мы находим в словарях: БАС, МАС, СРЛ.
Рассмотрим семему «Вербное воскресенье» в БАСе и МАСе.
«Вербная неделя, вербное воскресенье – воскресенье перед праздником Пасхи и предшествующая этому воскресенью неделя» [2, II, с. 168].
«Вербное воскресенье – названия христианских праздников за неделю до церковного праздника пасхи» (Ect., буква п строчная. – Ю.П.). [3, I, с. 150].
Элементы толкований позволяют нам понять, когда отмечается праздник: ‘за неделю до церковного праздника пасхи’, ‘воскресенье перед праздником Пасхи’. В МАСе указывается религия, в которой данный праздник отмечают: ‘названия христианских праздников’; в БАСе этой информации нет.
СРЛ, несмотря на то, что объясняет значение эортонима «Вербное воскресенье» как ‘употребляемое в просторечии’, использует его в виде лексемы, а уже церковное название праздника «Вход Господень в Иерусалим» как пояснение к ней.
В словарях LMU, ChL значения элементов толкований совпадают: ‘один из двунадесятых праздников’, ‘один из главных праздников’, ‘отмечаемый в последнее воскресенье перед Пасхой’, ‘посвящённый торжественному прибытию Иисуса Христа в Иерусалим’, ‘народ приветствовал Его, бросая перед Ним на дорогу пальмовые ветви’, ‘в России роль пальмовых ветвей играла верба’. В «Лексиконе Христианства русско-польском и польско-русском» описывается значение символа «верба»: «...которой приписывались магические свойства, связанные с отпугиванием злых духов. Поэтому в жилищах хранили освящённые в церкви ветки вербы...» [7, с. 43].
В толковых словарях СОШ и СУ эортонима для обозначения этого праздника нет.
Рассмотрим семемы в словарях польского языка. Словари ISJP и USJP также содержат интегральные и дифференциальные семы.
Интегральными семами являются: ‘ostatnia niedziela przed Wielkanoc’ (‘последняя неделя перед Пасхой’), ‘uroczysty wjazd Chrystusa do Jerozolimy’ (‘торжественный въезд Христа в Иерусалим’). Индивидуальной можно считать сему ‘witany palmami’ (‘приветствуют пальмами’).
В ISJP находим семы, которые показывают принадлежность праздника к религии: ‘w Kosciele katolickim i prawoslawnym’ (‘в католицизме и православии’).
Исследование показало, что значение эортонима в словарях русского и польского языков сходное. Различие наблюдается в статусе праздника. В православии он относится к двунадесятым – самым главным, а в католицизме имеет статус «праздника», отмечается менее торжественно.
Светлое Христово Воскресение – Niedziela Zmartwychwstania Panskiego.
Это великий христианский праздник, посвящённый воскрешению Христа, праздник, который в иерархии праздников находится над всеми праздниками. Этот праздник обозначается несколькими эортонимами: очень точное народное название – «праздников Праздник», или «Праздник праздников», Светлое Христово Воскресение, Великдень, Воскресение, Воскресение Господне, Пасха.
В католицизме: Wielkanoc, Niedziela Zmartwychwstania Panskiego, Pascha, Niedziela wielkanocna, Zmartwychwstanie Panskie, Wielki Dzien.
Вычисление даты празднования Пасхи – достаточно сложное явление. Общее правило для расчёта даты Пасхи: «Пасха празднуется в первое воскресенье после весеннего полнолуния». Однако, несмотря на единое правило, католичество и православие отмечают праздник в разное время. На это влияет соотношение лунного и солнечного календарей, различные пасхалии (Александрийская и Григорианская), определённый день празднования – воскресение.
Несмотря на то, что Пасха – Праздник Праздников, некоторые словари, вышедшие до 90-х годов, содержат фрагменты толкования, подчёркивающие пренебрежительность, мифичность, нереальность событий, которым посвящён праздник. Такие семы мы находим в МАСе, БАСе – ‘воскресения мифического основателя’, в СУ – ‘посвящённый так называемому воскресению’.
В словарях же, вышедших после 90-х годов, наоборот, подчёркивается верование в чудо: в БТС – ‘в память о чудесном воскресении Иисуса Христа после распятия’, в СОШ – ‘связанный с верой в чудесное воскресение Иисуса Христа’, в LMU – ‘празднуемый в память чудесного возвращения к жизни распятого на кресте’.
В БТС и в СОШ можно выделить элементы толкования со значением даты празднования – ‘в первое воскресение после весеннего равноденствия и полнолуния’.
В ChL толкование можно отнести к нейтральному, не содержащему эмотивных сем: ‘христианский праздник’, ‘посвящённый воскресению из мёртвых Иисуса Христа’, ‘празднуется в первое воскресенье’.
Если сравнивать значение эортонимов в русских и польских словарях, то мы увидим, что они совпадают. Это видно из элементов толкования: ‘swie’to chrzescijanskie’ (‘христианский праздник’), ‘na pamitke’ zmartwychwstania Chrystusa’ (‘в память воскресения Христа’), ‘w pierwsza niedziele’ po pierwszej wiosennej pelni ksie’zyca’ (‘в первое воскресение после весеннего полнолуния’).
Различие между эортонимами в польском и русском языках – дата празднования Пасхи из-за различного отсчёта времени, из-за разных календарей: григорианского и юлианского.
Вознесение Господне – Wniebowstpienie Panskie
Праздник посвящён вознесению на небо Иисуса Христа, завершению Его земного служения. В католицизме и православии праздник отмечают на 40-й день после Пасхи. И в католицизме, и в православии он относится к самым главным праздникам.
В православных календарях и словарях русского языка используются несколько эортонимов для обозначения этого праздника: полный «Вознесение на небо Господа нашего Иисуса Христа», усечённые: «Вознесение Господне», «Вознесение».
В католицизме – «swie’toWniebowstapienia Panskiego», «Wniebowstapienie Panskie», «Wniebowstapienie».
Рассмотрим эортоним «Вознесение» в русских и польских словарях.
Мы не находим эортоним в толковых словарях СУ и СОШ.
В БАСе и МАСе эортоним «Вознесение Господне» представлен как «Один из христианских праздников» (См. [2, II, с. 584], [3, I, с. 202]). В словарных формулировках этих словарей не представлены семы, объясняющие, к какой категории праздников он относится, когда отмечают, чему посвящён.
В современных словарях (БТС, LMU, СРЛ) нам представлена целостная картина праздника. Мы видим это из элементов толкования со значением: «какой статус имеет праздник» – ‘один из двунадесятых праздников’, «когда празднуется» – ‘отмечаемый на сороковой день после Пасхи’, «чему посвящён» – ‘в память вознесения Иисуса Христа на небо’.
К дифференциальным семам можно отнести то, как описывается событие, которому посвящён праздник.
В БТС упоминается, на чём основано данное событие, – ‘основанное на евангельском рассказе о вознесении Иисуса Христа на небо’.
В LMU описывается, когда зародился праздник, а также какое значение он имеет: ‘о приоритете духовного перед телесным’, ‘о приоритете идеального перед материальным’, ‘о приоритете возвышенного перед низменным’.
В СРЛ описывается особенности иконографии «Вознесения».
В словарях LMU и СРЛ подчёркивается принадлежность праздника к православию: ‘один из двунадесятых праздников православной Церкви’, ‘подвижный праздник в православии’.
В современных польских словарях мы не находим эортонима ‘Wniebowstapienie Panskie’ (‘Вознесение Господне’).
Только в Lindego B. «Slownik je’zyka polskiego»:
Wniebowstapienie 1. w religii chrzescijanskiej: wstapienie Chrystusa do nieba po zmartwychwstaniu. 2. zwiazane z tym swie’to koscielne.
Перевод:
Вознесение 1. В христианской религии: вознесение Христа на небо после Воскресения. 2. связанный с этим событием церковный праздник.
Мы видим, что элементы толкований из русских и польского словаря совпадают. ‘w religii chrzescijanskiej’ (‘в христианской религии’), ‘wstapienie Chrystusa do nieba’ (‘вознесение Христа на небо’). В толковании не указывается, когда отмечают данное событие.
Значения эортонима «Вознесение» в русском и польском языках совпадают.
Нами были проанализированы главные православные и католические религионимы со значением ‘весенний праздник’.
Весна – это время года, на которое приходятся самый главный религиозный праздник, – Пасха, а также практически все переходящие праздники.
Так как православие и католицизм – два направления одной религии – христианства, то, соответственно, мы видим сходства и различия.
Значение всех четырёх эортонимов в католицизме и православии совпадает, исключение составляют только детали празднования, что объясняется конфессиональным различиями и непосредственно отображается в названиях праздников, например: Niedziela Palmowa (Пальмовая неделя) – Вербное воскресенье.
В православии все четыре эортонима со значением ‘весенний праздник’ имеют статус двунадесятых, самых главных. В католицизме только три из них главные, а один имеет менее важный статус – Niedziela Palmowa (Пальмовая неделя).
Исследование эортонимов в нескольких словарях до 90-х годов (БАС, МАС, СУ) и после 90-х (СОШ, БТС, СРЛ, ChL, LMU, ISJP, USJP) позволило выделить несколько особенностей.
Словари советского периода, до 90-х годов, намеренно отходили от глубинного толкования, отталкивались от язычества и вводили фрагменты толкований с идеологическим и атеистическим значением. Задача словарей советского времени – убедить читателя в том, что религиозная картина мира связана с нереальным, мифическим мировоззрением.
В современных словарях эортонимы описываются объективно, из толкования исключены семы с идеологическим значением, праздники рассматриваются с точки зрения важных, главных праздников в христианском учении. И здесь можно говорить об адекватном отражении культурного понимания эортологической лексики.
Литература
1. Ушаков Д.Н. Толковый словарь русского языка: в 4 т. – М.: Советская энциклопедия, 1947–1948.
2. Словарь современного русского литературного языка: в 17 т. – М., Л.: Изд-во АН СССР, 1948–1965.
3. Евгеньева А.П. Словарь русского языка: в 4 т. – М.: Русский язык, 1981–1984.
4. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – М., 1992. – 940 с.
5. Бабенко Л.Г Большой толковый словарь русских существительных: Идеографическое описание. Синонимы. Антонимы. – М.: Аст-Пресс Книга, 2005. 864 с.
6. Азаров А.А. Русско-английский словарь религиозной лексики (с толкованиями). – М.: Руссо, 2002. 768 с.
7. Markunas A. Leksykon chrzescijanstwa rosyjsko-polski i polsko-rosyjski. – Poznan., 1999. 366 s.
8. Lewicki R. Chrzescijanstwo. Slownik rosyjsko-polski. – Warszawa., 2002. 368 s.
9. Banko М. Inny siownik je’zyka polskiego. – Warszawa: PWN, 2000. – Т. 1–2.
10. Dubisz S. Uniwersalny slownik jezyka polskiego. – Warszawa: PWN, 2003. – T. l–4.
11. Бугаева И.В. Агионимы в православной среде: структурно-семантический анализ. – М.: ФГОУ ВПО РГАУ – МСХА им. К.А. Тимирязева, 2007. 138 с.
12. Михайлова Ю.Н. Религиозная православная лексика и её судьба (По данным толковых словарей русского языка): дис. ... канд. филол. наук. – Екатеринбург, 2004. 171 с.
13. Бочарова I.В. Граматичнi параметри назв релiгiйних свят у сучаснiй українській мові дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук. – Киів, 1999. 189 с.
14. Linde S.B. Slownik je’zyka polskiego. – T. I–VI. – Warszawa, 1807–1814.
15. Вход Господень в Иерусалим [Электронный ресурс] / URL: http:// www.pravenc.ru/text/161041.html.
О некоторых случаях дисфункционального использования библейских крылатых слов в русском языке
А.Г. Саркисян
В статье рассматриваются случаи дисфункционального использования библейских крылатых слов (далее – БКС) в русском языке. Незнание народом языка богослужения привело к появлению разного типа «семантических сдвигов» в дефиниции некоторых БКС. Вероятно, именно это привело к появлению в современном русском языке:
1) крылатых выражений с противоположным первичному значением (Злачное место и др.);
2) БКС с ущербной дефиницией, которая появилась в силу неправильно понятого /переведённого/ компонента (Зарыть /Зарывать/ талант в землю и др.);
3) БКС с наличием лексического и грамматического архаизмов, которые иногда приводят к их неправильному использованию (Сын человеческий и Сыны человеческие и др.).
Ключевые слова: библейские крылатые слова, семантический сдвиг в значении, ущербное значение.
On some cases of nonstandard usage of biblical popular quotations in the Russian Language
A.G. Sarkisyan
The cases of nonstandard usage of biblical popular quotations (BPQ) in the Russian language are considered in the article. The various types of the so called «semantic shifts» in the definition of some BPQ were the natural sequence of nation’s unawareness of the liturgical language. The described process may be the reason of the origination of the following groups of BPQ in the modern Russian language 1) expressions receiving inverted significations if compared to the initial definition (Haunt of vice and etc.); 2) BPQ with the deficient definition which are the result of misunderstanding (or wrong translation) of some component (bury one’s talent and etc.); 3) BPQ containing lexical and grammatical archaisms which may at times cause the wrong usage of the phrase in question (the Son of Man and Sons of Men and etc.).
Возвращение русского и армянского народов к своим христианским истокам привело к образованию лакун при чтении, воспроизводстве и аудировании библейских текстов, при употреблении библеизмов и библейских крылатых слов в речи (далее – БКС), ибо многие, употребляя общеизвестные крылатые слова, даже не догадывались об их библейском происхождении.
В отличие от увеличения количества фразеологизмов русского языка фонд БКС остаётся неизменным. Первый двуязычный (русско-национальный) словарь крылатых слов впервые появились в СССР в 1980 г. – Берков В.П. «Русско-норвежский словарь крылатых слов» [1]. Согласно нашим подсчётам, в «Русско-английском словаре крылатых слов» 12,2% составляют библеизмы, восходящие к текстам Священного Писания (см. [2]), в «Русско-немецком словаре крылатых слов» их 103 из 1.200 единиц, то есть 9% (см.[3]), в словаре «Крылатые слова. Литературные цитаты. Образные выражения» – 201 из более полутора тысяч, то есть свыше 7% (см.[4]), в словаре «Современные крылатые слова и выражения» – 206 из свыше 2.500, то есть более 12% (см.[5]). Эта разница (5% – А.С.) объясняется большим охватом крылатых слов в последнем словаре. Нами не рассматривалась книга М.А. Булатова «Крылатые слова», потому что издана она была в 1958 г., да ещё в издательстве «Детгиз», и по понятным причинам число БКС там составляет мизерное количество[6]. На страницах «Словаря крылатых слов и выражений» Э.А. Вартаньяна насчитывается 83 БКС из 754 (см.[7]).
Знание значительного числа БКС и использование их как в письменной, так и в устной речи входит в очень удачно предложенное Е.М. Верещагиным и В.Г. Костомаровым лингвострановедческое терминологическое сочетание «облигаторный корпус русского сознания» [8, с. 196], хотя указанные библейские крылатые выражения не являются внутрикультурными и не ориентированы исключительно на русскоязычных. Считается, что на Западе сформировался «прометеевский» тип человека, в отличие от «иоанновского» типа, который характерен для России. «Иоанновский» человек терпелив, консервативен, погружен в прошлое и поглощён поиском идеалов и высшего совершенства, и именно такому типу человека присуще использование библейских крылатых слов для эмоционального выражения сказанного, а также для большей убедительности своих слов.
Для читателя толкование словарной статьи в словаре крылатых слов должно быть не только достаточным для понимания его значения, но и всеобъемлющим. Хотя великий немецкий лингвист Герман Пауль в своём «Словаре немецкого языка» (1897) избегал определений для слов немецкого языка, исходя из того предположения, что человеку, знающему немецкий язык, обычные значения немецких слов и так известны (хотя следует подчеркнуть, что его внимание было обращено на разные тонкие оттенки значений и на их историю).
Понятно, что всеохватывающей дефиниции не может быть (уже по определению) в кратком словаре, который, по Л.В. Щербе, «вызывает у серьёзных людей раздражение, так как он всегда оказывается недостаточным во всех тех случаях, когда словарь действительно нужен» [9, с. 274].
И поэтому имеющиеся дополнительные сведения о БКС, которые помогут читателю сориентироваться в семантическом поле данного выражения, должны быть представлены в словарной статье. См. такие типа сведения в словарной статье Что есть истина? нашего «Русско-армянского словаря библейских крылатых слов» [10, с. 183].
Что есть истина? На сюжет этого евангельского рассказа художником Н.Н. Ге (1831–1894) написана картина «Что есть истина?» (1890), находящаяся в Третьяковской галерее в Москве. Она была запрещена к показу повелением императора Александра III, куплена П.М. Третьяковым по настоянию Л.Н. Толстого.
Многие советские люди фактически не были знакомы с Библией, но её вечные истины пробивались к людям. Пробивались они то со страниц художественных произведений, а то и лозунгами официальной пропаганды: «Перекуём мечи на орала», «Кто не работает, тот не ест». Со временем многие библейские выражения утрачивали свой изначальный смысл, искажались. Так, приводя известное евангельское выражение «Не хлебом единым жив человек», всегда опускали вторую его половину – «но всяким словом, исходящим из уст Божиих» (Мф.4:4). До сих пор для многих является откровением, что источником некоторых распространённых крылатых выражений является Библия (по нашим подсчётам, их 234 единицы).
С.Г. Тер-Минасова в своём классическом университетском учебнике «Язык и межкультурная коммуникация» в «§ 4. Современная Россия через язык и культуру», говоря о радикальных переменах в общественной жизни и в русском языке, в качестве первой тенденции приводит возвращение старых слов (выделение автора. – А.С.) [11, с. 127]. Отметим, что большую часть среди них занимают библеизмы.
Новая российская социокультурная ориентация проявляется в том, что новые явления и предметы общественной российской жизни получают названия, существовавшие в политической лексике Российской Империи – Дума, губерния, Ваша честь и пр. Среди данного массива слов особым случаем актуализации устаревших единиц является актуализация конфессиональной и церковнославянской лексики (см. работы В.Г. Костомарова, Е.В. Кокориной, Е.С. Кара-Мурзы, В. Москвича, Л.П. Кременцова). Обращение к Библии в настоящее время означает восстановление коммуникативных связей между современностью и прошлым. Но этот процесс могут сопровождать помехи, которые создают дополнительные трудности при восприятии информации. Причиной таких помех может являться незнание глубинного смысла текста Священного Писания, откуда и может вытекать неверная интерпретация слов, содержащихся в библейских текстах. Это обстоятельство (наряду с другими) даёт право говорить о проблеме дисфункционального использования актуализированных единиц языка. Под дисфункциональным использованием актуализированных единиц понимаются случаи, когда говорящий или пишущий приписывает лексеме неверное значение, отчего возникает эффект, автором этого сообщения не планируемый. Случаи неуместных употреблений библейской фразеологии, причина которых в непонимании тех речений, которые заимствуются из Священного Писания, вероятно, подходят под определение: «Помехи: незапланированные искажения в процессе передачи информации, приводящие к тому, что адресат получил не то сообщение, которое передал отправитель» [12, с. 869]. Заметим в скобках, ибо это выходит за рамки рассматриваемого вопроса, что цитировали Библию в восточнославянской (русской) действительности всегда, и, естественно, больше в агиографической литературе. А вопросу особенностей цитирования Св. Писания была посвящена даже кандидатская диссертация А.В. Тупикова, защищённая в Волгограде в 2011 году[13].
Отметим, что сегодня использование религиозно-культовой лексики происходит не всегда осознанно, и одной из проблем является правильное использование библеизмов в речи, выявление и устранение причин ошибок. В основе ошибок неправильного использования библеизмов (слов, фразеосочетаний, афоризмов, восходящих к Священному Писанию), по Е.Н. Прибытько, «лежит не только незнание фразеологии, невнимательное отношение к языку, но, в ряде случаев, плохое знание библейских сюжетов, непонимание церковнославянских слов, сохранившихся в русских библеизмах» [14, с. 53–55].
С несколько иной точки зрения освещает проблему неправильного использования библеизмов С.А. Гостева: «Из-за недостаточного знания современным обществом иностранных языков, в особенности классических – латинского, греческого, а также старославянского языка <...> для неспециалиста становится недоступным осознание внутренней формы некоторых сакральных слов» [15, с. 87].
К сожалению, русисты пока мало затрагивают проблему правильного использования библеизмов или такие исследования носят фрагментарный характер. Среди удачных отметим совместный труд Г.Я. Лилич и О.И. Трофимкиной, на страницах которого рассматривается использование в современном русском языке сочетания «ложь во спасение» вместо непонятного сегодня церковнославянского «ложь конь во спасение» [16, с. 277].
Е.В. Кокорина, рассматривая использование конфессиональной и церковнославянской лексики в современных массово-коммуникативных текстах, подчёркивает случаи «оживления старых метафор» [17, с. 72]. В этом контексте особо следует сказать об использовании актуализированных БКС, ибо стилизация под тексты конфессионального типа является сегодня излюбленным приёмом литераторов и журналистов. К сожалению, мы вынуждены отметить, что примеров правильного и осознанного употребления БКС как в текстах современной литературы, так и в речевом пространстве сегодняшних СМИ найти трудно.
Для некоторых БКС обязательны лингво-культурологические и лингво-страноведческие пояснения, которые должны помочь современному читателю понять некоторый имеющийся семантический сдвиг в значении данного выражения. Большое количество БКС получило крылатость в форме цитаты на церковнославянском языке. Это естественно, ведь Библию на Руси, в Московии, в Российской Империи на протяжении многовековой истории русского народа читали на церковнославянском языке. Незнание народом языка Священного Писания и богослужения, генетически близкого к языку, на котором он говорил, привело к появлению разного типа «семантических сдвигов» в дефиниции некоторых БКС. Вероятно, именно это привело к появлению в современном русском языке: 1) крылатых выражений с противоположным первичному значением (Злачное место; Унижение /Уничижение/ паче гордости и др.). Здесь и далее в целях экономии места разберём по одному примеру.
Злачное место – в современном русском языке это выражение употребляется иронически в значении ‘место пьянства, разврата, азартных игр и пр.’ Однако в Псалтире «злачное место» употребляется в противоположном современному значении ‘приятное, спокойное, всем изобильное место’: Господь – Пастырь мой; я ни в чём не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим (Пс.22:1–2).
В современном русском литературном языке (МАС) существительное «пажить» ‘луг, поле’ имеет стилистическую помету трад.-поэт. [18, III, с. 11]. Слово это восходит к старославянскому пажить (частота по Старославянскому словарю – 11) – «пастбище» [19, с.440], см. также в ЭСРЯ «пажить» – др.-русск., ст.-слав. «луг» [20, III, с. 185].
В СДР злачьныи от существительного злакъ ‘травянистое растение, идущее в пищу’ [21, III, с. 384, 389]. Словарь русского языка XVIII века уже приводит два значения к этому прилагательному «1. изобилующий травою, зеленью; 2. перен. Приятный, покойный, благоденственный» [22, с. 185]. В Словаре В. Даля зарегистрировано одно значение прилагательного злачный ‘травный, травнистый, богатый растительностью, обильный злаками’ [23, I, с. 683]. В МАС с пометой «устарелое» представлено то же значение ‘обильный, богатый злаками; плодородный’, но после знака «ромб» представлено устойчивое сочетание злачное место с пометами «шутливое», «ироническое» – ‘место, где кутят и развратничают’ [18, I, с. 611].
Фраза на злачных пажитях означала некогда ‘на урожайных полях’. В заупокойной православной молитве есть такое выражение: «Упокой, Господи, душу раба Твоего в месте светле, в месте злачне, в месте покойне», то есть в раю. Сравни также: «И так мы оба, на земли поживши <.. .> водворимся в место злачно, в место покойно идеже праведники упокоеваются» Трут. 1769 [22, с. 185].
2) БКС с ущербной дефиницией, которая появилась в силу неправильно понятого (переведенного) компонента (Легче верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие небесное; Зарыть /Зарывать/ талант в землю; Юдоль плача; Колосс на глиняных ногах; Посылать от Понтия к Пилату; Притча во языцех; Ложь во спасение; Власти предержащие и др.).
Неправильному пониманию БКС Притча во языцех способствует компонент во языцех, который воспринимается, по МАС, как словоформа от язык ‘орган речи’ [18, IV, с. 780].
Во языцех – форма древнерусского существительного местного падежа множественного числа с заменой смягчённого заднеязычного к свистящим ц от слова языкъ. В Старославянском словаре после вокабулы языкъ (с орфографическим йотированным юсом малым) третьим значением представлено: ‘народ, племя’ [19, с. 807]. В Словаре Даля последним значением зарегистрировано: ‘народъ, земля, съ иноплеменнымъ населеньем своимъ, съ одинаковою речью’ [23, IV, с. 674]. Уже в академическом словаре последней трети ХХ века (МАС) это значение сопровождается пометой «устарелое»: «6. Народ, народность»; и из 41 фразеологического оборота и устойчивого сочетания, помещённых после объяснения всех значений слова, за знаком «ромбик» предпоследним представлено Притча во языцех [18, IV, с. 780]. В «Стилистическом словаре публицистики» после третьего заголовочного слова-омонима язык в значении ‘народ, нация’ с пометой «устарелое» зафиксирован БКС Притча во языцех [18, с. 646].
3) БКС с наличием лексического и грамматического архаизмов, которые иногда приводят к их неправильному использованию (Сын человеческий и Сыны человеческие; Мафусалов век и Мафусаилов век; Врачу, исцелися сам; Довлеет дневи злоба его; Заднюю созерцать; Имя им легион; Ныне отпущаеши; Страха ради иудейска; Трудно против рожна прати; Убояси бездны премудрости; Чающие движения воды и др.).
БКС Врачу, исцелися сам выражение получило крылатость в форме цитаты на церковнославянском языке и употребляется в значении: прежде чем осуждать других, исправься сам, то есть когда рекомендующий кому-либо исправиться от какого-либо недостатка сам страдает этим пороком не в меньшей степени. Однако обращение, стоящее в некогда звательном падеже, дезориентирует читающего/ слушающего. Форма компонента врачу восходит к звательному падежу единственного числа, мужского рода древнерусского существительного «врачь» с основой на –jo.
Форма глагольного компонента исцелися в рассматриваемом БКС может привести к неправильному выводу о якобы разговорной форме глагола повелительного наклонения исцелиться. Однако здесь наличествует древнерусская форма префиксально-постфиксального глагола 2–3 лица единственного числа повелительного наклонения исцелися с постфиксом –ся вместо ожидаемого в современном русском постфикса –сь после флексии –и.
Литература
1. Берков В.П. Русско-норвежский словарь крылатых слов. – М., 1980.
2. Уолш И.А., Берков В.П. Русско-английский словарь крылатых слов. – М.: Рус. яз., 1984.
3. Афонькин Ю.Н. Русско-немецкий словарь крылатых слов. – М.: Рус. яз., 1985. 287 с.
4. Ашукин Н.С., Ашукина М.Г. Крылатые слова. Литературные цитаты. Образные выражения. – 4-е изд., доп. – М.: Худож. лит., 1987. 528 с.
5. Грушко Е.А., Медведев Ю.М. Современные крылатые слова и выражения. – М.: Рольф, Айрис-пресс, 2000. 544 с.
6. Булатов М.А. Крылатые слова. – М.: Детгиз, 1958.
7. Вартаньян Э.А. Словарь крылатых слов и выражений. – М.: Русское слово, 2001. 416 с.
8. Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. Язык и культура: Лингвострановедение в преподавании русского языка как иностранного. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Рус. яз., 1990. 196 с.
9. Щерба Л.В. Опыт общей теории лексикографии // Языковая система и речевая деятельность. – М.: Наука, 1974. С. 274.
10. Саркисян А.Г. Русско-армянский словарь библейских крылатых слов. – Тула: Изд-во «Гриф и К», 2001. 236 с.
11. Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация. – 2-е изд., дораб. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 2004. 352 с.
12. Котлер Ф., Амстронг Г., Сондерс Д., Вонг В. Основы маркетинга. – 2-е изд. – М.; СПб.; Киев., 1999. 869 с.
13. Тупиков А.В. Особенности цитирования Священного Писания в оригинальных произведениях русской агиографии [Электронный ресурс] / URL http:// www.dissercat.com/content/osobennosti-tsitirovaniya-svyashchennogo-pisaniya-v- originalnykh-proizvedeniyakh-russkoi-agi).
14. Прибытько Е.Н. Ошибки в употреблении библеизмов на газетной полосе // Акценты. Новое в массовой коммуникации. – 2000. – № 1–2. С. 53–55.
15. Гостева С.А. Религиозно-проповеднический стиль в современных СМИ // Журналистика и культура речи. – Вып.2. – М.: Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, 1997. С. 87.
16. Лилич Г.Я., Трофимкина О.И. Библеизмы в современном русском и сербском языках // Изучение славянских языков и культур в инославянской среде. – Белград, 1998. С. 277.
17. Кокорина Е.В. Трансформация лексической семантики и сочетаемости // Русский язык конца ХХ столетия (1985–1995). – 2-е изд. – М., 2000. С. 72.
18. Словарь русского языка: в 4 т. / Под ред. А.П. Евгеньевой. – 2-е изд. испр. и доп. – М.: Рус. яз., 1985–1988.
19. Старославянский словарь (по рукописям X–XI веков) / Под ред. Р.М. Цейтлин, Р. Вечерки и Э. Благовой. – 2-е изд. – М.: Рус. яз., 1999. 842 c.
20. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: в 4 т. – М.: Прогресс, 1986–1987.
21. Словарь древнерусского языка (XI–XIV вв.) / Гл. ред. Р.И. Аванесов. – T. I–IV. – М.: Рус. яз., 1988–1990.
22. Словарь русского языка XVIII века. – Вып.8. – СПб.: Наука, 1995. 185 с.
23. Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. – М.: Рус. яз., 1978–1980.
24. Солганик Г.Я. Стилистический словарь публицистики. – М.: Русские словари, 1999. 646 с.
К вопросу о втором южнославянском влиянии: стиль «плетения словес» и принципы расширения текста в памятниках поздней афонской редакции
О.В. Чевела
Статья посвящена переводу Триоди поздней афонской редакции. Особенности переводческой техники рассматриваются в диахронии, в широком историко-культурном контексте. Выявлены типичные признаки, характерные для украшенного стиля «плетения словес»: повторы и удвоение элементов текста, ориентация на сакральную численность.
Ключевые слова: герменевтика, гимнография, конфляция, перевод, теолингвистика.
O.V. Chevela
To the question about the second south slavic influence: style of weaving of words and principles of expansion of the text in the monuments of the late athos edition.
The article is devoted to translation Triodion late Athos edition. Peculiarities of translation techniques are discussed in diachrony, in a broad historical and cultural context. Revealed the typical characteristics for the decorated style of «weaving of words»: repeats and a doubling of the elements of the text, the orientation of the sacred number.
Судьба перевода Триоди связана с диалектикой двух противоположных подходов – герменевтического и герметического. Первые переводчики изъясняют смысл текста, стараясь сделать новое (христианское) содержание понятным для своих современников. Постепенно складывается и другой подход к переводимому тексту, стремящийся найти точное соответствие каждому элементу исходной структуры. Два противоположных подхода к тексту сочетаются и внутри одной (афонской) редакции. Одна (ранняя) традиция доходит до буквализма в своём стремлении «не преложить единой черты», сделав содержание сакрального текста доступным лишь для узкого круга посвящённых, другая же стремится не только к наибольшей полноте раскрытия смысла, заложенного в оригинале, но и к привнесению новых смыслов. Противоборство этих тенденций продолжает сосуществовать до настоящего времени, что делает данную тему актуальной как для современного литургического дискурса, так и для теолингвистики в целом.
В тексте печатных изданий Триоди XVII века впервые появляются различные прибавки, внесённые с целью уточнения или пояснения. Эти Триоди относятся к афонскому типу, однако первоначальный текст в них подвергся значительной переработке. Перевод этой редакции примечателен главным образом тем, что содержит ряд прибавлений, не обусловленных структурой греческого оригинала, а для переводческой техники характерен прием конфляции.
Наряду с определённым возвратом к системе эквивалентов доафонских рукописей (продиктованным и стремлением избавиться от излишнего буквализма), в плане переводческой техники она характеризуется принципиально новым (свободным) отношением к переводимому тексту, где движение Текста определяется не только авторитетом традиции или структурой оригинала, но и частным «мнением», не только развёртывая и изъясняя смысл, заложенный в оригинале (как это было в доафонских рукописях), но и привнося новые «оттенки».
На лексическом уровне использование приёма конфляции сопровождается удвоением лексических единиц. Эквиваленты могут образовывать различные типы парных сочетаний с сочинительной или подчинительной связью.
а) соположение славянского эквивалента Гим с непереведённым грецизмом (двуязычные дублеты): камень адамантъ [Тр. 1635] – ἀδάμαντος.
б) совмещение эквивалентов Аф и Гим, сопровождающихся установлением гипонимо-гиперонимических отношений: повѣленїѧ ᲂуставъ [Тр. 1648] – ὁρισμόν.
в) совмещение вариантов Аф и Гим, восходящих к византийским разночтениям:
преукрашена славою бж҃ственою таино. [Тр. 1635 г] – θεΐκῆ, бж҃ственою. (Аф) /
/ таиною. (Гим). Наряду с вариантом Аф, справщики воспроизводят соответствие Гим, не отражающее стоящее в греческих печатных изданиях θεΐκη ‛божественной’ и очевидно, восходящее к разночтениям θεΐκῃ // μυστικῃ, не противоречащим принципам омотонии и краесогласия.
В отдельную группу можно выделить варианты, поддерживающиеся «параллельными местами» и доктринальными соображениями: ѿ дꙋновенїа и прикосновенїа [Тр. 1648] – ἐκ τῆς ἀφῆς. Варианты восходят к различным редакциям (Гимовской и Афонской).
Варианты, восходящие к паронимам оригинала, могут относиться к различным частям речи. В стихирах преполовению Пятидесятницы: чюдеⷭ҇ множство, евреѡмъ же ѹжасъ [КТ 442] // чюдесъ множство <ꙗви> <во> ѹжасъ евреѡмъ [Тр. 1635] – θαυμάτων πλήθη Ἐβραίοις δεδειχεν. Текст Аф следует другому чтению – δὲ δειμος. Внося в перевод исправление, справщики совмещают его с прежним эквивалентом Аф, производя перекомпоновку элементов синтагмы, изменяя порядок слов и добавляя предлоги.
Расширение текста происходит и в результате «развёртывания», ключевого слова до метафоры или трафаретной формулы.
тѧжкыа <врагы> ѿгнаша и пагᲂубныа влъкы праще. дх҃а изметавше <плевелы> ѿ црковнаго исплъненїа – τοῦ βαρεῖ ἤλασαν, καὶ λοιμώδεις λύκοὺς, τῃ σφενδόνῃ τους Πνεύματος, ἐκσφενδονήσαντος, τους τῆς Ἐκκληησίσς πληρώματος, πεσόντας ὡς πρὸς θάνατου καί ὡς ἀνιάτως νοσήσαντας. В оригинале развёртывается центральный символ оружия Св. Духа, восходящий к текстам Псалтири и посланий апостола Павла. Преодоление избыточности подлинника (τῆς σφενδόνη... ἐκσφενδονήσαντος) постепенно приводит к ослаблению, а затем и утрате связи между ключевым словом и его глагольным формативом: пращею дх҃а пращеизметавше – пращею дх҃а изметавше – пращею дх҃а изметавше <плевелы>.
Славянский глагол bpvtnfnb обладал способностью передавать ряд греческих соответствий (καθαίρω, ἐκβάλλω), а также использоваться в составе развёрнутых метафор из области садоводства и земледелия [СДРЯ, т. 4:47]. В результате в текст независимо от оригинала вплетается новый мотив, оставаясь при этом в рамках традиции: Церковь – поле, ересь – плевелы. В частности, восходящая к творением Григория Назианзина формула ζηζανίων ο σπορεύς ‘сеятель плевелов’ присутствует в каноне Св. Отцам Никейского собора (п. 6, тр. 1).
Избегая необычного порядка слов, справщики добавляют недостающий (по их мнению), метафорический компонент формулы:
ꙗко крилати <ѡрли> словᲂу помощи прїидосте бг҃облаженїи ѿ конець вѡ въселеныа събравъ дх҃ъ ст҃ыи [Тр. 1635] – ὡς ὑπόπτεροι τῶς Λόγῳ βοηθήσαντες ἥκετε θεομακάριστοι. Греческое прилагательное ὑπόπτερος в переносном смысле, реализованном в данном контексте, означает ‘быстрый’. Метафора в славянском переводе возникает под влиянием библейской символики. По аллегорическому толкованию Отцов Церкви, на основании Мф.24:28 – ὅπου γὰρ ἐὰν ἧ τὸ πτωμα, ἐκεὶ συναξφήσονται οἱ ἀετοί «ибо где будет труп, там соберутся орлы», крылатым орлам уподобляются ученики Христа, а также все христолюбивые люди, поднимающиеся на крыльях Св. Духа:
ὅπου γὰρ τὸ κατὰ τὴν οἰκονομίαν τοῦ πάθοῦς πτωμα πέσοντος τοῦ Ἰησου, ἵνα τοὺς πεσόντας στήσῃ, συναχθήσονται ...οἱ πτεροφυουντές μαθηταὶ καὶ κατὰ τὸν Σολομωνα κατασκευάσαντες πτέρυγας ὥς ἀετοί; ἀετοί ἡμᾶς ὁ Χριστός ἐκάλεσεν, ἵνα ὑψηλὰ πετώμεθα τοὶς πτεροὶς τοῦ πνεύματος κουφιξόμενι; Χριστός δὲ τὸ πτωμα, ἀετοί ὑψ ηλοπετεῖς οἱ θεοσεβεῖς καὶ φιλόχριστοι ἄνθρωποι [Lampe 1961:40]. Опосредованный библейским текстом, вариант устойчивой формулы ὑπόπτεροι ἀετοί встречается в канонах Апостолам – ὑπόπτεροι ἐν νεφέλαίς ἀρθέντές ἀετοί, ὡς ὑψίπετοι τοὺς Λόγου «Трубы крилатии, высоколетающие орлы Слова» [Рыбаков 2002:400]. В результате независимо от оригинала компоненты текста соединяются в новый целостный образ
Трафаретные формулы также вносятся независимо от оригинала:
копїемъ прободенаа ти ребра <испытавъ> премⷣрѡсти и разꙋма наполнѧет мира близнець [Тр. 1635, Eru= об.] – λόγχῃ διασιγρίςὴς σου πλευρὰε, σοφίας καὶ γνώσεως, ἀναπιμπλᾳ τὸυ κόσμου ὁ Δίδιμος.
Порядок слов и синтаксическая структура оригинала (в оригинале – родительный партитивный, сопровождающийся цепочкой родительных падежей (родительный при глаголах избытка-недостатка: от прободенного ребра, премудростью и разумом наполняет мир) представлялась справщикам неудобопонятной, в результате в текст вносится формула, связанная с основным воспоминанием – испытанием прободенного ребра Спасителя «десницею любопытною».
Иногда в результате подобных прибавок происходит разрушение традиционных синтагм: по рожⷵтве дв҃ою ꙗвила сѧ еси чистаа • бг҃а бо родила еси • истъщившаго етⷭ҇во <адово> пречистаа силою своею [Тр. 1635] – καινοτομήσαντα φυσεἱς (Канон Слепому, п. 5).
Воспроизводится искажение, очевидно, вызванное неисправностью греческого текста, взятого за основу переводчиками Аф. Глагол kainotomevw собственно означает ‘делаю свежий надрез, просеку’; ‘вновь приспосабливаю, реформирую’; также ‘рублю новый ход в каменоломне’, в переносном употреблении синонимичен καινουργέω ‘обновляю, преобразовываю’. В доафонских списках смысл передан адекватно, само же выражение сближается с вариантом формулы καινίσαντα τὴν φύσιν (канон в нед. Св. Жён Мироносиц, п. 5) – обновльша естьство [Тип. 98]. В Аф смешение компонентов καινο-, καινόω ‘обновляю’ и κενο-, κενόω ‘истощаю, опустошаю’, нельзя исключать возможной порчи текста или варьирования формульного состава в греческих списках – καινώσαντα, κενώσαντα*. Словарями церковнославянского языка полная калька отмечена в составе формулы инвариантного содержания естьства новопресѣче – φυσεῖς ἐκαινοτόμησε (глас 1 на стихов. Богор.) [Дьяченко 2001:356]. Г. Дьяченко выражение поясняет следующим образом: «воплотившийся Господь установил новое общение, или единение между естествами, естества явил в новом состоянии».
Глосса вносится справщиками с целью сделать тёмное место более, по их мнению, удобопонятным. По аналогии с богородичными, построенными на параллелизме между Рождеством и Воскресением, вносится теологумен о разорении (опустошении, истощении) адских глубин, извергнувших всех «сущих во гробех». В литургических текстах глагольный форматив в данных контекстах употреблялся с другими распространителями, ср.: адова съкровища истъщивъ – Ἅδου τὰ ταμεῖα ἐκκενώσας.
Расширение текста происходит и за счёт эпитетов-определений:
преукрашена славою бж҃ственою таиною [Тр. 1635 г.] – θεΐκῃ ст҃го сщ҃нства чтⷭ҇но <стымъ и пречистымъ> мирѡⷨ печѧтлѣвшисѧ [Тр. 1648] – τῆς παναγίας ἱερωσύνης σεπτῶς, τῶς μύρῳ σφραγισθεντές //сщ҃нии пречстное Ѳпречⷭ҇тоеѵ • и ст҃ое мюромъ знаменани (Гим) // въсест҃го сщ҃нства чтⷭ҇но • мирѡⷨ печѧтлѣвшїисѧ (Аф). Порядок слов в Гим отступает от греческого, удвоение компонентов формулы вызвано совмещением вариантов Гим и Аф.
Расширение формул за счёт эпитетов-определений может быть мотивировано соображениями доктринального плана:
бг҃а оц҃а <безначѧлна> сн҃а събезначална [Тр. 1648 г.] – Θεὸν Πατέρα Υἱὸν συνάναρχον. В результате «восстановления» традиционного эпитета Первого Лица Св. Троицы независимо от оригинала возникает figura etymologika.
Прибавления доктринального плана наблюдаются и в других фрагментах, восходящих к Символу Веры и соотносимых с его развёртыванием:
Въ лѣто ѿ дх҃а <прест҃го> <и ѿ мт҃ре> дв҃ы пришелъ еси [Тр. 1648 г.]– ἐν χρόνῳ ἐκ Πνεύματος παρθενικων σύ προηλθές αἰμάτων, ср.: въ лѣто ѿ дх҃а дв҃ыа пришел еси (Аф), ср.: καὶ σαρκωθέντα ἐκ Πνεύματος ἁγίου καὶ Μαρίας τῆς παρθένος καὶ ἐνανθρωπήσαωτα (Симв. В).
Как и в доафонских списках, используется перевод по принципу уточнения смысла синтагмы, со сменой принципиальной установки: в древних рукописях переводчик развёртывает в текст или уточняет смысл исходной синкреты, в центре внимания новых справщиков – традиционный символ.
пажить арїеву, лютыа ереси <истребисте> ꙗко врачеве дш҃мъ и телѡмъ състависте [Тр. 1648 г.] – νομὴν Ἀρείου δεινῆς αἱρέσεως, ὡς ἰατροὶ ψυχων τε καὶ σωμάτων.
В оригинале ересь образно уподобляется распространению заразы, которое останавливают, подобно опытным врачам, св. Отцы Никейского Собора. Отметим, что в существующих славянских версиях лексема ἐστήσατε передана неудовлетворительно, калька състависте в Аф передаёт первичное значение ἵστημι ‘ставлю’; устанавливаю, утверждаю’; ‘останавливаю’. В Триоди 1635 г. появляется гипероним низложисте, в результате возникает игра слов: пажить арїеву, лютыа ереси низложисте сщ҃енно образъ вѣры въсѣм изложившею. Новые справщики вводят в текст метафору, приводя глагольный форматив в соответствие с ключевым словом пажить ‘луг’, и развёртывая образ расчистки земли, характерный для библейских метафор из области садоводства и земледелия. Один из традиционных эпитетов святых – φυτουργοί «садоделатели (насадители, садоводы)». Уничтожение плевелов ереси, выросших на ниве христианства, уподобляется расчищенной земле. Др. рус. и цслав. трѣбити ‘чистить, корчевать’ соотносится с болг. требя ‘чищу, корчую’, польск. trzebic ‘корчевать’, словен. trebiti ‘чистить, корчевать, выгребать’, чеш. tribiti ‘просеивать, очищать’. Сюда же входит теребить ‘корчевать, чистить’, блгр. церебіць ‘корчевать’, отсюда тереб ‘расчищенная от кустарника под пашню земля’ ‘покосы, луг’ [Фасмер т. 4:45]. Оба варианта дают хороший смысл.
Примечательно, что расширением сопровождается текст различных жанров, сходящих в состав Триоди – торжественных слов, молитв. Особенно показательны в этом плане прибавления, внесённые в текс «Слова на Пасху» Иоанна Златоуста.
В новой пространной редакции слова отразились типичные признаки, характерные для украшенного стиля «плетения» словес: использование различного вида повторов, нагнетание синонимов и однокоренных слов, ориентация на сакральную численность.
Троичные ряды вводятся в текст за счёт использования лексических эквивалентов одних и тех же греческих слов, сложившихся в разных переводческих школах.
Иже аще кто бг҃олюбивъ и бл҃говѣренъ <и бл҃честивъ> – εἴ τὶς εὐσεβής καὶ φίλόθεος.
Одному греческому слову εὐσεβής ‘благочестивый, набожный’ соответствуют два славянских – бл҃говѣренъ и бл҃гочестив. Первое характерно для доафонских списков, полная калька появляется в Аф. Варианты известны и по другим источникам.
Контаминация парных сочетаний богатїи и ᲂубозїи, нищїи и ᲂубозїи приводит к появлению «усиленной» формулы богатїи и ᲂубозїи и ᲂубозїи и нищїи: богатїи и ᲂубозїи и <нищїи> дрꙋгъ съ дрꙋгомъ ликꙋите – πλούσιοι καὶ πένητες μὲτ ἀλλήλων χορεύσατε.
Совмещаются славянские эквиваленты прилагательного pevnh” – yboqb и jE,jpqb, сложившиеся в различных переводческих школах – Охридской и Преславской. В результате в текст вводится парная формула, восходящая к тексту Псалтири.
В результате контаминации формул с общим компонентом и нагнетания однозначных слов образуются градуальные троичные ряды:
И первїи и вторїи и <последнїи> мздꙋ прїимите – πρωτοι καὶ δεύτεροι τὸν μισθὸν ἀπολάβετε.
Троичный ряд возникает в результате наложения на трафаретную формулу первїи и последнїи, являющуюся ключевой для понимания притчи [Мф.20:8, 16] и также встречающейся в тексте Слова.
Отметим, что примеры расширения текста присутствуют и в доафонских списках. Принципиальное отличие заключается в том, что там они обусловлены другими факторами. Чаще всего, это попытка прояснения денотата, особенно на месте субстантивированных прилагательных оригинала:
многоцѣнное мюро – τὸ πολύτιμον, безаконнъіихъ людии – τῶν ἀνόμων, прапрᲂудною. одежею. – τῆς ἀλουργίδι ‘пурпурное платье’, въішнимъ силамъ – ταὶς ἀνωτέραις.
За счёт расширения текста уточняется и глагольная семантика: мюромь помазатъ – μυρίσαι, ѿ страха омертвеша – ἀπενεκρώθησαν.
Иногда подобные прибавки обусловлены гармонизацией с параллельными местами Ветхого и Нового Завета, что позволяет говорить о появлении экзегетирующего перевода уже в ранних списках славянской Триоди: въ преисподнѧꙗ стрлны землѧ – ἐν τοὶς κατωτάτοῖς τῆς γῆς, сн҃ᲂу заведеокᲂу – τῶν ἐκ Ζεβεδαίου, вараввᲂу же намъ на пасху отъпусти – βαράβαν δὲ μαλλον οὖτοι ᾑτήσαντο.
Таким образом, наряду с определённым возвратом к системе эквивалентов доафонских рукописей, в плане переводческой техники текст поздней афонской редакции характеризуется принципиально новым (свободным) отношением к оригиналу, не только развёртывая и изъясняя заложенный в нём смысл, но и привнося новые «оттенки». Как и в доафонских списках, используется перевод по принципу уточнения смысла синтагмы, со сменой принципиальной установки: древний переводчик развёртывает в текст или уточняет смысл исходной синкреты, в центре внимания новых справщиков – традиционный символ. На выбор переводчика оказывали влияние «параллельные места» и библейские аллюзии, в соответствии с которыми он старался воспроизвести и литургический текст.
Удвоение элементов Текста, характерное для этой традиции, находится в несомненной связи со стилем плетения словес, появившимся в памятниках, созданных на второй волне южнославянского влияния в Московской Руси. В тексте этой редакции отразились и другие типичные признаки, характерные для украшенного стиля: использование различного вида повторов, нагнетание синонимов и однокоренных слов, ориентация на сакральную численность.
Источники
Триодь Цветная XII в. // РГАДА, ф. 381, ед. хр. 137, 258 л. – (Рус.). – МК.
Триодь Цветная XII в. // РГАДА, ф. 381, ед. хр. 138, 181 л. – (Рус.). – Тип
Триодь Цветная XIV в. // ОРРК РГБ, Вологод. собр., ед. хр. 241. – (Рус.). – Вол.
Триодь Цветная XV в. // ОРРК НБЛ, ед. хр. 4633, 429 л. – (Рус.) – КТ.
Триодь 1648 г. – Триодь Цветная 1648 г. // ОРРК НБЛ, ед. хр. В. 185 159. Триодь Цветная. – М., 1648 г. 574 с. – (Рус.). – Тр. 1648 г.
Триодь 1670 г. – Триодь Цветная 1670 г. // ОРРК НБЛ, ед. хр. 152037. Триодь Цветная. – М., 1670. 403 с. – (Рус.). – НТ
Триодь Цветная – Пентикостарион (Триодь Цветная) – М.: Синод. тип, 1912. – СТ.
Триодь Постная – Триодион, сиесть Трепеснец (Триодь Постная) – М.: Синод. тип, 1915. – СТ.
Толковая Библия – Толковая Библия, или комментарий на все книги Святого Писания Ветхого и Нового Завета. – 2-е, репринт, изд. / под ред. А.П. Лопухина. – Стокгольм, 1987. – Т. 1–3. – (Публикация издания преемников А.П. Лопухина). – ТБ
Πέντηκοστάριον – Πεντηκοστάριον χαρμόσυνον τὴν ἀπο τοῦ Πάσχα μεχρὶ τῆς τῶν Ἁγίων Πάντων κυριακησάνηκουσαν αὐτῶς ἀκολουθίαν – Βενέτια, ἐκ τοὺς ἐλληνικου τυπογραφέιου ὁ Φοίνιξ, 1884. 227 σ. – Πεντ.
Τριωδιών – Τριωδιών, ἐν Ρωμε, 1886. 389 σ. – Τρ.
Литература
СДРЯ – Словарь древнерусского языка (XI–ХIV вв.). – М.: Наука, 1988–2008. – Т. 1–8. Рыбаков 2002 – Рыбаков В.А. Святой Иосиф Песнопевец и его песнотворческая деятельность / В.А. Рыбаков. – М.: Русская книга, 2002. 656 с.
Дьяченко – Дьяченко Г.М. Полный церковно-славянский словарь. – Репринт. изд. / Г.М. Дьяченко. – М., 2000. 1120 с.
Фасмер – Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: в 4 т. / М. Фасмер – М.: Прогресс, 1986–1987. – Т. 1–4.
Проблемы преподавания церковно-греческого языка в условиях реформы духовного образования
О.В. Чевела
Статья посвящается проблемам преподавания греческого языка в высших духовных заведениях. Представлен анализ существующей научно-методической литературы, разработана система заданий и упражнений, предложена тематика и методика преподавания греческого языка на продвинутом этапе обучения.
Ключевые слова: грамматика, синтаксис, методика преподавания, церковно-греческий язык.
Problems of teaching of the the Church-Greek language in the conditions of the reform of theological education
О.У. Chevela
The article is dedicated to the problems of teaching the Greek language in higher spiritual institutions. Presents the analysis of the existing scientific and methodological literature, developed a system of tasks and activities proposed themes and methods of teaching the Greek language at the advanced level.
Древнегреческий язык занимает особое место в высших духовных заведениях. Для будущих выпускников духовных семинарий и академий это один из языков специальности, без которого невозможно полноценное овладение специальной богословской терминологией, знакомство с источниками на языке оригинала. В последнее время в связи с появлением образовательных стандартов третьего поколения и необходимостью разработки новых учебных программ по древним языкам вновь остро встаёт вопрос о преподавании древних языков в изменившихся условиях. В целом можно говорить о двойственном положении в сфере преподавания этих дисциплин: с одной стороны, введение новых образовательных стандартов вызвало резкое сокращение часов, отведённых на изучение языковых дисциплин, в том числе и в высших духовных заведениях. С другой стороны, переход к двухступенчатой модели образования не только создаёт возможность скомпенсировать нехватку часов в магистратуре, но и предполагает выделение продвинутого этапа в изучении древних языков – латыни и древнегреческого.
В бакалавриате также можно выделить две ступени – начальный этап (курс «Древнегреческий язык») и продвинутый этап («Аналитическое чтение сакральных текстов»).
Учёт будущей специальности обучаемых и профессиональной направленности обучения должен играть ведущую роль при создании лексических минимумов, подборе грамматического и текстового материала. Исходя из этого язык, который изучают и преподают в высших духовных заведениях, в строгом смысле следует назвать не древнегреческим или греческим языком того или иного периода (византийского, патристического и др.), а церковно-греческим. В связи с вышеизложенным при анализе существующей учебно-методической литературы можно сделать следующий вывод:
Главный недостаток существующих учебников и учебных пособий (См. [1]–[4] и др.) – несогласованность и несбалансированность изучаемого грамматико-синтаксического и текстового материала:
а) далеко не все современные учебники и учебные пособия включают новозаветный и литургический материал (иногда он даётся в приложении, что затрудняет его поурочное введение в соответствии с той или иной грамматической темой; или же носит преимущественно искусственный характер, как в учебнике Дж. Г. Мейчена[3]);
б) даже в тех учебниках, где необходимый текстовой материал присутствует, он не всегда согласован с изучаемым грамматико-синтаксическим материалом (как правило, в большей мере отражающим особенности, характерные для классических текстов);
в) иногда грамматический материал требует серьёзных дополнений, без которых невозможно адекватное восприятие новозаветного текста. Так, например, в уроке 13 учебника «Древнегреческий язык: начальный курс»[4], где вводится грамматическая тема «Будущее время», говорится, что оно в русском языке «соответствует будущему времени совершенного и несовершенного вида». Действительно, для начального этапа достаточно ввести это основное значение будущего времени. Между тем здесь же представлен фрагмент с будущим временем изъявительного наклонения в значении повелительного (так называемый волитив), которое нецелесообразно изучать на начальном этапе: Κύριον τὸν Θεὸν προσκυνήσεις, καὶ αὐτῳ μόνον λατρεύσεις. Форма 2-го лица употребляется в значении бесспорного, законоучительного повеления (значение ограничено определённым набором текстов: десятисловие, Нагорная проповедь, заповеди Христовы и т. п.).
Приведём ещё несколько примеров.
1) Когда даётся разграничение значений предлогов (в частности, εἰς, ἐν), в существующей учебно-методической литературе не оговаривается, что их чёткая дифференциация не всегда актуальна для текста НЗ и более поздних источников, где эти предлоги обычно смешиваются. Между тем следует принимать во внимание, что употребление предлогов в новозаветном и византийском уже весьма отлично от прежнего классического употребления и многие предлоги «настолько синонимично приближаются один к другому, что иногда почти совпадают в оттенках своего значения и могут считаться как бы безразлично заменяющими друг друга» [5, с. 267]. Обращая внимание на эту особенность, Н.Ф. Фокков предостерегает против того, чтобы даже и при «чисто грамматическом рассмотрении подобных мест держаться с решительным упорством непременно классически утвердившегося значения известных предложных выражений, иначе может получиться γραμματικώτερα ἤ δογματικώτερα» [Там же].
2) При знакомстве с различными грамматическими формами и особенностями их функционирования не принимается во внимание специфика их употребления в библейском тексте и других жанрах церковной книжности.
Так, ничего не говорится об особенностях образования степеней сравнения в языке библейском и новозаветном, хотя именно это наиболее актуально для высших духовных заведений. Известно, что некоторые формы степеней сравнения обязаны своему появлению языку оригинала, а точнее языку библейскому. Таким образом, например, следует трактовать употребление положительной степени в значении сравнительной в знаменательном эпизоде Вечери Господней, где Сам Господь пророчествует о предательстве – καλὸν ἦν αὐτου, εἰ οὐκ ἐγέννηθη ὁ ἄνθρωπος ἐκεινος [Мф.26:24] ‘лучше бы было, если бы не родился человек тот’. Как отмечают комментаторы, по всей видимости, эта поговорка была употребительна ещё у раввинов. Исследователями языка новозаветных писаний употребление καλὸν в значении ἄμεινον относится к разряду гебраизмов [6, с. XLV]. Евангельская аллюзия представлена и в материале гимнографии, где Косма Маиумский трансформирует формулу, заменяя глагол γεννάω ‘родиться’ ёмкой метафорой πύλας βίου περάσαι ‘пройти вратами жития’ (при этом библейскому словоупотреблению известна только метафора πύλαι τοῦ θανάτου ‘врата смерти’) – καλὸν ἦν πύλας βίου περάσαι. Ярким примером является и известная формула величания Богородицы, восходящая к тексту Евангелия от Луки и перешедшая в церковную песнь «Богородице, Дево, радуйся»: εὐλογημένη σύ ἐν γυνεξιν [Лк.1:28]. Другую особенность – употребление сравнительной степени в значение превосходной, можно также проиллюстрировать на материале гимна «Достойно есть... (Ἄξιον ἐστιν)»: τὴν τιμιοτέραν τῶν Χερουβεὶμ καὶ ἐνδοξοτέραν τῶν Σεραφεὶμ. В существующих учебных пособиях обычно не упоминается, что наречия могут образовываться также от отглагольных прилагательных и причастий. Между тем даже текст «Достойно есть...», с которым учащиеся высших духовных заведений знакомятся уже на начальном этапе, изобилует подобными формами.
3) Как уже было отмечено, многие темы не подкрепляются соответствующим новозаветным и византийским материалом, то есть в целом не учитывается или же недостаточно учитывается будущая специальность обучаемых.
Так, при изучении темы «Participium praedicativum» в учебнике «Древнегреческий язык: начальный курс» широко представлен материал с предикативным причастием при verba sentiendi и verba affecta (уроки 36, 39, 40, 53). Participium praedicativum при φαίνομαι, παύομαι, ἣδομαι. Participium praedicativum при φθάνω, λανθάνω, τυγχάνω. Примеры на употребление этих конструкций в основном представлены материалом классических текстов. Между тем далеко не все из них употребительны в Новом Завете, даже представленные в поурочном материале обороты с глаголами παύομαι, λανθάνω для него мало характерны. По справедливому замечанию автора «Экзегетического синтаксиса»[7], данная идиома редко встречается в НЗ и практически исчерпывается следующими фрагментами: ὡς δὲ ἐπσύσστο λαλων, εἶπε πρὸς τὸν Σίμωνα [Лк.5:4], οὐ παύομαι εὐχάριστων ὑπὲρ ὑμων, μνείαν ὑμων ποιούμενος [Еф.1:16]. Кроме того, кроме глагола pauvomai, предикативные причастия в НЗ в той же функции используются и после других глаголов со значением завершения – τελέω, διαλίπω· ὄτε ἐτέλεσεν ὁ Ἰησους διατάσσων τοὶς δώδεκα μαθηταις αὐτους [Мф.11:1], αὕτη δὲ, ἀφ ἧς εἰσηλθον, οὐ διέλιπε καταφιλουσα μου τοὺς πόδας [Лк.7:45]. Наконец, они могут фигурировать с другой семантикой: τῆς φιλοξενίας μὴ ἐπιλανθάνεσθε διὰ ταύτης γὰρ ἔλαθον τινες ξενίσαντες ἀγγελους [Евр.13:2]. В данном контексте lanqavnw означает не ‘тайно, скрытно’, но ‘бессознательно’ (иначе перевод будет неверным: ‘не тайно угощать (принимать) ангелов, а неосознанно, сами того не ведая’). Глаголы же φθάνω, τυγχάνω встречаются в Новом Завете в других конструкциях и значениях ‘добиваться, достигать’, например [Лк.20:35; Рим.9:31].
При изучении темы «Различные времена глаголов с расширенной основой» необходимый иллюстративный материал также отсутствует в существующих учебных пособиях. Между тем восполнить этот пробел позволяет материал литургии: Σοφία. Πρόσχωμεν ... Ἄνω σχωμεν τὰς καρδίας ...Παράσχου, Κυριε... ὅτι ἡξίωσας ἡμας μετασχειν τῶν ἁγίων σου...
Логика и последовательность предъявления теоретического материала, изучение лексико-грамматического материала на синтаксической основе, таким образом, до́лжно определять отбор текстового материала. Как уже видно из подобранных примеров, богатый лексико-грамматический материал предоставляет литургия. Литургические же поурочные тексты в существующих учебных пособиях представлены практически исключительно фрагментами из Акафиста Богородице.
Кроме того, материал литургии даёт возможность для работы с различными видами речевой деятельности (чтение, письмо (перевод), аудирование), а также для проведения интерактивных занятий. Не стоит полагать, что аудирование как один из видов речевой деятельности не актуально для обучения древним (мёртвым) языкам. Однако термин «мёртвый» применительно к языку византийского периода, языку литургии является весьма спорным, поскольку на этом языке ведётся богослужение и не только в греческой церкви. Сам литургический текст становится здесь посредником между Богом и человеком, поскольку «литургия – это всегда разговор с Богом» [8, с. 3]. По традиции, ежегодно в ряду православных духовных семинарий, в том числе и в Казанской, идёт служба Трём Святителям на языке оригинала. Включение в состав УМК материалов для аудирования (литургия, пасхальное богослужение) и разработанных на их основе упражнений определяется как общими задачами курсами, так и требованиями, предъявляемыми к общепрофессиональной подготовке студентов высших духовных заведений. Материал построен таким образом, чтобы интегрировать учащихся не только в учебный процесс, но и в профессиональную деятельность – подготовить к осмысленному восприятию литургических текстов и непосредственному участию в богослужении на языке оригинала (Служба Трём Святителям), что в целом призвано способствовать повышению мотивации к изучению церковно-греческого языка.
Примерные образцы заданий к предъявляемым аудиотекстам:
1. Образуйте формы
1) 1 Pl conj. aor. от глаголов δέομαι, παρατίθημι, ἴστημι;
2) 2 Sg. imper. aor. act. от глаголов εὐλογέω, σώζω, διαφυλάττω, παρέχω;
3) 2 Pl. imper. aor. II act. от глагола προσέρχομαι;
4) Gen. Pl. part. aor. pass. от глаголов προσκομίζω, ἁγιαζω и переведите.
2. Проанализируйте следующие формы:
1) ῥυσθηναι, ἐκτελεσαι;
2) σωσον, ἐλέησον καὶ διαφύλαξον, εὐλόγησον, παράσχου;
3) λάβετε, φάγετε, προσέλθετε;
4) ἀντικαταπέμψῃ, αἰτισώμεθα, ὁμολογήσωμεν, στωμεν, πρόσχωμεν, δεηθωμεν, σχωμεν;
5) τὰ συμφέροντα, προσδεξάμενο, μνημονεύσαντε, αἰ τησάμενοι, προσκυνουντε, προσκομιθέντων καὶ ἁγιασθέντων;
6) δεόμεθα, εἴδομεν, ἐλάβομεν, εὔρομεν;
7) εἴη.
3. Переведите на греческий язык:
1) Господу помолимся (вспомните особенности управления глагола δέομαι);
2) Подай, Господи;
3) Тебе, Господи;
4) во веки веков.
4. Переведите на греческий язык:
1) придите (ἔρχομαι);
2) спаси (σώζω);
3) увидели, получили и обрели (ὁράω, λαμβάνω, εὐρίσκω).
5. Дайте эквиваленты переведённым конструкциям в церковнославянском языке.
6. Образуйте формы Gen. Pl. part. aor. pass. от глаголов προσκομίζω, ἁγιαζω и переведите.
7. Прослушайте текст «Все святые помянувше...» (Πάντων τῶν ἁγίων μνημονεύσαντες...), обращайте внимание на произношение и интонацию.
8. Выразительно прочитайте текст по ролям.
Лексико-грамматический комментарий
1. В позднейшем языке (например, в ектениях) встречается ὑπέρ с родительным неокончательного и преимущественно страдательного залога:
Ὑπὲρ τοὺς ῥυσθηναι ἡμας ἀπὸ πάσης θλίψεως – о (еже) избавитися и нам от всякия скорби = об избавлении от всякой скорби. Если неопределённое наклонение имеет при себе accus. subjecti, то оно может переводиться и существительным отглагольным.
Глаголы со значением молиться, благодарить (προσεύχομαι, πρεσβεύω, εὐχαριστέω) имеют при себе родительный падеж предмета мольбы или благодарения с предлогом περί или ὑπέρ (за кого, о ком, о чём). В церковном употреблении и ὑπέρ обычно переводиться предлогом о.
2. У некоторых глаголов с расширенной основой образование основ может сопровождаться чередованием корневого гласного, как у глагола ἔχω ‘имею’ (основа σεχ, εσχ, σχη) – εἶχον – ἔσεχον, ἔξω, ἔσχον, ἔσχηκα, ἔσχημαι. Глагол ἔχω употребителен с приставками: μετέχω ‘принимаю участие, имею долю в чём’, προσέχω ‘приближаю, направляю, обращаю; обращаю внимание, думаю, забочусь, думаю про себя НЗ’, parevcw ‘доставляю, даю, предоставляю’.
Запомните! παρέχω (εχ, εσχ, σχ) – fut. παρασχήσω, aor. παρέσχον, imper. παράσχες.
3. Сослагательное 1-го лица мн. ч. употребляется как modus adhorativus, т. е. выражает ободрение, приглашение; при этом приглашающий включает себя в число исполнителей, переводится с прибавлением к таковому же лицу глагола и числу энклитич. –те: ἵωμεν ‘идём-те’, μαχώμεθα καὶ ἀποθνήσκωμεν ὑπὲρ τῆς πατρίδος; иногда впереди ставится ἴθι, ἄγε, φέρε = ну! Conjunctivus aoristus (Conjunctivus exhortativus) выражает однократность действия, переводится без прибавления частицы -те.
Запомните! Στωμεν καλως, στωμεν μετὰ φόβου, πρόσχωμεν – станемъ добрѣ, станемъ со страхомъ, вонмемъ. Ἄνω σχωμεν τας καρδίας...– горѣ имѣемъ сердъцл.
Практически не представлены в существующих учебных пособиях сакральные тексты, различные по своей жанровой принадлежности (агиография, патристика, гомилетика). Между тем на продвинутом этапе обучения в бакалавриате («Аналитическое чтение сакральных текстов») и магистратуре («Чтение греческих авторов») в процессе закрепления, обобщения и расширения теоретических знаний, полученных в процессе изучения базового курса, необходимо широко подключать тексты различной жанровой структуры, способствующие формированию у обучающихся не только навыков перевода, но и риторического и экзегетического (герменевтического) анализа. Кроме того, это позволяет обеспечить межпредметное взаимодействие с рядом богословских дисциплин, с дисциплинами общепрофессионального цикла «Литургика», «Гомилетика».
В результате освоения дисциплины обучающиеся углубляют и расширяют как теоретические знания в области лексики, грамматики и синтаксиса греческого языка, так и практические навыки применения этих знаний при работе с сакральными текстами различной жанровой природы; приобретают и закрепляют навыки их риторического и экзегетического анализа на языке оригинала.
Разумеется, непосредственная межпредметная связь существует и с другими языковыми дисциплинами, в первую очередь с курсами «Русский язык» и «Церковнославянский язык». Систематические сопоставления целесообразно проводить при изучении конструкций Accusativus, Nominativus duplex, Accusativus, Nominativus cum infinitivo, субстантивация при помощи артикля и т. д. При чтении текстов на славянском студенты сами воочию убеждаются, что зачастую текст на языке оригинала понятнее, чем его славянский перевод, помогает сделать перевод прозрачным, что также способствует повышению мотивации к изучению церковно-греческого языка.
Для углублённого изучения особенностей грамматики и экзегетического синтаксиса греческого языка, что необходимо для осознанной аналитической работы с текстовым материалом, целесообразно привлекать существующую учебную литературу на иностранных языках. Преподавателю необходимо также использовать существующую общетеоретическую литературу по проблематике курса, а также тексты для перевода из дополнительной литературы и задания к ним. В частности, отрадно отметить, что в настоящее время переизданы труды профессора Н.Ф. Фоккова по церковно-греческому языку, не уступающие существующим зарубежным работам (См.[5],[7],[9]).
Так, на продвинутом этапе обучения (Магистратура. Модуль «Языки сакральных текстов конфессии» – 5 зачётных единиц, 216 часов) в соответствии с принципами цикличности и концентризма тематика делится на два концентра:
I. Трудные случаи грамматики и синтаксиса древнегреческого языка. Экзегетический синтаксис.
II. Жанрово-стилистические особенности сакральных текстов. Параллельно с углублённым изучением особенностей грамматики и синтаксиса, характерных для церковно-греческих текстов, это предполагает также закрепление и обобщение теоретических знаний, полученных в процессе изучения базового курса греческого языка.
Приведём (выборочно) тематику первого и второго концентра:
I. Трудные случаи грамматики и синтаксиса древнегреческого языка. Экзегетический синтаксис Нового Завета.
Модуль 5. Особенности в употреблении временных форм. Расширенное употребление будущего времени. Будущее время изъявительного наклонения в значении повелительного. Совещательное (делиберативное) будущее время. Употребление будущего времени в пророчествах и обещаниях; при угрозе и предостережении. Пословичное (гномическое) будущее время. Будущее в значении сослагательного наклонения. Экзегетически значимые тексты.
Модуль 11. Особенности употребления причастий в библейском языке. Трудности, связанные с причастиями. Причастие и экзегеза. Субстантивированные причастия. Причастие итензивное. Наречные причастия. Причастия сопутствующего обстоятельства. Причастия в косвенной речи. Перифрастические причастия (описательное спряжение). Избыточные (плеонастические) причастия. Независимые глагольные причастия. Экзегетически значимые тексты.
II. Жанрово-стилистические особенности сакральных текстов.
Модуль 19. Жанрово-стилистические особенности торжественного слова. Риторические вопросы и восклицания. Метафора. Фигура сомнения (a*poriva). Фигура сравнения. Собственные имена в библейском языке и у церковных писателей. Теологическая этимология. Цитаты и аллюзии.
Модуль 22. Стихосложение (основные понятия и стихотворные размеры). Гексаметр в Новом Завете. Элегический пентаметр в христианской поэзии. Ямбические каноны Иоанна Дамаскина. Поэзия Григория Богослова и Григория Назианзина.
Как видим, тематика второго концентра связана с жанрово-стилистическим и риторическим анализом. В зависимости от выбора преподавателя материал может сопровождать определённую грамматическую тему и далее повторяться в зависимости от частотности данного явления в предъявляемых текстах.
Работа с сакральными текстами на языке оригинала должна способствовать и достижению ряда воспитательных задач – формированию эстетического восприятия, расширению культурного кругозора, повышению интереса к будущей профессиональной деятельности. Необходимо донести до обучаемых, что знание славянских переводов не способно заменить вдумчивого чтения на языке оригинала. «Слова несут в себе больше, чем предполагают те, кто пользуется словами. Задуманное греками слово – оно про-задумано <...> Ему приходится подвергаться переводу и переносу в другие языки, при котором его смысл обедняется, стирается, урезается» [11, с. 467]. Это способствует повышению мотивации не только к изучению древних языков, но и к обучению в целом.
Наконец, следует отметить, что греческий язык становится тем фундаментом, на котором базируется не только изучение других древних языков (латыни, а в магистратуре – и готского, древнеармянского, и древнееврейского), но и освоения дисциплин общепрофессионального цикла, и, несомненно, залогом будущей успешной научно-исследовательской деятельности. Если этот фундамент будет твёрдым, то надёжным будет и всё здание.
Литература
1. Славятинская М.Н. Учебник древнегреческого языка / М.Н. Славятинская. – М., 2003.
2. Соболевский С.И. Древнегреческий язык: учебник для высших учебных заведений / С.И. Соболевский. – М., 1948 или СПб, 2000. (фототипическое переиздание 1948 г.).
3. Дж. Грешем Мейчен. Учебник греческого языка Нового Завета /Дж. Г. Мейчен. – М: Российское библейское общество, 1995.
4. Древнегреческий язык: начальный курс. – М.: ГЛК Шичалина, 2004.
5. Фокков Н.Ф. К синтаксису греческого новозаветного языка и византийского / Н.Ф. Фокков. – М., 1887.
6. Смирнов С. Филологические замечания о языке новозаветном в сличении с классическим при чтении апостола Павла к Ефесеям / С. Смирнов. – М.: Тип. ун-та, 1873. 158 с.
7. Уоллес Д. Углублённый курс грамматики. Экзегетический синтаксис Нового Завета. – Новосибирск, Новосибирская библейско-богословская семинария, 2010.
8. Алымов В.В. Очерки по исторической литургике [Электронный ресурс] / В.В. Алымов. – Режим доступа: http: www.krotov. info/history/04/alymov/alym_12 htm, свободный.
9. Фокков Н.Ф. К чтению церковно-греческого текста / Н.Ф. Фокков. – Киев, 1886 (Тип. Киев. ун-та). 266 с.
10. Фокков Н.Ф. Словообразование и синтаксис греческого языка / Н.Ф. Фокков. СПб., 1886. 170 с.
11. Михайлов А.В. Избранное. Историческая поэтика и герменевтика / А.В. Михайлов. – СПб.: Изд-во Санкт-Петерб. ун-та., 2006. 557 [2] с.
Сингулярное речевое поведение в православной культуре
А.Ю. Чернышева
В данной статье рассматривается сингулярное (с точки зрения православия) речевое поведение мало верующих или неверующих людей, сообщающее о том, что некоторое событие или обстоятельство чем-то нарушает ожидания тех, кто живет по заповедям Иисуса Христа. Показывается, что сингулярные речения выражают неверие в Бога, осуждение священников, нелюбовь к ближнему, раболепство духу времени, гордость.
Ключевые слова: сингулярное речевое поведение, заповедь, православие, речеповеденческая тактика.
Singular verbal behaviour in Orthodox culture
А.У Chernysheva
This article deals with the singular (from the Orthodox perspective) speech behaviour of those who don’t firmly believe or who is a non-believer, conveying that some event or circumstance somehow could violate the expectations of those who live by the commandments of Jesus Christ. It is shown that the singular utterance expresses disbelief in God, a conviction of priests, lack of love for one’s neighbour, subservance to the spirit of the times, and pride.
Главной задачей исследования актуальной в наше время проблемы взаимоотношения языка и культуры является выявление культурно-специфических особенностей речевого общения. Наиболее адекватно они описывается с привлечением понятия рече-поведенческая тактика.
Рече-поведенческая тактика – это клишированное выражение, которое функционирует в типичной рече-поведенческой ситуации, будучи направленным на достижение перлокутивной цели [1, с. 523].
Настоящая статья посвящена ещё одному аспекту описания и объяснения функционирования рече-поведенческих тактик – концепции их сингулярности. Термин «сингулярный» означает идущий вразрез с нашими ожиданиями [1, с. 760–761]. Е.М. Верещагин и В.Г. Костомаров приводят гнездо терминов с опорным словом сингулярный: сингулярное поведение, сингулярное речение и сингулярная рече-поведенческая тактика.
Сингулярное поведение – «это такое поведение другого человека, которое не согласуется с нашими представлениями о том, как ему следовало бы себя вести».
Сингулярное речение – это сообщение внешнего наблюдателя о некоторых сингулярностях. Иначе сказать, «это такое речение, в котором не просто говорится об определённом событии или обстоятельстве, а одновременно имплицитно (для адресата вполне понятно!) сообщается о том, что это событие или обстоятельство чем-то нарушает ожидания адресанта (и обычно не оставляет его равнодушным)».
Сингулярная рече-поведенческая тактика «описывает отклоняющееся поведение».
Логической природой сингулярного речения является силлогизм. Это значит, что сообщение о сингулярности часто приглашает адресата к самостоятельному выполнению операции Аристотелева силлогизма, когда он сам должен восстановить логическое звено или звенья всей цепи умозаключения и сделать общий вывод из большой и малой посылки силлогизма [1, с. 773].
Сингулярность связана с понятием поведенческой нормы и разноречивостью её оценки [1, с. 786]. По Е.М. Верещагину и и В.Г. Костомарову, существуют абсолютные, всеми признанные общенародные нормы. Кроме того, имеют место нормы социально-групповые. Наконец, нормы могут быть индивидуальными, ведущими к разноголосице между адресантом и адресатом, которые расходятся в квалификации поведения.
Социально-групповую разноречивость оценок поведенческой нормы иллюстрирует, например, диалог Лизы и Насти из «Барышни-крестьянки» А.С. Пушкина.
На вопрос Лизы, каков из себя Алексей Берестов, Настя отвечает: «Удивительно хорош, красавец, можно сказать. Стройный, высокий, румянец во всю щеку...». Лиза удивлена:
– Право? А я так думала, что у него лицо бледное. Что же? Каков он тебе показался? Печален, задумчив?
– Что вы? Да этакого бешеного я и сроду не видывала. Вздумал он с нами в горелки бегать.
– С вами в горелки бегать! Невозможно!
– Очень возможно. Да что ещё выдумал! Поймает. И ну целовать!
– Воля твоя, Настя, ты врёшь.
– Воля ваша, не вру. Я насилу от него отделалась. Целый день с нами так и провозился.
– Да как же, говорят, он влюблён и ни на кого не смотрит?
– Не знаю-с, а на меня так уж слишком смотрел, да и на Таню, приказчикову дочь, тоже; да и на Пашу колбинскую, да грех сказать, никого не обидел, такой баловник!
Большие посылки силлогизмов, следующие из культурного среза этого произведения: в представлении Лизы
1) у Алексея Берестова, как и у всех романных образов героя-аристократа, лицо должно быть бледное;
2) он должен быть печален, задумчив, поэтому не должен развлекаться с крестьянами (играть в горелки, целовать крестьянских девушек);
3) он должен быть влюблён в женщину своего круга и, конечно же, не увлекаться крестьянками.
Малые посылки силлогизмов (свидетельства о нарушении нормы): Алексей Берестов
1) имел румянец во всю щеку,
2) не был печальным и задумчивым и развлекался с крестьянками (играл в горелки, целовал крестьянских девушек),
3) не был влюблён в женщину своего круга и засматривался на крестьянских девушек.
Из больших и малых посылок этих силлогизмов следует итог: Алексей Берестов не соответствует стереотипу романного героя-аристократа.
Полагаем, что адресант может оценивать то или иное поведение адресата как сингулярное исходя и из религиозного понимания нормы поступков и высказываний человека.
Материалом нашего исследования явился сборник записей бесед архимандрита Иоанна (Крестьянкина), которые проводились им в семидесятые годы ХХ века в Псково-Печерском монастыре на первой седмице Великого поста, после чтения покаянного канона Андрея Критского. Сборник включает два общих раздела: «Опыт построения исповеди по десяти заповедям» и «Опыт построения исповеди по заповедям блаженства» [2].
В настоящей статье за основу рассмотрения (т. е. перечисления заповедей и грехов против них) взят раздел «Опыт построения исповеди по десяти заповедям», содержащий особенно много сингулярных и требующих покаяния речений. Некоторые сингулярные речения включались и из «Опыта построения исповеди по заповедям блаженства».
Первая заповедь десятословия: Аз есмь Господь Бог твой... да не будут тебе бози инии разве Мене (Исх.20:2–3).
Иоанн Крестьянкин говорит здесь о том, что люди не имеют правильного понятия о Боге, о православном учении, о церкви, членами которой они являются, о принятии Святого крещения. Поэтому допускают речения, свидетельствующие об:
1) осуждении священника: Что, мол, он завёл опять про одно и то же;
2) лености читать книги религиозно-нравственного содержания и нежелании поделиться ими (если они у них есть) с другими: Лучше посплю побольше; А вдруг не отдадут, или самому захочется почитать как раз в это время;
3) оправдании обращения к нечистым силам: Да ведь молитвы читаются и крестное знамение накладывается!;
4) любви людей больше Бога или животных больше людей: Если он или она умрёт, мне и жить не для чего, Я животных больше люблю, чем людей.
Вторая заповедь десятословия: Не сотвори себе кумира и всякого подобия, елика на небеси горе и елика на земли низу, и елика в водах под землею: да не поклонишися им, ни послужиши им (Исх.20:4–5).
Перечисляя грехи людей против этой заповеди, Иоанн Крестьянкин задаётся вопросом: «Разве наши страсти – не те же идолы, которым мы поклоняемся всю жизнь?!», – и приводит речения, проявляющие:
1) гордость: Чем я хуже других? Меня не понимают, меня напрасно уничижают, я этого не заслужила; Я и то сделал, и другое, я лучше других сделал;
2) раболепство духу времени: Теперь все так делают.
Третья заповедь десятословия: Не возмеши имени Господа Бога твоего всуе (Исх.20:7).
Иоанн Крестьянкин напоминает, что грех против этой заповеди заключается в ряде поступков и мыслей неверующих или маловерующих людей, и приводит их речения, свидетельствующие об:
1) отрицании Бога: Бога нет!;
2) обвинении Его в попустительстве грешить: Разве я виновата, что у меня такой характер, это от рождения, Если бы Бог был, разве допустил бы Он войны, грабежи, убийства, смерть детей и людей в юном возрасте;
3) искушении Бога: Если Ты, Господи, есть, то исполни то или иное моё желание, а если не исполнится моё желание, то Тебя нет!;
4) неуважении набожных людей: Вот она что-то в церковь зачастила! Уж совсем Богу замолилась;
5) непонимании важности достойного причащения Святых Христовых Тайн (и потому положительной оценки ситуации, в которой смерть человека может являться следствием недостойного причащения): Ну, слава Богу, только что причастился человек, каждому бы так умереть!;
Четвёртая заповедь десятословия: Помни день субботный, еже святити его: шесть дний делай и сотвориши в них вся дела твоя: в день же седмый, суббота Господу Богу твоему (Исх.20:8–10).
Данная заповедь предписывает трудиться честно, а в седьмой (воскресный) день быть с Богом. Нарушая эту заповедь, люди произносят слова, которые свидетельствуют о:
1) нежелании работать: Ох, скорее бы опять суббота... ох, скорее бы на пенсию;
2) недостойном поведении в воскресный день в храме (осуждении, вражде и т. п.): Да чтоб твоя нога у тебя отгнила совсем и отвалилась!
Пятая заповедь десятословия: Чти отца твоего и матерь твою, да благо ти будет и да долголетен будеши на земли (Исх.20:12).
О нарушении этой заповеди свидетельствует:
1) ропот на родителей: Мы же работаем, а они дома сидят!;
2) холодность к родственникам: А что мне мои братья, сестры, родственники? Они мне хуже чужих!, Они в Бога не веруют, у меня нет с ними ничего общего;
3) неприучение детей к христианскому образу жизни, в частности неблагоговейное их причащение, когда родитель, говоря, готовя ребёнка к причащению, говорит: Пойдем, тебе батюшка медок даст;
4) неуважение к старшим по возрасту: Ох уж эти пенсионеры! Сидели бы дома, нечего шататься по магазинам, поликлиникам да загружать городской транспорт!
Шестая заповедь десятословия: Не убий! (Исх.20:13).
Нарушает эту заповедь, в частности, нежелание лечиться от болезней: Пусть лечатся слабые верой и грешные, а мы не такие!
Седьмая заповедь десятословия: Не прелюбы сотвори (Исх.20:14).
Иоанн Крестьянкин, перечисляя грехи против этой заповеди, говорит и о грехе брачного союза с разведёнными супругами. По этой заповеди сингулярным является оправдание людей таким браком: Так она или он свободны, они разведённые!
Восьмая заповедь десятословия: Не укради (Исх.20:15).
О нарушении этой заповеди свидетельствует, в частности,
1) нежелание платить за проезд: Я молиться еду Матери Божией, Она меня бесплатно провезёт!;
2) работа не с полной отдачей сил, знаний и терпения: Да и все-то также поступают, есть лишь некоторые особо честно работающие.
Девятая заповедь десятословия: Не послушествуй на друга своего свидетельства ложна (Исх.20:16).
Нарушают эту заповедь клевета, ложь, осуждения, пересуды, в том числе насмешки: Ты ещё таскаешься в церковь, сидела бы дома и молилась, вот помрёшь где-нибудь по дороге!; Видно, мало работать пришлось, что ещё в такую даль ноги носят!
Десятая заповедь десятословия: Не пожелай жены искренняго твоего, не пожелай дому ближняго твоего, ни села его, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ни всякого скота его, ни всего, елика суть ближняго твоего (Исх.20:17).
Иоанн Крестьянкин пишет, что несоблюдением этой заповеди являются сладострастные, корыстолюбивые, самолюбивые, горделивые, своекорыстные и плотоугодные мысли, зависть богатству, счастью, здоровью, способностям, красоте, успехам ближних, злорадство.
На гордость и самолюбие указывают приводимые выше речения, свидетельствующие (как было отмечено) и о нелюбви к ближнему своему: А что мне мои братья, сестры, родственники? Они мне хуже чужих!, Они в Бога не веруют, у меня нет с ними ничего общего.
Отмеченные сингулярные речения представляют собой малые посылки силлогизмов. Большие посылки вытекают из рассмотрения Иоанном Крестьянкиным заповедей Божиих, назиданий, как, следуя им, должен себя вести христианин, о чём он должен думать и что говорить.
Большие посылки иногда прямо содержатся в авторском повествовании. Например, рассматривая первую заповедь десятословия, Иоанн Крестьянкин говорит: «... Не может быть без пользы слово благовествования со святого места. Даже самое убогое слово с амвона всегда учит истинам православия». Противоречит этому правилу сингулярное речение Что, мол, он завёл опять про одно и то же, имплицирующее, что прихожанин не имеет истинного познания о Боге, не дорожит богослужением в храме и не умеет извлекать полезное из проповеди священника.
Иногда Иоанн Крестьянкин прямо противопоставляет истинное и ложное (сингулярное) речение, подчёркивая, что вместо «Господи, благослови начать трудовую неделю», люди говорят: Ох, скорее бы опять суббота... ох, скорее бы на пенсию.; вместо «Пойдём причащаться Святых Христовых Тайн» – Пойдём, тебе батюшка медок даст.
Многие сингулярные речения обладают клишированностью, образуя сингулярные рече-поведенческие тактики, в их числе:
– рече-поведенческая тактика проявления гордыни: Чем я хуже других? / Меня не понимают, меня напрасно уничижают / я этого не заслужила / Я и то сделал, и другое / я лучше других сделал;
– рече-поведенческая тактика осуждения верующих: Вот она что-то в церковь зачастила! / Уж совсем Богу замолилась / Ты ещё таскаешься в церковь / сидела бы дома и молилась, вот помрёшь где-нибудь по дороге / Видно, мало работать пришлось, что ещё в такую даль ноги носят;
– рече-поведенческая тактика осуждения родственников: А что мне мои братья, сестры, родственники? / Они мне хуже чужих / Они в Бога не веруют / у меня нет с ними ничего общего;
– рече-поведенческая тактика осуждения пожилых людей: Ох уж эти пенсионеры! / Сидели бы дома / нечего шататься по магазинам, поликлиникам да загружать городской транспорт.
Рассмотренный материал свидетельствует о разных культурных ценностях в светской и православной культурах и о разных степенях воцерковления, приводящих к сингулярностям с позиций поведенческих и речевых норм православной жизни.
Литература
1. Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. Язык и культура. Три лингво-страноведческие концепции: лексического фона, рече-поведенческих тактик и сапиентемы / Под ред. и с послесловием академика Ю.С. Степанова. – М.: Индрик, 2005. 1040 с.
2. Архимандрит Иоанн (Крестьянкин) Опыт построения исповеди. – 6-е изд. – М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2009. 254 с.
Секция православной психологии
Взаимосвязь системного подхода в психотерапии с христианским мировоззрением
И.А. Дмитриева
В статье раскрываются основы метода системных семейных расстановок Берта Хеллингера. Взаимосвязь системного подхода с христианским мировоззрением рассматривается в аспекте христианской любви, порядков любви, в аспекте личной и родовой совести. Раскрывается проблема основных системных нарушений и возможности решения.
Ключевые слова: любовь, системный подход, родители, семья, род, совесть, Бог.
Interrelation of system approach in psychotherapy with Christian outlook
I.A. Dmitrieva
In article bases of a method of system family arrangements of Bert Hellingera reveal. The interrelation of system approach with Christian outlook is considered in aspect of Christian love, love orders, in aspect of personal and patrimonial conscience. The problem of the main system violations and possibility of the decision reveals.
На сегодняшний день проблема нравственного развития, духовного совершенствования волнует многих учёных в области психологии, теологии, философии и других наук. Не только религией, но и психологией доказана взаимосвязь между психологическими, материальными проблемами в жизни человека и грехом, т. е. нарушением духовных законов.
Термин «психотерапия» в переводе с греческого языка означает «исцеление души». На наш взгляд, системный подход в психотерапии, в отличие от других психотерапевтических направлений (психоанализа, гештальт-терапии, психодрамы) наиболее полно раскрывает взаимосвязь между проблемами и нарушением нравственных законов. Человек и его проблемы здесь рассматриваются не изолированно, а как часть семейной системы, к которой он принадлежит. В качестве метода, раскрывающего взаимосвязь системного подхода в психотерапии с христианским мировоззрением, был выбран метод семейных системных расстановок немецкого психотерапевта Берта Хеллингера. В автобиографии Хеллингера известен период, когда он в течение шестнадцати лет занимался миссионерской деятельностью, имел духовный сан католического священника. Многое из христианских воззрений автора дало отпечаток на развитие метода.
В данной статье мы выделим несколько аспектов взаимосвязи системного подхода с христианским мировоззрением.
В основе метода лежит любовь, связывающая людей на самом глубоком уровне. За самыми странными, кажущимися плохими человеческими поступками стоит любовь, любовь между родителями и детьми, внутри рода, между мужчиной и женщиной. Таким образом, любовь (движение любви) является корнем проблемы и одновременно ключом к решению, когда осознается, с чем или с кем связана проблема.
Хеллингер на практике открыл, как влияют отношения в семье, родовые отношения, исключённые на последующую жизнь и судьбу потомков. При этом под судьбой следует понимать не фатальную предопределённость событий, а то, что человек проживает, причинно-следственную связь личных и системных поступков. Если в семье нарушены духовные законы, всё это влияет на младших членов семьи. Голос совести звучит через младших. Наглядно это можно объяснить через включение понятия «совесть», в христианстве означающего «голос божий», который есть в душе каждого человека.
Автор метода расширил понятие совести и рассмотрел его с позиции системы. Совесть – это некая инстанция внутри каждого из нас, которая отвечает за коллективное (групповое) поведение и объединяет нас с нашей системой, не давая выйти за её границы. Согласно системному подходу, у человека три вида совести.
1. Личная совесть – та совесть, которую человек осознает, ощущается как вина и невиновность. Если он не нарушает правил, принятых в семейной системе, то чувствует себя невиновным, если нарушает, то чувство вины неизбежно.
2. Второй вид совести – скрытая коллективная или родовая совесть. Родовая совесть – это совесть высокого порядка, и она имеет большее влияние, чем личная. Но родовую совесть мы не осознаем на уровне чувств, она проявляется по последствиям. Она заставляет потомков выполнять то, что совершили родители. Так, дети отвечают за ошибки родителей, они берут на себя вину предков.
«Скрытая совесть берёт на себя заботу о тех, кого мы исключили из своей души и сознания, потому ли, что боимся их или проклинаем, или потому, что хотим воспротивиться их судьбе, или потому, что другие члены семьи перед ними провинились, а вина не была названа и уж тем более не искуплена. А может быть, потому, что им пришлось платить за то, что мы взяли и получили, не поблагодарив их и не отдав им должного. Эта совесть берёт под свою защиту вытолкнутых и непризнанных, забытых и умерших и не даёт покоя тем, кто ещё чувствует уверенность в своём праве на принадлежность, до тех пор, пока они снова не дадут место и голос в своём сердце, в том числе и тем, кто был исключён» [1, с. 79].
Если в системе исключается тяжёлое событие, плохие поступки, негативный опыт или предок совершил что-либо плохое, то это может слепо воспроизводиться потомками. Решение здесь состоит в осознании, принятии ситуации такой, как есть, тогда она перестаёт влиять на систему и жизненная энергия получает возможность течь дальше и с этой точки зрения потомок не отвечает за грехи предка, а оставляет всё на своём уровне. Отвечает тот, кто нарушил – в этой ответственности за содеянное заключается достоинство человеческой души. Но потомки, связанные с тяжёлыми судьбами своих предков, могут чтить их, вспоминать, молиться за них. Известные системные динамики: человек, в роду которого было много агрессоров, много тяжёлого – выбирает монашеский путь служения, тем самым он отмаливает грехи людей и своего рода и привносит ресурсы в систему. Правило полносоставности гласит: «Я могу полностью обладать всеми своими ресурсами, если в моей душе каждому члену из моей системы есть своё место». Человек, знающий свои корни, чувствующий глубокую связь с предками, в полной мере использует ресурсы рода и чувствует жизнь, которая дошла до него через все поколения от Создателя жизни, принимает жизни как нечто «священное, что есть на свете, как нечто божественное, что есть на свете».
Существует и третий вид совести – духовная. Эта совесть определяет принадлежность всего и всех к единству с божественным как к самой большой системе. Согласно этой совести, мы все едины и всё, что с нами происходит, имеет единый источник. Этот источник в расстановочных терминах принято именовать SpiritMind, не вдаваясь при этом в анализ соотношения его с другими «божественными инстанциями» в различных духовных и философских системах [2, с. 27].
Берт Хеллингер также подчёркивает уважение к родителям. Выделяет порядки любви, существующие между родителями и детьми и внутри рода.
1. Принятие жизни как дара.
Когда мы говорим о родительском «давать» и о детском «брать», то речь идёт не просто о «давать» что-то и «брать» что-то, но о том, чтобы давать жизнь и принимать жизнь. Давая детям жизнь, родители дают не что-то такое, что им принадлежит. Вместе с жизнью они дают детям себя самих такими, как они есть, ничего не прибавляя и ничего не убавляя. Поэтому родители не могут ничего прибавить к жизни, которую они дают своим детям, и ничего не могут из неё вычеркнуть или оставить при себе. А потому и дети, получая от родителей жизнь, ни прибавить к ней ничего не могут, ни что-то выпустить или от чего-то отказаться. Ибо у детей не просто есть родители. Это их родители.
Такое принятие – шаг смирения. Оно означает согласие с той жизнью и той судьбой, какими они даны мне через моих родителей: с теми границами, которые тем самым для меня установлены, и теми возможностями, которые мне подарены, с переплетением с судьбами этой семьи и её виной, всем тяжелым и светлым этой семьи, что бы это ни было [1, с. 114].
2. Принятие ресурсов и передача их дальше.
Родители дают, а дети берут. Родители дают детям то, что в своё время сами взяли от своих родителей, и то, что они, будучи парой, берут друг от друга. За это дети позже передают полученное от родителей дальше, прежде всего, став родителями собственным детям.
3. Признание родителей как единственных и правильных.
Важно не оценивать родителей, даже если тяжело или больно, а принимать их такими, какие они есть.
3. Принятие даров и тех, кто дарит (безусловно).
Каждый, кто берёт, должен уважать тот дар, который получил, и того, от кого он его принял. «Принимающий держит полученный дар на свету, пока тот не засияет, и пусть от него он тоже перейдёт в своё время дальше, блеск его будет отражаться на дающем» [1, с. 113].
4. Признание иерархии.
Родители обладают приоритетом перед детьми, а первый ребёнок – перед вторым.
В данных порядках мы видим могущество и силу всепобеждающей христианской любви: любить друг друга, близких такими, какие они есть, не осуждая, не обвиняя в своих бедах, любить за пределами добра и зла. Благодаря этому появляется возможность для духовного созидания. Например, не осуждая своих предков за грехи, отрицательные поступки, соглашаясь с их судьбами, делать что-то хорошее в своей жизни. Если было в роду воровство – не воровать, была жадность – не жадничать, а заботиться о ближних, действовать не в эгоистических целях, а во имя чего-то большего, целого.
Когда человек идёт путём осуждения и обвинения в своих бедах родителей, в этом случае он может слепо воспроизводить их судьбу, становиться тем, что с такой яростью отрицает. Приведу пример из практики. Мужчина жаловался на своего отца, страдающего алкоголизмом, относился к нему без уважения. В результате консультации выяснилось, что, ненавидя алкоголизм отца и отрицая самого отца, он выбрал для себя ещё более изощрённый способ зависимости – наркотики. Решение здесь в признании и принятии: «Отец, я такой же, как ты», в восстановлении связи между отцом и сыном. Или дочь, ругающая мать за распутный образ жизни, осознает, что сама не имеет прочных семейных отношений, мужчины уходят от неё. Здесь мы видим глубину мысли, изречённой Бертом Хеллингером: «То, что мы отрицаем в своих родителях, тем самым мы становимся, то, что принимаем – это делает нас свободными».
Таким образом, Хеллингер выделяет действие любви «слепой» (когда человек не осознает реальность или не желает, не может с ней согласиться) и действие любви «зрячей». На самом глубоком уровне каждый родитель и ребёнок любят друг друга. В душе родителя всегда есть хорошее место для своего ребёнка. Приведём пример действия слепой любви. Когда мать говорит своему сыну: «Твой отец плохой, никогда не будь таким, как твой отец», – ребёнок из лояльности к матери будет относиться к отцу с осуждением и отчуждением, а на бессознательном уровне единственным способом показать свою любовь к отцу является быть таким, как он (например, пить). Дети должны иметь право любить обоих родителей.
Когда человек осознанно открывает сердце своим родителям, чтит их, уважает, благодарит, приходит к ним, чувствует глубинную связь с ними – появляется возможность почувствовать, как божественная защита приходит к нам через наших родителей. Описанные примеры, рассуждения приводят к извечной истине: «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, даёт тебе» (Исх.20:12).
Итак, мы проанализировали взаимосвязь системного метода с христианским мировоззрением в аспекте христианской любви, порядков любви, в аспекте личной и родовой совести; рассмотрели, к чему ведут исключения и воссоединения.
Счастье приходит к человеку с частью чего-то большего. Системный метод наглядно показывает, что воссоединение с целым, с Богом начинается с воссоединения семейных связей. Человек по-настоящему счастлив, когда находится в гармонии с собой, своей семьёй, родом, с Богом.
Литература
1. Хеллингер Б. И в середине тебе станет легко: книга для тех, кто хочет найти гармонию в отношениях, любви и стать счастливым. – М.: Институт консультирования и системных решений, Изд-во Института психотерапии, 2006. 208 с.
2. Веселаго Е.В. Системные расстановки по Берту Хеллингеру: история, философия, технология [Электронный ресурс] / URL: http://www.constellations.ru/ paper.html (дата обращения: 05.06.2012).
Психологическая зависимость от телевидения
В.Ю. Скосарь
В работе с позиций человека верующего даётся краткая этическая оценка научно-техническому прогрессу. Обсуждаются некоторые негативные следствия прогресса, такие как появление разного рода зависимостей (аддикций), в частности психологическая зависимость от телевидения. Предлагаются способы борьбы за свободу от телезависимости.
Ключевые слова: православная психология, научно-технический прогресс, аддикция, психотерапия
Psychological TV addiction
V.Y. Skosar
A brief ethical assessment of scientific and technological progress from the viewpoint of Orthodox Church member is in the focus of the article. The negative consequences of progress such as different kinds of addiction, for instance, TV addiction, are discussed. The author offers some ways of escaping of the problem.
Введение
В настоящей работе автор с позиций человека верующего попытается дать этическую оценку такому явлению, как научно-технический прогресс. Оценка эта будет краткой и не будет претендовать на полноту. Предлагается обсудить некоторые негативные следствия прогресса, такие как появление разного рода зависимостей (аддикций), особенно поговорить о психологической зависимости от телевидения и о вреде телевизора, как для взрослых, так и для детей, предложить способы борьбы за свободу от телезависимости.
Этическая оценка научно-технического прогресса
Прежде чем начать рассматривать проблему, вынесенную в заголовок статьи, давайте попытаемся дать обоснованный ответ на следующий вопрос: научно-технический прогресс – это положительный или отрицательный феномен? Как нам следует относиться к благам прогресса и, в частности, к телевидению? Первое, что можно предложить, это тезис о том, что прогресс – это ответ человека на благословение Творца плодиться и размножаться, населять землю, обладать ею и владычествовать над неразумными тварями (Быт.1:27–28). Поэтому в первоначальном своём смысле, как нам представляется, научно-технический прогресс явление положительное, поскольку положительно входит в замысел Творца. Второе, что можно утверждать, это факт, что любое достижение прогресса можно использовать как во имя добра, так и во имя зла. Примеров множество. Поэтому следующая мысль состоит в том, что всё зависит от сознательных целей человека. Если цель человека, использующего достижения прогресса, положительна с этической точки зрения, то прогресс способствует добру. Если же нет, то прогресс способствует злу. Далеко не последнее значение для этической оценки достижений прогресса имеют мотивы людей, движущих прогресс. Эти мотивы можно разбить на три группы:
– положительные – сюда входит познание человеком тварного мира во имя познания Творца; со-творчество человека Богу, поскольку человек призван быть со-творцом Богу в благоустройстве мира и обожении всего человечества;
– отрицательные – сюда входит жажда власти над творением (людьми и природой); жажда успеха, тщеславие и карьеризм; жажда богатства – т. е. греховные страсти человека;
– условно нейтральные, которые нельзя однозначно назвать положительными или отрицательными: удовлетворение любознательности (если только это не всепоглощающая жажда знания ради самого знания); профессиональная работа ради получения средств проживания.
В реальной жизни многие прикладные достижения прогресса были обусловлены получением престижа, богатства, власти, победой в конкурентной борьбе с соперниками. Про телевидение, изобретённое в начале ХХ века, так однозначно не скажешь, а вот Интернет, например, был создан для нужд связи в военных целях. А поскольку использование благ прогресса в реальной жизни происходит преимущественно в контексте достижения престижа, богатства, власти и победы в конкурентной борьбе, то и блага эти, к сожалению, служат злу.
Нужно отметить вот ещё какую мысль: следствием отрицательного использования многих благ прогресса является та возрастающая суета, которой живёт большинство людей современности. Ускорение темпа жизни в обществе, суетность порождены именно стремлением «сильных мира сего» к успеху, престижу, власти и богатству. Большинство же остальных людей вынуждены приспосабливаться к новым условиям. Но суета отнимает личное время человека, мешает ему сосредоточиться на мыслях о Боге, мешает ему молиться. Заботы отнимают у людей воскресный день, посвящённый, по замыслу Божию, молитвенному общению с Вседержителем. Это – хроническая беда современного человека. Но за этим вытекают и тяжёлые последствия: из-за информационной перегруженности, постоянного стресса современный человек всё чаще болеет нервно-психическими расстройствами, депрессией. О динамике роста количества нервно-психических расстройств среди населения России сообщила директор ГНЦ социальной и судебной психиатрии имени В.П. Сербского академик Татьяна Дмитриева [1]. Эксперты отмечают: по сравнению с 90-ми годами предыдущего столетия количество клиентов психиатрических клиник в России увеличилось почти в два раза. Выросло число страдающих такими серьёзными психическими заболеваниями, как шизофрения, маниакально-депрессивный психоз и эпилепсия. А невротические расстройства и депрессии приобрели массовый статус [2]. Думается, что ситуация в Украине аналогичная. Одной из важных причин роста количества нервно-психических расстройств в России и Украине, на наш взгляд, является то положение, что в условиях идеологического вакуума общество ещё не вернулось к христианским ценностям. Рост нервно-психических заболеваний проявляется не только в странах бывшего СССР, где сильно снизился материальный уровень граждан после распада Союза, утратилась уверенность в завтрашнем дне, но и в развитых западных странах, где жизнь достаточно обеспеченная и комфортная. Европейский комиссар по здравоохранению Маркос Киприану назвал психические болезни «невидимыми убийцами в Европе». Более 50 тыс. граждан ЕС погибают ежегодно в результате самоубийств. В целом 27% взрослого населения ЕС страдают той или иной формой психического расстройства [2]. В развитых странах растёт количество людей, вынужденных использовать снотворное, транквилизаторы, антидепрессанты[3]. Как считает известный российский богослов профессор А.И. Осипов, в развитых странах люди разочаровываются в жизни, страдают потерей к ней интереса и смысла, потому что у них снизилась христианская религиозность[4].
Как мы выше упоминали, в современном западном и постсоветском обществе растёт заболеваемость депрессией. Депрессия приводит человека к ощущению безрадостности, отчаяния, постоянной тревоги, уныния. Велико и всё более вырастает количество суицидальных исходов. Фактически, мы сталкиваемся с дьявольским воздействием на человечество, поскольку самоубийцы совершают непростительный грех и попадают в сети дьявола.
Другим негативным следствием научно-технического прогресса является воспитание человека в потребительском духе. Огромный вес в информационном потоке занимает навязчивая реклама различных товаров и услуг, распространяемая через телевидение, радио и Интернет. Современная профессиональная реклама использует приёмы, позволяющие с помощью слов и видеоизображений запрограммировать волю человека на определённые покупки. Для этого используются различные приёмы. Реклама может нести эмоциональный заряд, приковывать внимание, озадачивать. Ключевые слова могут быть выделены из текста особым образом. Ключевые фразы могут быть оформлены и как утверждения, и как вопросы, на которые может быть только один ответ. Реклама может ставить сознание в тупик, а в это время ключевая информация, минуя сознательного цензора, программирует подсознание человека. Реклама может работать на ассоциациях, увязывая покупку продвигаемого на рынок товара с какими-либо человеческими ценностями: с успехом в карьере; с профессионализмом; со здоровым образом жизни; с родительской заботой о детях и др. Фактически, реклама навязывает человеку покупку, не являющуюся для него необходимой. Но хуже то, что реклама постепенно и глубоко программирует подсознание человека, создавая в нём потребительские установки. И в душе такого человека всё меньше и меньше места остаётся как для человеческих отношений, так и для размышлении о Боге и о сотворённом Им мире, для молитвы[5].
Ещё одним отрицательным следствием научно-технического прогресса и воспитания потребительского духа в обществе является всё возрастающая зависимость человека от многих благ и удобств прогресса, в частности, от телевидения, от Интернета. Преподобный Лаврентий Черниговский, ещё до времени массового распространения телевидения, пророчествовал, что в домах в том месте, где ранее были иконы, будут стоять «обольстительные прилады для прельщения людей». Люди будут испытывать потребность в этих приладах, говорить, что им нужно смотреть и слушать новости, но через них человечество будет обольщено и обмануто и добровольно примет мирового диктатора Антихриста[6]. В настоящее время, по некоторым данным, зависимость от телевидения такая, что житель крупного города в среднем проводит примерно три часа в день перед экраном (21 час в неделю). Это значит, что к 75 годам такой человек «подарит» телевизору девять лет своей жизни[7].
Психологическая зависимость от телевидения
В современном обществе, движимом научно-техническим прогрессом, появляются всё новые и новые виды зависимостей, новые виды аддиктивного поведения. Слово «addiction» означает ‘склонность, пагубная привычка’. Аддиктивное поведение связано с желанием уйти от реальности, от проблем, причем желанием чаще всего неосознанным. Некоторые специалисты выделяют три формы зависимостей: 1) химические аддикции (алкоголизм, курение, наркомания, токсикомания); 2) биохимические аддикции (анорексия, булимия); 3) нехимические аддикции (телевидение, Интернет, мобильные телефоны, религиозные секты и пр.)[8]. К нехимическим аддикциям относятся психологические зависимости.
Зависимость – это такое внутреннее состояние человека, когда личность более или менее утрачивает свободу воли. Зависимость может формироваться в родительской семье: ребёнок это делает по примеру родителей; или же в семье существует конфликт родителей и детей, когда ребёнок не может отстоять свои личностные интересы и вынужден жить с подавленным протестом, со скрытой агрессией в адрес родителей или с аутоагрессией.
Психологическая зависимость, как считают ряд авторов, связана с защитными механизмами человека, когда на всякие конфликтные ситуации и проблемы человек отвечает однотипным, ритуализованным, аддиктивным поведением. Если человеку не дать исполнить такой ритуал, он испытывает сильный дискомфорт и не находит себе места. Можно предложить критерии распознавания зависимости:
1) частое обращение к объекту зависимости, особенно в дискомфортных ситуациях;
2) обращение к объекту зависимости ради самого обращения;
3) частые разговоры об объекте зависимости[8];
4) стремление (либо многократные и безуспешные попытки) сократить общение с объектом зависимости;
5) отказ ради объекта зависимости от исполнения социальных, семейных и профессиональных обязанностей;
6) жалобы на замкнутость и уход в себя при отказе от контактов с объектом зависимости[9].
Одной из наиболее распространённых психологических аддикций в современном обществе является телевизионная зависимость. Телевизионную зависимость иногда относят к информационным зависимостям. Указанные выше критерии зависимости в полной мере применимы к любителям подолгу сидеть у телевизора. Как отмечает завкафедрой наркологии Харьковской мед. академии последипломного образования доктор медицинских наук профессор И.К. Сосин, в последнее десятилетие происходит формирование «новых телезависимых контингентов» с характерным типом «телезлоупотребления», нуждающихся в психокоррекции. Новые телезрители склонны к фоновому, «клиповому» потреблению телеинформации, так называемому «заппингу» (от английского слова «zap» – клац-клац) (См.[10],[11]). В условиях многоканальности телевидения телезритель щелкает пультом дистанционного управления, бегло просматривая программы на различных каналах. Эта привычка переключения каналов приобретает формы неукротимой навязчивости, которая поглощает всё свободное время человека. Телезрители, склонные к заппингу, уже не способны к просмотру спокойных передач. «Клиповой» формой телепотребления поражено от 32 до 60% телезрителей, причём в основном возраста до 40 лет. Массовость заппингового телеконтингента нашла отражение специалистами в новом термине – «Homo Zapiens» вместо «Homo Sapiens». Раньше всех с заппингом столкнулись американцы в 90-х годах XX столетия, когда многие обзавелись пультами дистанционного управления[10].
Заппинг трактуется как навязчивое состояние щёлканья пультом по каналам. Вначале заппинг может развиваться, как невинная попытка уйти от рекламы. Но затем телезритель доходит до таких форм заппинга, когда в параллель одновременно смотрит несколько каналов. При этом цельного представления о программе и интеллектуального обогащения такой телезритель не получает, но постепенно отрешается от мира и тупеет. Вредоносность заппинга усиливается тем, что одновременно с бездумным щёлканьем по каналам, телезритель курит, употребляет пиво. Для некоторых заппинг может быть подсознательной попыткой получить разрядку, успокоиться. А страдают от этого не только те, кто переключает каналы, но и остальные члены семьи. В подобных семьях война за овладение пультом управления телевизором становится нешуточным явлением[10].
Можно предложить простой тест на обнаружение телевизионной зависимости: для этого нужно проследить реакцию респондента на отлучение от телевизора на 3–4 дня. Если появляются следующие симптомы: плохое настроение, раздражительность, слабость и упадок сил, снижение трудоспособности, неуверенность в себе, дискомфорт, тревожность, невротические страхи, страдание, чувство вины, чувство неудовлетворённости, апатия, агрессивность, которые исчезают при возобновлении доступа к пульту телевидения и телевизору, то результат теста следует считать положительным – налицо явная телезависимость[10].
Вредное воздействие на человека телезависимости усугубляется качеством преподносимой по телевидению информации. Недавно группа украинских журналистов провела эксперимент – целые сутки смотрели телевизор и фиксировали показываемые им события. Оказалось, что при этом насчитали 202 убийства, 160 драк, 66 пьянок и 300 других негативных новостей, и всего лишь 20 благородных поступков, 45 хороших новостей и 74 шутки[11]. По данным других исследователей, в среднем на каждую положительную новость телевидение показывает 7 отрицательных. Телевизор промывает зрителю мозги, навязывая ему точку зрения, заказанную «сильными мира сего». Кроме того, телевизор искажает реальность, формируя виртуальный мир. В фильмах и сериалах умышленно создаются захватывающие повороты сюжета, доставляющие сильные эмоции телезрителю, который испытывает дефицит ярких ощущений в реальной жизни. Телевизор обрекает человека на одиночество, поскольку заменяет собой общение с родственниками и близкими[12].
Вред телевизора ещё и в том, что из-за телевизора взрослые и дети лишаются прогулок на воздухе. Телевизор похищает здоровье человека, способствуя развитию гиподинамии и всех вытекающих отсюда последствий. У телезрителей от телевизора ухудшается зрение, атрофируются мышцы спины, и искривляется позвоночник, развиваются невротические расстройства, депрессивные состояния, раздражительность, хроническая усталость. Заядлые телеманы чаще обычных телезрителей ощущают себя несчастными, если им приходится оставаться один на один с собой; у них возникают трудности с концентрацией внимания, они реже участвуют в общественных и спортивных мероприятиях. Особенно вреден телевизор для детей. Дети преждевременно информируются на интимные темы. Телевидение учит ребёнка агрессивности, тому, что жизнь человека ничего не стоит. Пример – многие западные мультфильмы и телефильмы. Кстати, о мультфильмах: многие помнят, как в 1997 году в Японии был зарегистрирован экстремальный случай госпитализации примерно семисот детей с диагнозом «оптически стимулированный эпилептический приступ». Фотосенситивная эпилепсия была спровоцирована показом по телевидению мультипликационной видеоигры о «покемонах», точнее, той её частью, где было мигающее цветное изображение на экране (См.[9],[10],[11],[12],[13]).
У верующих также достаточно оснований критиковать телевидение, поскольку в потоке негативной информации редкие передачи несут что-то душеполезное. Кроме того, как отмечает О. Маховская в своей книге «Телемания: болезнь или страсть?» одним из психологических эффектов телевидения является эффект «намоленной иконы», сакрализации, обожествления телевизора. Когда телевизор в 60-х годах ХХ столетия вошел в советскую семью, все, кого показывали по телевидению, обожествлялись и превозносились. Дикторы были самыми красивыми и умными, идеальными людьми. Такое идолопоклонство, «язычество нового времени» не потеряло своего значения и в наши дни. Возле телевизора мы переживаем самые искренние эмоциональные реакции. Экранные образы насыщены эмоциями и переживаниями многих людей. Перед телевизором мы получаем зарядку и разрядку. Избавиться от подобного допинга большинству зрителей не удаётся[14]. В результате телезависимости ослабеваются усилия, затрачиваемые на духовное совершенствование человека. Как пишет архимандрит Рафаил (Карелин), телевизор серьёзно посягнул на духовную сферу. Современные фильмы фантазируют на тему духовного мира и духовной жизни, что рождает опасную ложь (по терминологии св. отцов – прелесть). Эти фантазмы зацикливают человека в замкнутый круг страстных призраков и гордых теней, вызванных воображением. Телевизор фактически враждебен религии и развивает антихристианство, поскольку сменой впечатлений подавляет созерцательное религиозное мышление, рассеивает внимание, должное быть направленным на немногие, но значимые онтологические объекты; заглушает тонкое религиозное чувство, которое слышится в безмолвии, а не в мирском шуме. Душа телемана, забитая потоком чувственных представлений, не в силах сосредоточиться на молитве, не в силах ощутить Бога[15].
Как бороться с телезависимостью
Вряд ли человечество способно своими силами устранить те глобальные негативные последствия научно-технического прогресса, о которых мы упоминали. Темп жизни будет всё ускоряться и ускоряться в результате гонки за успехом и престижем, в результате конкуренции, что обусловлено греховной испорченностью человеческой натуры. Греховные страсти, такие как сребролюбие, алчность, тщеславие, жажда власти, неискоренимы собственными усилиями самого человека; для искоренения страстей нужна благодатная помощь свыше. Об этом свидетельствует духовный опыт христианства. Но человек будущего всё менее и менее будет уповать на Бога, а больше на себя самого, и это будет прямой дорогой к концу этого мира. Эсхатологический прогноз христианства остаётся неизменным.
Но мы можем бороться с какими-то конкретными последствиями прогресса на данном этапе развития общества, например, бороться с телезависимостью. Как бороться с негативным влиянием телевидения? Нужен волевой сознательный отказ от телевидения или ограничение его до минимума. Например, в США 7 лет назад была создана ассоциация «Америка, свободная от телевидения». Граждане перестали пользоваться телевидением или сократили его просмотр, в результате за 2006 год три самые большие телекомпании потеряли 3,5 млн зрителей. Если очень хочется посмотреть телевизор, можно включить его на познавательные передачи о животных, которые, по мнению психологов, положительно влияют на психику человека[12].
Важным моментом борьбы с телезависимостью является правильное воспитание детей. Родители не должны оставлять детей на пассивный просмотр телепередач, но должны не жалеть время на игры и занятия с детьми, в том числе на чтение книг. Нужно объяснять старшим детям, что некоторые интимные сцены на телеэкране профанируют подлинные взаимоотношения любви. Для этого надо стараться просмотр телевизора делать семейным – для всех, и затем кратко обсуждать увиденное и делать ему свою этическую и религиозную оценку[16]. Негативные впечатления от телевидения надо вытеснять и ослаблять впечатлениями добрыми, позитивными. Детей надо занимать чем-то полезным и интересным: рукоделием, помощью в приготовлении пищи, несложными покупками, домашними обязанностями, общением и прогулками с младшими братьями и сёстрами, уходом за домашними животными, прогулками со взрослыми на природе, посещением концертов классической музыки, ознакомлением с поэзией, чтением книг, активными играми. Кроме того, нужно сводить к минимуму просмотр телевизора и контролировать телепрограммы, просматривать преимущественно научно-популярные программы по истории, искусству, естествознанию. Верующие могут смотреть специальные религиозные программы. Для этого нужно предварительно просматривать программу телепередач и намечать необходимые передачи[17]. В семьях верующих больше возможностей ограничить просмотр телевизора. В таких семьях время можно посвятить чтению Священного Писания, святых отцов, другой религиозной литературы.
Если же страсть телемании уже глубоко пустила корни, или прочно поддерживается какими-то весомыми причинами, то необходима помощь врача- специалиста: психолога, психотерапевта, нарколога, психиатра. Чтобы победить психологическую зависимость, необходимо проводить работу с её причинами. Очень часто эти причины неосознанные, это могут быть проблемы личностного роста, проблемы отношений с противоположным полом, семейные конфликты, конфликты на работе. Врач должен информировать пациента и его родственников о проблеме телемании, заппинга как клинической форме зависимых состояний. Задача врача состоит также в том, чтобы психотерапевтическими методами вызвать у пациента признание собственных проблем телезависимости, побудить, мотивировать к избавлению от телемании, и психокоррекцией исправить зависимые формы поведения. Не исключается психокоррекция нарушенных семейных и социальных отношений. Врач может назначить лекарственную терапию. В период выраженного синдрома лишения врач может прибегнуть к непродолжительной терапии антидепрессантами, анксиолитиками, корректорами расстройств сна. Психотерапия и лекарственная терапия не исключают волевой отказ от телевизора или ограничение просмотра его до минимума[10].
Если человек верующий, то, безусловно, существенную поддержку ему может оказать Церковь, опытный священник. Церковь может помочь как в борьбе с пагубной страстью, так и с причинами аддиктивного поведения человека, помочь решить или смягчить ту или иную конфликтную ситуацию в семье, на работе, уврачевать душу. Важным элементом такого врачевания души может послужить православная психотерапия. Но, к сожалению, православных психотерапевтов на весь СНГ – единицы. Потому тем верующим, кто страдает от телемании, остаётся сочетать психотерапевтическую помощь светского врача и духовный совет опытного священника. При этом нужно исключить таких врачей, кто практикует нетрадиционные приёмы психотерапии или гипноз (неизбежно ослабляющий свободную волю человека). И ставить духовный совет священника выше по значимости, чем совет светского врача. Тогда возможно разумное соединение психотерапевтического опыта с православной этикой и нравственностью. Психотерапевтический опыт послужит выявлению причин телемании, скрытых глубоко в бессознательной части души, а православная этика поможет направить душевные силы человека на стяжание исцеляющей любви.
Заключение
В докладе автор показал, что одной из наиболее распространённых зависимостей (аддикций) современного человека является психологическая зависимость от телевидения, порождённая научно-техническим прогрессом. Прогресс, изначально положительно направленный на освоение окружающего мира, вместо высвобождения времени от рутинных занятий для духовного совершенствования, как ни парадоксально, наоборот, закабаляет человека, делает его зависимым от благ прогресса. И решить глобально эту проблему человечество своими силами не может. Возможна успешная борьба лишь с некоторыми следствиями прогресса, например, с телезависимостью. Автор считает, что эффективным методом исцеления от телемании может послужить разумное соединение психотерапевтического опыта врача с православной этикой и нравственностью.
P.S. В первом варианте настоящей статьи, написанной для психоаналитической конференции, автор много надежд возлагал на православный психоанализ. Попытки создания такого психоанализа были и продолжаются. Но, по всей видимости, перспектив у этого направления нет, как ныне представляется автору. Психоанализ слишком склонен редуцировать психику человека, сводить её к определяющему воздействию бессознательного души человеческой на сознание человека. Бог в психоанализе вряд ли займёт подобающее Ему доминирующее место. В психоанализе слишком сильна инерция и традиция, восходящая к атеисту Зигмунду Фрейду. А вот в других направлениях психотерапии больше возможностей не конфликтовать с христианским мировоззрением. Например, в логотерапии Виктора Франкла используется понятие Бога и смысла жизни. Хотя и там понятие Бога весьма расплывчато и соответствует, скорее всего, персонифицированной совести человека. Тем не менее возможно разумно сочетать психотерапию и христианскую духовную жизнь, если психотерапия не подменяет собой веру, не несёт инородных духовных элементов и практик, не практикует гипноз.
Литература
1. Ванчугов В.В. В России растёт уровень психических заболеваний [Электронный ресурс] / URL: http://www.humanities.edu.ru/db/msg/18802.
2. Важдаева Н., Нараевская К. Великая депрессия. По уровню психических заболеваний Россия вырывается в мировые лидеры // Ежедневная общероссийская газета «Новые известия». 30.01.2007 [Электронный ресурс] / URL: http:// www.newizv.ru/news/2007–02–02/62224/
3. Доктор Исмуков. Без наркотиков [Электронный ресурс] / URL: http:// www.beznarkotikov1.narod.ru/aktivacia.htm.
4. Осипов А.И. Религия, философия, наука на пороге III-го тысячелетия [Электронный ресурс] / URL: http://www.pravbeseda.ru/library/ index.php?page=book&id=472.
5. В рабстве иллюзий. Реклама и мир // Православная газета. – 2005. – Апрель. – №13 (121).
6. Пророчества старца Лаврентия Черниговского [Электронный ресурс] / URL: http://vselprav.org/Html/lavrentii.htm.
7. Шакур Х. Психология зависимости личности [Электронный ресурс] / URL: http: //www. sunhome. ru/psychology/11309.
8. Гребнева Ю. Что считать зависимостью? [Электронный ресурс] / URL: http:/ /www.ametist-e.ru/consult_zdorovie/zdorovie_art007.htm.
9. Шиксентмихали М., Кьюби Р Телемания – это диагноз [Электронный ресурс] / URL: http://www.conversex.ru/index.php?id=inf&select=vfsumwnu4tq3h&msg=7e61e9a3qfnk7.
10. Сосин И.К. Не пропустите Homo Zapiens [Электронный ресурс] / URL: http://www.medicusamicus.com/index.php?action=2x1089x1.
11. Телевизионная зависимость – психологическая проблема основной массы населения [Электронный ресурс] / URL: http://www.nedug.ru/news/89151.html.
12. Рогозина Н. О вреде телевизора [Электронный ресурс] / URL: http:// www.leovit.ru.
13. Пунанс Т. Не превращайте телевизор в няньку [Электронный ресурс] / URL: http://www.maga3in.ru/Library.asp?DocId=8&SecId=2&ord=29.
14. Маховская О. Психологические эффекты телевидения. Фрагмент книги «Телемания: болезнь или страсть?» [Электронный ресурс] / URL: http://psyfactor.org/ lib/makhovskaya.htm.
15. Архимандрит Рафаил (Карелин) Почему христианину не рекомендуется смотреть телевизор [Электронный ресурс] / URL: http://www.wco.ru/biblio/books/ tv1/Main.htm.
16. Сестра Магдалина Мысли о детях в Православной Церкви [Электронный ресурс] / URL: http://www.ihtus.ru/92004/l2.shtml.
17. Дубинин А. Воспитание. Как уберечь ребёнка от разрушающих его здоровье и личность влияний? [Электронный ресурс] / URL: http://otvetrod.narod.ru/ education.htm.
Детские суициды: попытка осмысления проблемы
А.В. Шувалов
В статье анализируются культурно-исторические и духовно-психологические предпосылки суицидального поведения несовершеннолетних в современной России.
Ключевые слова: суицидальное поведение, антропологический кризис, традиционализм, постмодернизм, педагогическая сверхзадача.
Baby suicide: an attempt of understanding the problem
А.У. Shuvalov
The historical, cultural, psychological and spiritual preconditions minors suicide behavior in modern Russia are analyzed in the article.
Проблема суицида, в особенности детского суицида – страшная, сложная и, надо признать, что рационально до конца не объяснимая. Детство, отрочество – это время встреч, открытий, мечтаний, когда всё интересно, когда каждый день полон новизны и очень хочется жить. К тому же в человеке заложен серьёзный потенциал прочности, в том числе в виде инстинкта самосохранения. И только действие очень мощного, противоестественного, духовно противостоящего человеку метафизического фактора способно сломить инстинкт самосохранения в этот возрастной период. Поэтому очень важно понять, что ослабляет, обезоруживает человека под давлением этой силы, а что укрепляет и защищает его.
Изучение проблемы суицидов зачастую сводится к рассмотрению специальных аспектов: есть люди склонные к суицидальному поведению, соответственно нужно уметь их выявлять и оказывать им своевременную помощь. Постараемся, не ограничиваясь рамками суицидологии, предпринять попытку анализа и осмысления проблемы с культурно-исторической и духовно-психологической точек зрения, чтобы в итоге ответить на два принципиальных вопроса:
1. Почему детские суициды в современной России не только возможны, но и, по сути, стали повседневным явлением?
2. Что мы – взрослые люди – все вместе и каждый в отдельности можем предпринять в плане предупреждения этой проблемы?
Объективная ситуация: антропологический кризис.
Согласно информации, приведённой уполномоченным при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка Павлом Астаховым, и другим экспертным данным ситуация с детскими и подростковыми суицидами в России крайне неблагоприятна. Ежегодно у нас сводит счёты с жизнью от полутора до двух с половиной тысяч детей и подростков. В последние 6–7 лет частота суицидов в России составляет 19–21 случай на 100 тысяч подростков. Средний показатель в мире – 7 случаев на 100 тысяч. Согласно данным ВОЗ Россия занимает первое место в Европе по количеству самоубийств среди детей и подростков и шестое место в мире по числу суицидов среди всех возрастов. Это стабильная ситуация последних лет (!).
Но если не ограничиваться этими оценками и обратить внимание на другие экспертные данные, то выясняется, что современная Россия занимает лидирующее место в мире:
– по количеству абортов;
– по числу разводов супружеских пар;
– по числу детей, брошенных родителями, и детей-сирот;
– по числу курящих детей;
– по масштабу детского алкоголизма;
– по объёму потребления героина;
– по числу нападений педофилов на детей.
Суицидальные показатели как бы подытоживают эту картину, а совокупные данные дают основания поднять вопрос о более общей проблеме. Мы полагаем, что суициды являются одним из проявлений общего снижения жизнеспособности в рамках тотального антропологического кризиса. Антропологический кризис связан с отрывом человека от духовных первооснов бытия. Он затрагивает ментальность и духовный настрой современных людей и проявляется в снижении синергийности общественной жизни. Конкретно речь может идти о разрыве межпоколенных связей и разобщении старших и младших; о снижении уровня взаимного доверия между людьми и десолидаризации общества в целом; об ориентации значительной части граждан на постмодернистский идеал самодостаточного человека и соответствующую ему модель жизни; об обесценивании человеческой жизни как таковой в современном социокультурном контексте.
О духовно-мировоззренческом противостоянии
В современном мире в духовно-мировоззренческой, социальной и культурной сферах ясно обозначились поляризация и противостояние двух сил: традиционализма и постмодернизма.
Основу традиционализма составляет религиозное мировоззрение, ориентированное на мировые («авраамические») религии – христианство, иудаизм и ислам. Они происходят из древней традиции, восходящей к патриарху семитских племен Аврааму, и признают Священное Писание Ветхого Завета. Западная цивилизация, к которой мы себя причисляем, возникла в лоне христианской культуры. Российская государственность оформилась на ниве православной духовной традиции.
Традиционализм предполагает определённый вселенский порядок, иерархическое устройство мира и особое положение человека в мире: человек – венец творения. Согласно ветхозаветному Откровению, человек был создан по образу и подобию Творца. При этом образ Божий человеку дан, подобие же задано. В этом состоит и присущий человеку дар, и наивысшая цель, которую каждому надлежит осмыслить и возвести к ней свои устремления.
Традиционализм аккумулирует в себе предельные ценности и смыслы земной жизни, объединяет духовный опыт многих поколений людей, предполагает прочные межпоколенные связи, обеспечивающие духовное наследование и культурную преемственность. Традиционализм несёт в себе мощнейший педагогический импульс, ориентирует человека на путь духовного возрастания, побуждает к сущностному познанию и осмыслению своей жизни, воодушевляет человека на благие дела, на служение не ради гордыни или обогащения, а ради торжества Добра и Истины.
Предтечей постмодернизма принято считать немецкого философа Ф. Ницше. В 1881–1882 гг. он пишет книгу «Весёлая наука». Один из персонажей книги – безумный человек, который в светлый полдень посреди рынка с зажжённым фонарём ищет Бога и, не найдя его, заявляет, что Бог умер. Эта фраза не только выражает позицию самого философа, но отражает настроение того времени и становится афоризмом. В ней отголоски надвигающегося нравственного кризиса человечества, связанного с утратой веры в космический порядок и в абсолютные моральные законы. Люди отвернулись от Бога, и он «умер» в их сердцах. В это время Ф.М. Достоевский пишет: «Если Бога нет, значит, всё можно».
Традиционализм теснится, с одной стороны, позитивной наукой, с другой – богоборческим гуманизмом. Учёные-естествоиспытатели заявляют, что они ни в микроскопы, ни в телескопы Бога не наблюдают, и обещают посредством научно-технического прогресса в самое ближайшее время снять все основные проблемы человечества. На деле достижения науки используются в целях наращивания военного потенциала развитых стран. Новые виды оружия массового поражения приводят к многочисленным жертвам в ходе первой и второй мировых войн.
Развитие науки и технологический бум порождают в человеке иллюзию всесилия, подталкивают к экспансивному характеру деятельности. Интенсивное и безоглядное вмешательство в природу, провокативно-манипулятивные действия в социокультурной сфере провоцируют экологические и этические проблемы, которые бумерангом возвращаются к человеку.
В 1933 г. в США публикуется первый гуманистический манифест – программный документ апологетов гуманизма, главная идея которого состояла в необходимости создания новой нетрадиционной гуманистической доктрины, которая должна прийти на смену традиционным вероучениям. Эта доктрина проповедует самоценность человеческой индивидуальности и ориентирует человека исключительно на мирские ценности.
Во второй половине ХХ века в условиях отпадения западного общества от ценностей традиционной культуры формируется постмодернизм – специфическое умонастроение и мировоззрение с претензией на переосмысление самой сущности культуры, места и назначения человека в мире. В смысловом переводе термин «постмодернизм» означает «самая современная современность». В постмодернизме мир представляется в виде хаоса: иерархически неупорядоченного, лишённого причинно-следственных связей и ценностных ориентиров. Постмодернизм насаждает скептицизм и недоверие традиционным конфессиям. Из культуры изъяты основополагающие понятия Добра, Единства и Истины. Вместо этого пропагандируется равноценность любых, в том числе контркультурных содержаний и форм. На смену объединяющим людей ценностям предложены соблазны множественных горизонтов позиционирования и противопоставление традиционному укладу жизни.
Надо сказать, что человеческое бытие в постмодернизме получает весьма сомнительное толкование. Вслед за «смертью Бога», провозглашённой Ф. Ницше, постмодернисты заявляют о «смерти Человека», имея в виду уход с исторической сцены людей, ориентированных на традиционные ценности. Постмодернизм упраздняет нормы морали и раскрепощает человека: всё относительно и всё допустимо вплоть до принципа «ничего святого».
«Постмодернистский человек» – это предельно индивидуализированный человек, для которого личные интересы приоритетны. В постмодернизме мир – это безграничное многообразие возможностей. Социальная реальность утрачивает для человека статус подлинности, обретая качества «виртуального мира».
Возникнув как явление духовной жизни Запада, постмодернизм на рубеже 1980–1990 гг. преодолел границы западного общества и стал распространяться на просторах глобального мира, затрагивая все сферы жизнедеятельности людей.
Для наглядности сопоставим в таблице основные положения традиционализма и постмодернизма.
Таблица 1
Сравнение мировоззренческих представлений традиционализма и постмодернизма
| Тематические понятия | Традиционализм | Постмодернизм |
| Культурные ориентиры | Духовная культура, высокая культура и народная культура | Массовая культура потребления и развлечения |
| Представление о сущности человека | Человек – носитель образа Божия | Человек «умер» |
| Происхождение и призвание человека | Человек – творение Божие и соработник Богу | Человек – одинокий «кочевник» в мире |
| Духовная задача | Приобщение к святыням. решение проблемы достойного и недостойного бытия в мире (проблемы добра и зла) | Жизнь «по ту сторону» добра и зла |
| Направленность жизни | Созидание, долг, служение | Потребление, стяжание, удовлетворение желаний |
| Отношение к другому | Любовь, солидарность, терпимость | Конкуренция, манипуляция, пренебрежение |
Постмодернистская атака на традиционные ценности влечёт последовательное «раскультуривание» общества и «расчеловечение» индивида. В искусстве, например, это утверждение деструктивного начала в качестве стилеобразующего фактора, который продуцирует образы порока, агрессии, деградации, распада, наводнившие в последние годы литературу, кинематограф и медийное пространство.
Отчуждение от духовной традиции и установка на постмодернистский идеал разжигают в человеке эгоцентризм, пробуждают своенравие и самонадеянность, влекут, с одной стороны, ценностную дезориентированность, страстность, с другой – внутреннее опустошение, переживание бессмысленности жизни, и в конечном итоге приводят к общему снижению жизнеспособности. Эгоцентризм – «ахиллесова пята» человека – замыкает его на собственных интересах, целях и пристрастиях, побуждает гордыню, толкает к деструктивным и/или аутодеструктивным действиям.
Возобладание постмодернистских тенденций в обществе ведёт к кардинальной смене (по сути, перекодировке) приоритетов человеческого бытия. Ориентация на нравственное достоинство, крепкую семью, служение отчизне и обществу подменяется признанием самоценности отдельной личности, поощрением её самовыражения и самоутверждения любыми средствами и любой ценой. Исследователи прогнозируют, а эксперты подтверждают, что при таком целеполагании обостряются проблемы, обусловленные всплеском эгоцентризма и распространением антисоциального поведения. В результате в обществе нарастают девиантные и аномические (аномия – понятие социологии, обозначающее любые виды нарушений в ценностно-нормативной системе общества) тенденции: люди привыкают действовать за счёт других, в ущерб другим, против других.
Постмодернизация системы образования
Зараза постмодернизма поражает не только отдельного человека или супружеские союзы, но и целые социальные системы. Так происходит, например, с системой образования.
С позиций традиционализма система образования – это пространство встречи поколений, где старшие передают в дар младшим то, чем духовно и культурно богаты сами. В основе традиционной модели образования педагогический консенсус: общность представлений о педагогической сверхзадаче. Аллегорически её можно представить в виде цветка-ромашки (рис. 1). «Лепестки цветка» отражают предметное многообразие и основные направления учебной и неучебной деятельности. «Сердцевина цветка», скрепляющая лепестки воедино, символизирует педагогическую сверхзадачу: личностное развитие и нравственное воспитание ребенка. Педагогическая сверхзадача – это сфера сложения усилий. Для педагогического сообщества, призванного сеять разумное, доброе, вечное, представление о педагогической сверхзадаче является профессионально-мировоззренческим ориентиром и «точкой отсчёта», необходимой для обеспечения осмысленности, преемственности и безопасности образования.
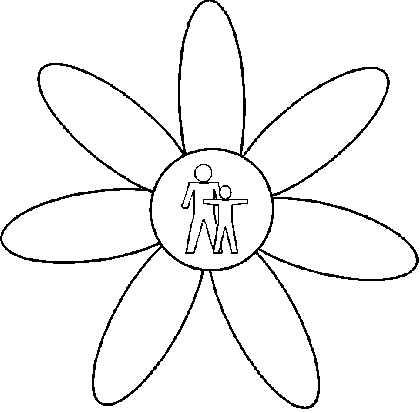
Рис.1. Аллегория «Система образования»
Под лозунги «оптимизации» и «модернизации» (по сути – постмодернизации) современное образование встало на путь примитивных технократических преобразований, отступившись от задач воспитания в угоду экономической и бюрократической целесообразности. Современная система образования подобно шагреневой коже сжимается и вырождается в сферу услуг. Идёт ползучая депедагогизация образования: педагогическая деятельность подменяется репетиторством, анимацией (организацией развлечений) и разгадыванием кроссвордов под названием ГИА и ЕГЭ. Внутри образования складывается гнетущая атмосфера «обюрокрачивания» и «осуетления». На фоне угрожающей десолидаризации общества в лоне образования созданы условия для возгонки человеческой гордыни (рейтинги, конкурсы, самопрезентации, портфолио, имидж), при этом сущностные аспекты развития и образования детей выносятся «за скобки» содержания педагогического процесса. Сказанное отнюдь не умаляет живую и осмысленную работу с детьми, которая сохраняется, но уже скорее не благодаря, а вопреки общей тенденции.
Некоторые отличительные особенности традиционной и постмодернистской моделей образования представлены в таблице 2.
Таблица 2
Сравнение особенностей традиционной и постмодернистской моделей образования
| Тематические понятия | Традиционализм | Постмодернизм |
| Отношение к культуре | Культурная преемственность, знание канонов и следование им | Отрицание традиционных ценностей, релятивизм и мультикультурализм |
| Цели воспитания | Самоодоление, нравственное достоинство | Самодостаточность, успешность |
| Образовательная общность | Субординация в системе отношений «старшие-младшие», этические требования, диалог, дисциплина | Акцентация правового равенства между старшими и младшими, нивелирование авторитета взрослого, отказ от норм поведения, общения, обучения как репрессивных |
| Роль личности в образовании | Личный пример и добрый совет (совесть) педагога как основное средство воспитания | Умаление воспитательной роли педагога в пользу правового паритета и информационно-коммуникативных технологий |
Психологические эффекты антропологического кризиса у детей
Антропологический кризис и постмодернизация образования уже в полной мере затронули подрастающие поколения. В последние годы в рамках консультационной и коррекционной работы с несовершеннолетними мы систематически сталкиваемся со следующими проблемами.
Во-первых, это – разнообразные проявления аномального эгоцентризма, сдвиг в умонастроении и поведении детей от естественной детской романтичности к противоестественной расчётливости и скептицизму. В поведении детей дошкольного и школьного возраста наблюдается гипертрофированное своенравие, поверхностность и/или приземлённость интересов, моральная незрелость или моральная распущенность, отсутствие чувства здоровой сентиментальности по отношению к другим, склонность к пренебрежению социальными и нравственными нормами. Основным источником перечисленных отклонений личностного развития являются дисфункции родительско-детских отношений и недостатки воспитания в семье. Вместе с тем эти нарушения спровоцированы дезориентирующим и растлевающим влиянием на сознание детей массовой культуры потребления и откровенной контркультуры, насаждаемых современными СМИ и индустрией развлечений.
Во-вторых, это – формирование зависимостей химического и нехимического генеза. Так, у детей и подростков всё чаще выявляются признаки кибермании (одержимого увлечения компьютерными играми) и интернет-зависимости. Как правило, мы сталкиваемся с двумя типами ситуаций. Сначала это легкомысленно-попустительское отношение со стороны родителей, когда они не придают значения страстному увлечению ребёнка или, более того, используют компьютерные игры в качестве поощрения, например, за хорошие оценки в школе. Позднее, когда незаметно утрачивается контроль над ситуацией, растерянные родители признаются в своём бессилии перед зависимым поведением ребёнка.
В третьих, это – массовые негативные явления, обусловленные последствиями реформирования отечественной системы образования. Среди них субклинические нарушения психоэмоционального состояния и отклонения в поведении детей дошкольного возраста, спровоцированные порочной практикой интенсивного вовлечения детей в учебные формы деятельности в рамках программ «подготовки к школе». Здесь цель так называемого «предшкольного образования» сводится к «натаскиванию» детей к школе. Данная тенденция сопряжена с пренебрежением возрастных интересов, возможностей и особенностей детей и в итоге оборачивается существенными рисками для их здоровья и развития. Далее следуют проблемы дефицита мотивации учебной деятельности и школьной неуспеваемости среди учащихся начальной и средней школы, обусловленные ранней «интеллектуализацией» и форсированным началом школьного обучения. Они влекут за собой сначала защитный регресс, когда дети вместо того, чтобы усердствовать в учении предпочитают играть, а в итоге оборачиваются функциональными нервно-психическими расстройствами и деформациями личностного развития школьников. Кульминацией становятся проблемы апатии или протестного поведения учащихся старшей школы, вызванные тем, что учебный процесс снова принимает форму «натаскивания», теперь уже на ГИА и ЕГЭ. Родители сетуют, что не могут по утрам разбудить детей, поднять и отправить их в школу или дети уходят из дома в школу, но до школы так и не доходят. При этом в рамках консультативных бесед и психологической диагностики клинические (болезненные состояния) или социально-психологические (конфликты со сверстниками или учителями) причины не выявляются.
Получается, что современное общество воспроизводит поколения самозамкнутых, деформированных и деморализованных людей, уязвимых и податливых к проискам врага рода человеческого. В этой связи часто вспоминается Кай – герой сказки Г.Х. Андерсена «Снежная королева». Мальчик, которому в глаз попал осколок разбитого дьявольского зеркала и сердце которого «оледенело», по сути, стало невосприимчивым к истинному, доброму и прекрасному, а внутренний мир опустел. Созерцая эту картину, начинаешь остро чувствовать и осознавать, как современным детям, закупоренным в компьютерных играх-стратегиях и заблудившимся в социальных сетях, не хватает живительного опыта добрых дел, духа мальчишеского братства и чувства причастности к непреходящим ценностям, которые, выражаясь словами из песни Сергея Трофимова «Родина», «не купить и не отнять».
О мотивах суицидов и основах детской жизнестойкости
Теперь вернёмся к центральному вопросу нашего обсуждения. Анализ мотивов совершения детьми и подростками самоубийств за период 2009–2010 гг. показал, что чаще всего несовершеннолетние сводили счёты с жизнью по причинам:
– семейных разногласий и конфликтов, боязни наказания со стороны родителей;
– неразделённых или прерванных романтических отношений (в подростковом возрасте дети уверены, что первая любовь – это навсегда и относятся к ней крайне серьёзно).
Среди других поводов для суицида выявлены:
– конфликты со сверстниками и друзьями;
– учебная неуспеваемость, низкий уровень школьной адаптации;
– бестактное поведение отдельных педагогов (психологическое насилие), конфликты с учителями;
– демонстративное поведение с суицидальными намерениями, повлекшее за собой смерть;
– тяжёлая болезнь или смерть близких родственников;
– антисоциальный образ жизни родителей (алкоголизм и безработица);
– лишение родителей родительских прав;
– аддиктивное поведение (наркотики, алкоголь и пр.), которое влечёт за собой финансовые проблемы и проблемы с правоохранительными органами;
– боязнь уголовной ответственности за совершение правонарушения;
– осознание собственного виновного поведения;
– подростковая беременность;
– сексуальное насилие (зачастую ребёнок считает себя виноватым в произошедшем);
– физические недостатки ребёнка;
– наличие психического заболевания;
– низкий уровень жизни;
– влияние деструктивных сект и субкультур.
Cуицидологические исследования опровергли утверждение, что большинство самоубийц – душевнобольные. Выяснилось, что количество душевнобольных среди самоубийц не превышает их числа среди тех, кто умирает своей смертью. То есть суицид в общем случае мало связан с психическим расстройством. Также развенчан миф о том, что чаще сводят счёты с жизнью дети из социально неблагополучных семей.
Существенную роль в этиологии суицидального поведения несовершеннолетних играет размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования информации, популяризирующей самоубийства, провоцирующей ребёнка на лишение себя жизни. В интернете образуются стихийные «клубы самоубийц», предлагающие своим посетителям «тысячу способов уйти из жизни». В свободном доступе видеоролики, содержащие презентацию изощрённых способов ухода из жизни.
Чаще всего самоубийство – это шаг отчаяния в переживании ситуации, которая субъективно воспринимается как неразрешимая. Главный вопрос, который должны задать себе взрослые: как мы не заметили, что с ребёнком что-то не так? Маркерами суицидального риска являются следующие особенности несовершеннолетних:
– резкие перемены в поведении;
– сильные эмоциональные колебания;
– самоизоляция: уход в себя;
– депрессия: эмоциональный упадок;
– агрессия: немотивированные вспышки гнева, ярости, жестокости;
– нарушения аппетита;
– прямые или косвенные высказывания суицидальных намерений;
– прощание и раздача подарков окружающим.
Есть общее правило, которым следует руководствоваться родителям и педагогам: обращайте внимание на необычное поведение ребёнка, видимо, что-то произошло или изменилось. Это повод задуматься, поговорить с ребёнком или проконсультироваться у специалиста.
Обзор поводов для суицидальных попыток среди несовершеннолетних помогает нам увидеть и понять, что ориентированное на традиционные духовные ценности синергийное общество либо не допускает перечисленные факторы риска, либо амортизирует их за счёт качественных отношений между взрослыми и детьми: эмоциональной чуткости, заботы и воспитания. Взрослые (родители, родственники, педагоги, специалисты, священнослужители), мобилизованные на совместное решение педагогической сверхзадачи, обеспечивают детям дружелюбную, экологичную, духовно и культурно обогащённую среду развития и воспитания. Благочестивый пример старших и духовное единение с ними более всего защищает младших от пагубы. Полноценная детско-взрослая со-бытийная общность не только удерживает ребёнка от безоглядных действий и отчаянных поступков, но и наделяет его силой жизнелюбия, трудолюбия, любознательности и человеколюбия. Событийная общность теоцентрична. Её праобраз дан в наставлении святого подвижника VI–VII вв. аввы Дорофея. Он начертал окружность и разъяснил: окружность – это мир людей; радиусы – это отдельные люди; центр круга – это Бог; чем ближе человек к Богу, тем ближе он к другим людям; чем дальше люди от Бога, тем дальше они друг от друга.
Выводы
Пришло время вернуться к поставленным в начале вопросам и дать по возможности лаконичные ответы. Проведённый анализ культурно-исторических и духовно-психологических предпосылок суицидального поведения несовершеннолетних позволяет сделать ряд выводов:
1. Проблема суицидов связана с антропологическим кризисом, в основе которого – отпадение от духовной традиции. Ориентация людей на суррогатные ценности влечёт снижение синергийности в обществе, вызывает деструктивные и аутодеструктивные формы поведения (включая суицидальные попытки), приводит к общему падению жизнеспособности.
2. Проблема детских суицидов относится к сфере коллегиальной ответственности взрослых.
3. Основным фактором, оберегающим ребёнка от суицидального поведения, является качество отношений с естественным человеческим окружением, прежде всего – со значимыми взрослыми.
4. Основные способы предупреждения суицидов среди несовершеннолетних – это забота и воспитание детей в духе святоотеческой традиции; всё остальное – в дополнение к заботе и воспитанию, но никак не наоборот.
Секция богословия и философии
Учение о словесном служении и жертве у Климента Александрийского
В.И. Немыченков
Статья посвящена учению Климента Александрийского о словесном служении и жертве. Автор раскрывает учение Климента об уподоблении Богу через служение и поклонение Ему. В статье выделены и подробно рассмотрены аспекты словесного служения, этапы на пути к духовному совершенству и виды жертв Богу. Показана необходимость исполнения Христовых заповедей в достижение цели – уподобление Логосу.
Ключевые слова: Климент Александрийский, патрология, богословие, гносис, обожение, словесное служение.
V.I. Nemychenkov
The doctrine of Clement of Alexandria about verbal (rational) service and sacrifice
The article is devoted to the teaching of Clement of Alexandria concerning the verbal (rational) service and sacrifice. The author reveals the teaching of Clement about likening to God through serving and worshipping Him. The article will detail aspects of verbal service, stages on the path to spiritual perfection and the types of sacrifices to God. Showed the necessity of fulfilling Christ’s commandments in achieving the goal – the likening to God’s Logos.
Скажем сразу, что Климент не использует термин апостола Павла «словесное служение» (λογικη λατρεία) (Рим.12:1), хотя много пишет о разных видах служения человека Богу. Лишь однажды Климент ссылается на Рим.12:2, призывая христиан не делать целью своей жизни чувственные удовольствия и не принадлежать этому миру: «Не сообразуйтесь с веком сим, – говорит апостол, – но преобразуйтесь обновлением ума вашего, дабы познавать вам, что есть воля Божия..,»11. Однако ниже будет показано, что мы вправе считать, что Климент учит о «словесном служении» и «словесной жертве» Богу.
1. Учение Климента об уподоблении и служении
Климент пишет, что Закон Моисея называет «уподобление» «следованием»: «Вслед Господа Бога вашего ходите и заповеди Мои соблюдайте» (ср. Втор.13:4). Сам Климент называет «следование» «наибольшим уподоблением». «Будьте, – говорит Господь, – милостивы и сострадательны, как и Отец ваш небесный сострадателен» (ср. Лк.6:36)12.
Климент отмечает, что призыв апостола Павла подражать ему, как он Христу (1Кор.11:1) означает, что Павел целью веры «устанавливает уподобление Богу, насколько это в наших силах». Это уподобление есть уподобление Логосу, назвавшему нас братьями и сонаследниками (Евр.2:11; Рим.8:17). «Возможно полное уподобление истинному Логосу, надежда на то, что станем детьми через Сына Божьего». В этом наша цель13.
Уподобление Богу состоит в добродетели и в сокращении своих потребностей14. Однако «добродетель не является врождённым качеством»15, поэтому её надо взращивать реальными делами, в которых падшая человеческая природа исправляется жизнью по заповедям Божиим16. В уподоблении человеку помогает Логос. Человек, достигший подобия, чист и совершенен в помыслах (желаниях), словах и делах, которые взаимосвязаны: чистые, согласные с заповедями помышления рождают истинные слова, которые обуславливают праведные поступки. Климент пишет: человек есть друг Богу «при посредничестве Логоса» и «ставший благодаря Христу Иисусу разумно справедливым и разумно благочестивым, стал в той же мере подобным Богу»17. Ибо у последователей Христа «каковы желания – таковы и слова, каковы слова – таковы и дела, а каковы поступки – такова и жизнь..,»18.
Как лицо Моисея светилось славой Божией, так и божественная сила благодати, прилепляясь к праведной душе в делах епископства, и пророчества, и управления отпечатывает на ней умное сияние (ἀπαυγάσματος νοεροῦ), подобное солнечному, как видимый знак праведности, единящий душу со светом через любовь, которая есть богоносная и богорождённая. Так уподобление Богу Спасителю возвышает гностика19 и приближает к совершенству «Небесного Отца» (Мф.5:48)20.
Заметим, что, цитируя Втор.13:4 во второй и в пятой книге «Стромат», Климент не приводит её окончания: «и гласа Его слушайте, и Ему служите, и к Нему прилепляйтесь» (Втор.13:4b). Однако во втором случае он добавляет от себя: «Таковы, я полагаю, все праведные, поскольку они следуют (ἀκόλουθοι) Богу и служат (θεραπευταὶ) Ему»21.
1.1. Взаимосвязь служения, уподобления и жертвоприношения Богу
По мысли Климента уподобление человека Богу происходит в процессе служения Ему, а, совершая своё служение и поклонение Богу, человек тем самым подражает Христу-Логосу, Который пришёл на землю, чтобы послужить ради спасения человечества и принёс Себя в жертву.
Климент пишет: «Сколь полезно для человека стать подражателем (μιμητὴν) и служителем (θεραπευτὴν) наилучшей из всего бытийствущего сущности: ибо никто не сможет подражать (μιμεισθαί). Богу иначе, чем путём благоговейного служения Ему (ὀσίωθεραπεύσει), а служить (θεραπεύειν) и поклоняться (σέβειν) иначе, чем подражая (μιμούμενο). Небесная и подлинно божественная любовь лишь тогда соединится с людьми, когда в их душах сможет воссиять действительная красота, воскрешённая Божественным Словом»22.
Гностик призван уподобляться Первосвященнику-Христу, Который Сам исполняет служение ради спасения человечества (Мф.20:28; Мк. 10:45)23. «Дело совершенного гностика, – пишет Климент, – общаться с Богом при посредстве великого Первосвященника, уподобляясь Господу насколько это возможно во всём служении (θεραπειὸς) Бога, направленном ко спасению людей через заботу о благодеянии, имеющем нас своим объектом, а с другой стороны через служение (τὴν λειτουργίαν), учение, и через милость в делах». Своими добродетелями гностик возвышает внимающих ему, «воплощая в себе подобие Божие». Гностик через упражнение (аскезу) достигает бесстрастности и тем уподобляется бесстрастному Богу. Бесстрастие есть результат непрестанного единения и общения с Господом. «Спокойствие духа, человеколюбие и величайшее благочестие» – таковы этапы пути гностика к богоподобию24.
Собственно стяжание добродетелей как результат уподобления Богу и делает человека угодной Ему жертвой. Климент пишет: «Эти добродетели являются той жертвой приятной (θυσίαν δεκτὴν), о которой говорит апостол (Флп.4:18), ибо... сердце сокрушенное (Пс.50:19) вкупе с правым знанием есть жертва всесожжения Богу (ὀλοκαρπωμα τοῦ θεου). И всякий человек, достигший святости, просветляется лучами Божества и достигает неразрывного единения с Ним»25. Христиане не приносят Богу животных и растительных жертв, поскольку Господь Сам есть источник всего. Но «мы прославляем Того, Кто принёс Себя в жертву за нас (ὑπ ἡμων ἰερευθέντ)26. Мы и себя приносим в жертву (ἱερεύοντες): от не нуждающихся ни в чём Тому, Кто ни в чём не нуждается, и Бесстрастному от бесстрастных»27. Евангелие и апостолы заповедуют нам умерщвлять «ветхого человека» для избавления от греха. Отсекать страсти и означает умерщвлять «ветхое» ради рождения нового, то есть «закалать» (ἱερεύω) себя в жертву.
Из сказанного видно, что служение человека Богу ведёт к уподоблению Ему в бесстрастии и добродетелях, а уподобление делает человека богоугодной жертвой, пребывающей с Ним в непрерывающемся единстве. Теперь рассмотрим подробнее учение Климента о служении и жертве Богу.
1.2. Аспекты словесного служения
Общий очерк служения человека Богу Климент даёт в седьмой книге «Стромат» следующим образом28. Вначале человек, испытав удивление перед творением, убедившись в своей способности получить истинное знание, становится учеником Господа. Он верит услышанным словам о Боге и Провидении и, если он всецело посвящает себя приобретению знания, то достигает достойного усилиям созерцания. Волю Божию он испытывает на себе, ибо не уши, но душу посвящает тому, чтобы делом явить сказанное словами29. Усвоив суть и сами дела через слова, он и свою душу влечёт к должному30. Гностик воспринимает заповеди особым образом, а не так как их понимают другие люди31. «Навык умозрительного познания вещей позволяет ему приготовиться к восприятию истин ещё более чистых». В гносисе человека наставляет Сам Господь (Пс.93:10).
В целом в учении Климента о служении можно выделить следующие основные аспекты: 1) слышание зова Божия; 2) очищение; 3) смерть самости; 4) стяжание добродетелей; 5) молитва; 6) созерцание тайн Божиих; 7) уподобление (обретение гносиса, обожение, усыновление Богу по благодати). Учение Климента также содержит эсхатологию и типологию служения.
Рассмотрим эти аспекты подробнее.
1) В начале своего духовного пути человек слышит зов (глас) Божий, обращённый к нему и призывающий служить только Богу (Втор.6:4; 6, 13, 10:20)32 и, отвечая на него, становится учеником Господа33. «Божественное обучение» осуществляется через «священные буквы», «делающие людей святыми и подобными Богу». Из этих букв составлены боговдохновенные Священные Писания, полезные для обучения и исправления человека (ср. 2Тим.3:15–17)34.
2) Затем человек проходит очищение, которое подразумевает отказ человека от согрешений делом, словом и помышлением. «Он соблюдает пост, воздерживаясь, согласно предписаниям Закона, от злых дел и, следуя Новому Завету, от недостойных помыслов»35. «Очищение в том, чтобы помышлять святое», – пишет Климент36. Человек должен отказаться от ложных учений, мнений, то есть как бы стереть неистинную словесность из записей своей души и сердца и записать в них новый, уже священный текст, продиктованный Богом. По выражению Климента человек должен совершить омовение «словесной водой» (ὕδωρ λογικόν)37, и учиться у Божественного Логоса, Который вкладывает «в его мысли (εἰς τὴν διάνοιαν) законы» и записывает их в сердце (ср. Евр.8:10; Иер.31.33)38.
Душа гностика основывается на началах, обретённых свыше, стремится уподобиться Богу и потому умеряет в себе склонность к плотскому и господствует над телесными скорбями. «Будучи земным образом божественной силы (εἰκων θείας δυνάμεως)», душа гностика формируется в результате развития природных задатков, аскезы и разума (φύσεων, ἀσκησεω, λόγου). Эта красота души и делает гностика «храмом Святого Духа» (1Кор.6:19) в соответствии с мерой исполнения Евангелия39.
3) В процессе очищения гностик отрекается от всех земных богатств и власти и «любит служение (θεραπείας) одному Господу»40. Для того чтобы исполнять служение Богу, а не своим страстям, человек должен исполнять Его заповеди, а не свои похоти, то есть умертвить свою греховную волю. Поэтому на пути к совершенству человек должен пройти через умопредставляемую смерть, которую Климент называет «словесной», подразумевая, что в этой смерти разумное (словесное) начало человека отделяется от неразумных (бессловесных, греховных) страстей. Климент пишет: как смерть есть «отделение души от тела», так «гносис подобен «словесной смерти» (ὁ λογικὸς θάνατος), которая отделяет душу от страстей и приводит к благой жизни»41. «... Истинно знающий Бога не может служить (δουλεύειν) противным Ему страстям» по слову Спасителя о невозможности «служить (δουλεύειν) одновременно двум господам» (Мф.6:24)42. Таким образом, в процессе освобождения от своих греховных страстей человек переживает смерть самости – своего греховного «Я» (обычно отождествляемого со страстями).
«Словесная смерть» означает снятие у человека своих субъективных установок в восприятии Божественного текста. Человек получает силу уподобляться Богу – истинно воспринимать и исполнять слова Божии, то есть воскресать в них. Так Климент пишет, что гностик воспринимает заповеди не так, как их понимают другие люди, ибо «навык умозрительного познания вещей позволяет ему приготовиться к восприятию истин ещё более чистых». В гносисе человека наставляет Сам Господь (Пс.93:10)43.
4) Освобождаясь от греховных страстей, человек постепенно стяжает добродетели и совершенствуется в них, стремясь уподобиться в них Самому Логосу. «Устранение от всякого зла и активная добродетель, благодаря которой достигается спасение, – такова плата за знание, которую требует Спаситель...» – пишет Климент44. Служение Богу всеми своими способностями включает в себя и служение ближним прямой деятельной помощью им, научением и собственным примером жизни по Евангелию45.
5) Одновременно с очищением от страстей и стяжанием добродетелей человек совершенствуется в молитве, которая со временем становится непрерывным памятованием Бога (постоянной интенцией его мысли)46, славословием и благодарением за открываемое Логосом знание истины47. «Сам активно содействуя приобретению благих способностей», человек должен в молитве просить о том, чтобы благо не было только наукой, но чтобы ему «самому стать благим»48.
Главный мотив молитв – благодарение, подчёркивает Климент, тем самым указывая на главное таинство христиан – Евхаристию. Климент пишет о гностике: «И способ его молитвы есть благодарение (εὐχαριστία) за прошлое, настоящее и будущее, которое уже присутствует здесь благодаря вере. Всё это предшествует обретению гносиса». Следуя за Христом, гностик удостаивается через чистоту и единение (ἀνάκρασιν)49 иметь силу Божию через Христово (пред)водительство (τοῦ Χρίστοῦ χορηγουμένην)50.
«Получив такую силу от Господа, – пишет Климент, – душа стремится быть богом. Всегда благодаря за всё Бога посредством послушания и божественного разумения (чтения) (ἀναγνώσεως θείας), поиска истины, святых приношений (προσφορας ἁγίας), блаженных молитв, хвалений, гимнов, благословлений, прославлений, такая душа никогда не разлучается от Бога»51.
6) В молитвенном созерцании человеку открываются тайны Божии, сокрытый смысл Св.Писания и христианского учения, пишет Климент. Логос «запечатлевает Свой образ в душе» праведного человека, «чтобы тот мог возвыситься до созерцания Его божественной полноты», и таким образом вселяется в неё как в храм52. Ум человека, очищенный от тварных образов, способен созерцать божественные образы, получать знание о Боге непосредственно от Него или от ангелов. Энергии этих созерцаний душа сохраняет в себе, получая силу к постижению тайн мироздания и формулированию их на естественном (человеческом) языке для научения многих53. В результате душа гностика становится «земным образом божественной силы (εἰκὼν θείας δυνάμεως)», что делает его «храмом Святого Духа» (1Кор.6:19)54.
7) Уподобление, обожение, усыновление
Познание Бога (гносис) ведёт человека по ступеням мистического совершенствования к божественному и святому. Совершенство души гностика, пишет Климент, состоит «в её соединении с Господом, непосредственном подчинении Ему, которое достигается после очищения и служения (λειτουργίας)». Вера ведёт к знанию (гносису), гносис к любви, которая «соединяет любящего с Любимым, познающего с Познаваемым55»56.
«Гностик уже обожен и свят, несёт Бога в себе и сам ведом Богу», – продолжает Климент. Благодаря знанию, гностик переходит из рабского состояния в положение приёмного сына57. «Гностик подражает Господу, и в пределах, достижимых для человеческой природы, приобретает некоторые качества, свойственные самому Господу и уподобляющие его Богу»58. Однако это подобие следует понимать не в смысле внешнего сходства или тождества добродетелей человека и Бога. Но «подобным Богу он становится как сын и друг и вступает во владение наследством как бог и господин, при условии, что он жил совершенно и в соответствии с Евангелием»59.
Эсхатология служения. По мысли Климента, земное служение человека оканчивается с завершением его земного пути. «Достигшие предела земного совершенства, – говорит он, – не нуждающиеся в дальнейшем очищении, завершившие все служения (λειτουργίας), в том числе святые (ἁγία) и совершаемые среди святых, праведные души получают заслуженные ими почести и воздаяния»60. Тех, кто по своей близости к Богу был чист сердцем, ждёт восстановление в созерцании невидимого, они нарекутся богами. «Итак, гносис довершает внутреннее очищение и приводит нас к преложению (μεταβολήν), сближающему с благом»61.
Однако, по Клименту, гностик и по разлучении души от тела не прекращает своё служение Богу, а продолжает его и даже возрастает в нём, получая степени священства и переходя от низших степеней к высшим62.
Перечислим кратко типы служения у Климента. Он различает служения: апостолов, пророков, мучеников, праведников63, священства (диаконы, иереи, епископы)64, девственников (безбрачных) и состоящих в браке65.
2. Учение Климента о жертвоприношениях гностика
Это учение Климент излагает большой частью в «Строматах». Угодной Богу жертвой Климент считает только тех, кто истинным образом совершает своё служение: познает слово Божие и исполняет его.
Аллегорически толкуя ветхозаветную заповедь о принесении в жертву Богу животных с раздвоенными копытами и жующих жвачку, Климент учит, что только истинные христиане являются угодной Ему жертвой (в противоположность еретикам, иудеям и язычникам). Праведники изучают слово Божие и хранят его в своей душе. «Это сохранённое наставление в истинном знании закон иносказательно называет жвачкой чистых животных». Иудеи не верят в Сына, и потому не имеют двойной опоры (Сына и Отца) («не парнокопытные»). Еретики суть «парнокопытные» (основываются на имени Сына и Отца), но не разжёвывают и не усваивают слова Писания («не жвачные»). Язычники не имеют ни одного признака, необходимого для признания их годными в жертву Богу66.
Что же по мысли Климента человек приносит в жертву Богу и каким образом?
2.1. Два вида жертв гностика
Совершенный христианин – это гностик. Поэтому Климент рассматривает в основном именно его жертвы Богу, среди которых усматривает два вида.
Первый вид жертв гностика есть его уподобление ангельскому хору, славословящему Бога в умосозерцаемом мире. Климент пишет о гностике: «Жертвоприношения, которые приносит он, состоят в молитвах, благодарственных словах, чтении Писания... распевании псалмов и гимнов» и «молитвы в ночное время». Таким образом, «присоединяется он к божественному хору [ангелов. – В.Н.], снова и снова вызывая в своей памяти один и тот же образ, через вечное воспоминание, достигая непрерывного созерцания». Климент поясняет, что гностик молится беззвучно в любом месте, но не на виду у всех. Он вовлечён в молитву «прогуливаясь, во время разговора, в молчании, во время чтения или размышления»67. Таким образом, здесь речь идёт не о литургических жертвах, а о повседневной непрерывной молитве как жертве Богу.
Второй вид жертв можно отнести к так называемым «жертвам благотворения и общительности» (Евр.13:16). Эта жертва состоит в том, что гностик «делится своим знанием и имуществом с теми, кто в этом нуждается»68, то есть выступает в роли учителя, наставника и благотворителя.
2.2. Человек как «словесная жертва» Богу
В «Строматах» Климент пишет, что Церковь как собрание верных есть храм Божества. «Этот храм – наилучший для приятия величия достоинства Бога; ибо живое творение, которое есть наивысшая ценность (τίμιος), освящено» Божеством. Именно гностик является этой ценностью. Он чествуется Богом, в нём пребывает Бог. В праведной душе гностика обретаются образ и подобие Бога69.
В «Увещании...» Климент говорит, что гностик, имея в себе образ Божий, сожительствующий с ним, сострадающий и страдающий за него, то есть будучи храмом, вмещающим в себе Самого Христа, сам представляет собой угодный Богу жертвенный дар и сам священнодействует его принесение, принадлежа к царственному священству «Мы стали приношением (ἀνάθημα)70 Богу ради Христа, мы -род избранный, царственное священство (ἱεράτευμα)... народ Божий (1Пет.2:9–10)»71, – пишет Климент.
Сопоставление этих двух текстов позволяет утверждать, что Климент считал жертвой Богу самого гностика и Церковь как собрание совершенных христиан (гностиков).
Климент призывает человека очистить свой «храм» от наслаждения и легкомыслия, «выращивать плоды воздержанности» и посвящать «Богу себя самого как их начатки», чтобы быть «не только творением, но и благодарением Ему»72. (В этих словах о начатках и благодарении угадывается мысль Филона о логосе благодарения, λόγος εὐχαριστητικος)73. Таким образом, человек должен быть посвящён Богу как жертва начатков – душевых добродетелей, и стать благодарственным гимном своему Творцу.
В обычном жертвоприношении происходит заклание жертвы – её умерщвление. Как уже говорилось выше, для того чтобы стяжать бесстрастность и добродетели, христианин умерщвляет свои греховные страсти и переживает «словесную смерть» (ὁ λογικὸς θάνοτας)74.
Жертва человека Богу также является словесной, логосной, причём в трёх смыслах.
Во-первых, по мере совершенствования сам человек становится всё более «словесным» – разумным, не только очищенным от «бессловесных страстей», но и исполненным добродетелей – качеств, соответствующих божественным заповедям («слову Божию»). Человек, который искал и нашёл Господа, пишет Климент, получает в награду жизнь с Богом. В душе такого человека «записаны» «божественные письмена»: «справедливость, любовь, стыд и кротость». Он сам становится благодарственным гимном Богу. «Прекрасный гимн Богу, – восклицает Климент, – бессмертный, наставленный в справедливости человек, в сердце которого начертаны речения истины»75.
Во-вторых, человек приносит Богу в качестве жертвы молитвы и славословия, то есть слова. Поскольку Божество не нуждается в пище и питье, пишет Климент, Оно находит удовольствие в наших молитвах. «Поэтому лучшая и святейшая жертва (θυσίαν) Богу – это наша праведность, которую мы приносим Ему, предлагая её праведному Логосу, благодаря Которому мы получаем гносис, и воздавая Ему славу за те знания, которым от Него научились. Следовательно, алтарём, который пребывает с нами здесь на земле, является собрание всех посвятивших себя молитвам, имея как бы один общий голос и один разум (γνωμην)»76. И продолжает: «Говорят, что Церковь дышит единым дыханием, поскольку жертва (θυσία) Церкви есть логос, выдыхаемый святыми душами, жертвоприношение (θυσία) и всё разумение (διανοίας), открываемое пред Богом». «Истинно святым алтарём является праведная душа» и «каждение (θυμίαμα), которое приносится на нём, есть святая молитва»77.
Таким образом, праведность, т. е. добродетели, приносятся в жертву Богу в виде молитвы одной праведной души или собрания праведных душ в единстве веры, то есть Церкви праведников и святых, воздающих славу и хвалу Богу своей праведной жизнью, молитвой и чистым умом. При этом хваление должно быть истинным, чтобы не превратиться в богохульство78.
Говоря об этом жертвоприношении, Климент подразумевает для него и особый огонь. «Мы же говорим, что огонь освящает не плоть, но грешные души, имея ввиду не обычный всепожирающий огонь, но так называемый (раз)умный (τὸ φροῦνιμον)», который, «проходя (τὸ διερχομένης)79», «пронизывает душу» (διικνούμενον διὰ ψυχησ)80. Из сказанного видно, что дар, который подлежит освящению жертвенным огнём есть не сама молитва, но души молящихся, а под освящающим «умным огнём» можно подразумевать Само Божество, Которое есть «огонь поядающий» (Евр.12:29).
В-третьих, жертва человека Богу «словесная (логосная)» потому, что в процессе жертвенного священнодействия человеческая душа (ум) соединяется с Божественным Логосом. Подобнее об этом скажем ниже.
2.3. Царственное священство гностиков
Каким образом происходит священнослужение гностика по мысли Климента можно увидеть из его изложения в «Строматах» символизма скинии81 и символизма служения ветхозаветного первосвященника в «Извлечениях из Феодота»82.
Климент пишет, что в скинии вторая завеса символически разделяла мир чувственный и умопостигаемый. Только Господь подобно первосвященнику «вошёл в умопостигаемый мир и через страдания достиг невыразимого знания»83. Херувимы над ковчегом символизировали «великое знание». «Поэтому изображение херувимов имеет символическое значение: лицо является символом словесной (λογικης) души, крылья – служения и действия (λειτουργίαι τε καὶ ἐνέργειαι) возвышающихся слева и справа сил, а голос – славу и благодарение в непрестанном созерцании (θεωρίᾳ)»84. Сам Господь пребывает превыше мира и видимого, и умопостигаемого. Потому имя на нагрудной пластине первосвященника означало «превыше всех начал и властей», то есть записанных заповедей и всего открытого чувствам. Перед священнослужением первосвященник снимает свои одежды (отлагает весь мiр), совершает омовение, облекается в новые одежды и только тогда входит в Святилище. Это означает, что гностики возглавляют священническое сословие, поскольку они освящены водою крещения, облеклись в веру и пребывают в ней, лучше других священнослужителей способны отделить умопостигаемое от чувственного. Сердце их очищено Логосом, им открывается неизреченное (1Кор.2:9). Достигнув уподобления Богу, то есть став сыном и другом Божиим, гностик может насытить себя созерцанием85.
Поскольку ум человека есть образ Логоса86, в созерцании образ соединяется с Первообразом: в чистом уме гностика, лишённом всех тварных образов (мысленных, чувственных) отпечатлевается Сам Логос. Климент пишет, что в созерцании душа гностика «входит за вторую завесу», отделяющую чувственный мир от духовного, где вместе с ангелами она зрит и славит Бога. «Душа, обнажённая силой разума (ἐν δυνάμει τοῦ συνειδέτος)87, став подобной телу этой силы (σωμα τῆς δυνάμεως) возносится в духовный мир, став по истине словесной и первосвященнической (λογικὴ τῳ ὄντι καὶ ἀρχιερατικὴ). Как будто одухотворённая (ἐμψυχουμένη) Самим Логосом, она возвышается до первосвященников подобно тому, как архангелы выше ангелов... Она [душа] достигает гносиса и уясняет суть самих вещей будучи уже не невестой, но став Самим Логосом (ἤδη Λόγος γενόμενος)... Таково было домостроительство [в отношении первосвященника], нести кадильниц у и учиться гносису. [Домостроительство же для ангельских] сил в том, чтобы сделать человека богоносным (τὸ θεοφόρον)88, Самим Господом направляемым и движимым, чтобы стать ему подобным Его телу (καθάπερ σωμα αὐτου γινόμενον)»89.
Таким образом, по мысли Климента в мистическом браке душа-невеста соединяется с Небесным Женихом-Логосом в одно тело – духовное тело Логоса, в Котором она обретает и истинное знание (гносис), поскольку гносис представляет собой опытное знание Бога и по сути есть Сам Христос90, то есть Логос. Весь человек должен уподобиться Его совершенствам и по телу.
Из сопоставления с другими текстами Климента понятно, что «душа, ставшая Логосом», есть ум и означает обретение образом подобия. Ибо как Логос по Клименту есть образ, сила (δύναμις) и энергия (ἐνέργεια) Отца91, так и у гностика ум (ὁ νους) есть образ умопостигаемого Логоса92, уподобляемый Ему в сердце «и потому словесный (λογικός)»93. Поэтому в созерцании Божества ум человека становится подобным «телу силы» Логоса и способным совершать первосвященническое служение (действия) подобно Самому Логосу. Так гностик становится образом и подобием Логоса, принявшего в воплощении образ человека94.
3. Заключение
Служение человека Богу ведёт к уподоблению Ему в бесстрастии и добродетелях, а уподобление делает человека богоугодной жертвой. Жертва Богу – человек, чистый от греха и греховных страстей, стяжавший в совершенстве все добродетели, делающие его подобным Богу, ставший другом Христу и сыном Отцу (что и составляет подобие по Клименту), ставший храмом, в который вселился Христос – Божественный Логос.
Собственно жертва, которая соединяется с Богом, есть чистый ум человека, в котором отпечатлелся Божественный Логос. Именно ум (как созерцательный аспект души – бестелесной природы человека) переходит в вечность через границу телесной смерти и там, в вечности, продолжает своё первосвященническое служение Богу.
Поскольку уподобление достигается в процессе служения, то само служение является процессом уготовления человеком себя в угодную Богу жертву, которую Он примет, обожив её Своею силою. Поэтому «словесное служение» по учению Климента можно определить как процесс уподобления Христу, в результате которого человек постепенно очищается от бессловесных (греховных) страстей, претерпевает смерть греховного «Я», или самости (ὁ λογικὸς θάνατος, «словесную смерть»), стяжает бесстрастие и добродетели, а в его уме отпечатлевается Божественный Логос, тем самым, делая душу подлинно словесной – причастной Логосу, обоженной Им и угодной Богу жертвой.
Альманах Казанской Духовной Семинарии
* * *
Работа выполнена на кафедре латинского языка Казанского государственного медицинского университета при поддержке РГНФ, проект 12–34–01322 «„Богословие“ Иоанна Дамаскина в церковнославянской традиции и рецепции (XVI–XVIII вв.)».
Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ 12–34–01322 «„Богословие“ Иоанна Дамаскина в церковнославянской традиции и рецепции (XVI–XVIII вв.)».
См. его предисловие к переводу «Богословия».
Калугин В.В. Андрей Курбский и Иван Грозный. Теоретические взгляды и литературная техника древнерусского писателя. М, 1998. С. 30.
Цит. по: Калугин В.В. Андрей Курбский и Иван Грозный... С. 33 (со ссылкой на А.И. Соболевского. Хотя в нашем изложении мы часто будем говорить просто о «переводе Курбского», не забывая при этом, что он работал над ним не один.
См. Калошина Н.А., Алексеева С.О., Дегтярева А.А. Изучение экстралингвистических аспектов перевода через сравнение двух переводов одного текста // Вестник СевГТУ. – 2010. – Вып.102. С. 157.
Смолич И.К. Русское монашество, 988–1917. [Электронный ресурс]. URL: http://www.sedmitza.ru/lib/text/436603/.
Там же.
См.: Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 1. Л., 1987. [Электронный ресурс]. URL: http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=3701.
Данное исследование выполнено при поддержке РГНФ (проект 12–04–12045 «Электронная справочно-информационная система „Грамматический частотный словарь церковнославянского языка“») и Программы фундаментальных исследований Президиума РАН «Корпусная лингвистика» (проект «Развитие корпуса церковнославянских текстов»).
Строматы, II.9.41. Здесь и далее цит. по изд.: Климент Александрийский. Строматы / Пер. Е.В. Афонасина. Спб.: Изд-во Олега Абышко, 2003. Т. 1–3. Т.1. С. 284.
Строматы, 11.18.100,3–4 // Указ. соч. Т. 1. C. 313.
Строматы, П.22.134, 136 // Указ. соч. Т. 1. C. 330–331.
Педагог, III, 1.
Строматы, VI. 11.95 // Указ. соч. Т. 3. С. 54.
Строматы, VI.9.76 // Указ. соч. Т. 3. С. 45.
Увещание к язычникам, Гл. 12.CXXII // Климент Александрийский. Увещание к язычникам. Кто из богатых спасётся / Пер. с др.-греч., вступ. ст., ком. и указ. А.Ю. Братухина. – СПб.: Изд-во Олега Абышко, 2006. С. 142.
Увещание к язычникам, Гл. 12.CXXIII // Указ. соч. С. 142–143.
Гностик у Климента это совершенный христианин, «живой образ Господа», который своё спасение видит в благе ближних, свидетельствует об истине словами и делами (Строматы, VII.9.52–54 // Указ. соч. Т. 3. С. 227–228).
Строматы, VI. 12.104 // Указ. соч. Т. 3. С. 58–59. Испр. по греч. ориг. (TLG).
Строматы, V.14.94 // Указ. соч. Т. 2. C. 200. Выделение моё. – В.Н.
Увещание, Гл. 11.CXVII // Указ. соч. С. 137–138. Испр. по греч. ориг.
Педагог, I.9.85.1.
Строматы, VII.3.13 // Указ. соч. Т. 3. С. 202–203. Испр. по греч. ориг.
Строматы, VII.3.14–15 // Указ. соч. Т. 3. С. 203.
от ἱερεύω, закалать жертвенное животное, приносить в жертву; вооб. закалать (Вейсман А.Д. Греческо-русский словарь. СПб., 1899).
Строматы, VII.3.14 // Указ. соч. Т. 3. С. 203. Испр. по греч. тексту.
Строматы, VII.11.60–61 // Указ. соч. Т. 3. С. 231–232.
(60, 3) οὕτως γεύσεται τοῦ θελήματος τοῦ θεου ὁ γνωστικός· οὐ γὰρ τὰς ἀκοας ἀλλὰ τὴν ψυχὴν παρίστησι τοις ὑπὸ τῶν λεγομένων δηλουμένοις πράγμασιν.
Глагол γεύσεται – вкушать, испытывать. В Рим.12.2, говоря о познании воли Божией, апостол использует глагол δοκιμάζειν – испытывать, пробовать.
(60, 4) οὐσίας τοίνυν καὶ τὰ πράγματα αὐτὰ παραλαβὼν διὰ τῶν λόγων εἰκότως καὶ τὴν ψυχὴν ἐπὶ τὰ δέοντα ἄγει.
(60, 4) τὸ μὴ μοιχεύσῃς μὴ φονεύσῃσ ἰδίως ἐκλαμβάνων ὡς εἴρηται τῳ γνωστικῳ οὐχ ὡς παρὰ τοις ἄλλοις ὑπείληπται.
Увещания, Гл. 8.LXXX // Указ. соч. С. 112.
Строматы, VII.11.60–61 // Указ. соч. Т. 3. С. 231–232.
Увещания, Гл. 9. LXXXV–LXXXVII // Указ. соч. С. 115–116.
Строматы, VII. 12.76 // Указ. соч. Т. 3. С. 241.
Строматы, IV, 22.142 // Указ. соч. Т 2. С. 62.
Увещание, Гл. 10. XCIX // Указ. соч. С. 125.
Увещание, Гл. 11.CXII–CXIV // Указ. соч. С. 133–134.
Строматы, VII. 11.64 // Указ. соч. Т. 3. С. 234.
Строматы, VII. 12.78.4 // Указ. соч. Т. 3. С. 242. Исправлено по греч. ориг.: ὡς μόνης τῆς τοῦ κυρίου ἀντέχεσθαι θεραπείας. (ср. англ. пер. so that he may cling to the sole service of the Lord).
ὁ θάνατος «χωρισμος ψυχὴν ἀπὸ σώματοσ» οὕτως γνωσις οἶον «ὁ λογικὸς θάνατος» ἀπὸ τῶν παθων ἀπάγων καὶ χωρίζων τὴν ψυχὴν καὶ προάγων εἰς τὴν τῆς εὐποιίας ζωη. (Строматы, VII.12.71. Ср. Указ. соч. С. 238, где переводчик употребил выражение «смерть разума», что искажает смысл).
Строматы, VII. 12.71 // Указ. соч. Т. 3. С. 238–239.
Строматы, VII. 12.77 // Указ. соч. Т. 3. С. 242.
Строматы, VII. 12.72 // Указ. соч. Т. 3. С. 239.
Строматы, VII. 12.77 // Указ. соч. Т. 3. С. 242.
Строматы, VII.7.43 // Указ. соч. Т. 3. С. 221. «Молитва произносится беззвучно, одним направлением (напряжением) внутренней духовной природы на мысленную речь, обращённую к Богу и не развлекаемую ничем», – пишет Климент.
Строматы, VII.7.35–37 // Указ. соч. Т. 3. С. 217–218.
Строматы, VII.7.38 // Указ. соч. Т. 3. С. 218–219.
Лексикон Лямпе даёт для ἀνάκρασιν у Климента в этом месте значение: mystic union, т. е. мистическое единение (A Patristic Greek Lexicon / ed. by G.W.H. Lampe. Oxford: At the Clarendon Press, 1961. P. 107).
Строматы, VII. 12.78–79 // Указ. соч. Т. 3. С. 242–243. Испр. по греч. ориг.
Строматы, VI.14.113 // Указ. соч. Т. 3. С. 63.
Строматы, VII.3.16 // Указ. соч. Т. 3. С. 204.
Строматы, VII.7.44–45 // Указ. соч. Т. 3. С. 222.
Строматы, VII.11.64 // Указ. соч. Т. 3. С. 234.
φίλον φίλῳ τὸ γιγνωσκον τῳ γιγνωσκομένω παρίστησιν. Возможен перевод: «посвящает (отдаёт) любящего Любимому...» (παρίστησιν от παριστημι – ставить возле, предоставлять, давать. В Н.З. с дат. п. предавать, посвящать (См. Вейсман А.Д.)
Строматы, VII.10.55 // Указ. соч. Т. 3. С. 229–230.
Строматы, VII.13.82 // Указ. соч. Т. 3. С. 245. Исправлено по греч. ориг.
Строматы, VI.17.150 // Указ. соч. Т. 3. С. 81.
Строматы, VI.14.114 // Указ. соч. Т. 3. С. 63.
Строматы, VII.10.56 // Указ. соч. Т. 3. С. 229.
Строматы, VII.10.56 // Указ. соч. Т. 3. С. 229. Испр. по греч. ориг. Заметим, что термин μεταβολων («преложив») используется для обозначения преложения Св. Даров в Евхаристии.
Строматы, VI. 13.105–107. Цит. по изд.: Катанский А.Л. Догматическое учение о семи церковных таинствах в творениях древнейших отцов и учителей Церкви. СПб., 1908. С. 172–173.
Строматы, IV.19.132–133 // Климент Александрийский. Строматы. Т. 2. С. 58–59.
Строматы, VI. 13.105–107. См.: Катанский А.Л. Указ. соч. С. 172–173.
«Как безбрачие, так и брак имеют свои служения и обязанности (λειτουργίας καὶ διακονίας) к Господу...» (Строматы, III. 12.79 // Катанский А.Л. Указ. соч. С. 174). Вдовец заслужит «небесную славу, если останется безбрачным. благочинно ожидая того, что приготовлено для него, и непрестанно служа (λειτουργίας) Господу» (ср. 1Кор.7:35) (Строматы, III. 12.82 // Климент Александрийский. Строматы. Т 1. С. 440).
Строматы, VII. 18.109–110 // Указ. соч. Т. 3. С. 262–263.
Строматы, VII.7.49 // Указ. соч. Т. 3. С. 225.
Строматы, VII.7.49.5 // Указ. соч. Т. 3. С. 225.
Строматы, VII.5.29 // Указ. соч. Т. 3. С. 212. Испр. по греч. ориг.
ἀνάθημα (букв. возложенное на алтарь; приношение, дар, пожертвование в храм (чаши, треножник, статуи) (см.: Вейсман А.Д.).
Увещание, Гл. 11.CXVII // Указ. соч. С. 138.
Филон Александрийский. О рождении Авеля и о том, как приносили жертвы Богу он и брат его Каин, 74–87 // Он же. Толкования Ветхого Завета: Сб. ст. – М.: Греко-латинский кабинет Ю.А. Шичалина, 2000.
Строматы, VII. 12.71 // Указ. соч. Т. 3. С. 238–239.
Увещание, Гл. 10.CVII // Указ. соч. С. 130.
Строматы, VII.6.31 // Указ. соч. Т. 3. С. 214. Испр. по греч. ориг. (γνωμην – познавательная способность, мысль, разум, дух (см.: Вейсман А.Д.).
Строматы, VII.6.32 // Указ. соч. Т. 3. С. 214. Испр. по греч. ориг. Выделено мной. – В.Н.
Строматы, VII.7.38 // Указ. соч. Т. 3. С. 218.
от διέρχομαι, 1) проходить; 2) проходить словом, излагать, прочитывать (см.: Вейсман А.Д.).
Строматы, VII.6.34 // Указ. соч. Т. 3. С. 216. Испр. по греч. ориг.
Строматы, V.6.32–40 // Указ. соч. Т. 2. С. 165–169.
Принадлежность «Извлечений.» Клименту несомненна (см.: Сагарда Н.И. Лекции по патрологии: I–IV века. М., 2004. С. 421).
Строматы, V.6.34 // Указ. соч. Т. 2. С. 165.
Строматы, V.6.35–36 // Указ. соч. Т. 2. С. 165. Испр. по греч. ориг.
Строматы, V.6.38–40 // Указ. соч. Т. 2. С. 168–169.
«Образ же Божий есть Божественный и царственный Логос, бесстрастный человек. Образ этого образа есть человеческий ум» (Строматы, V.14.94 // Указ. соч. Т. 2. C. 200. Испр. по греч. ориг.).
συνειδός, то, consciousness, mind (A Patristic Greek Lexicon. Op. cit. P. 1315).
Букв. «принесённым или посланным Богом».
Извлечения из Теодота, 27.1–6 / Климент Александрийский. Строматы. Т. 2. С. 319. Пер. Е.В. Афонасина исправлен по греч. ориг. (TLG 555/7).
Строматы, VII.10.55 // Указ. соч. Т. 3. С. 228–229.
Строматы, VII.2.7–9 // Указ. соч. Т. 3. С. 199–200.
Строматы, V.14.94 // Указ. соч. Т. 2. C. 200.
Увещание, Гл. 10.XCVIII // Указ. соч. С. 124.
Строматы, VI.9.72 // Указ. соч. Т. 3. С. 43.
