- Предисловие
- Статьи о русской истории
- Подвиг первомучеников за землю русскую (940 лет со дня кончины свв. князей Бориса и Глеба)
- Венец и бармы Мономаха
- Чудо преподобного Сергия (560 лет со дня кончины)
- Русская церковно-политическая традиция
- Гибель Новгородской демократии
- Зарождение Восточной программы
- Вызволение хлопской Руси
- Учреждение Русского Патриархата
- «Профсоюзы» Московской Руси
- Замолчанный историей
- Отравление анекдотом
- Богатырь русской мысли (150 лет со дня рождения А. С. Хомякова)
- Славянофилы и мы (150 лет со дня рождения А. С. Хомякова)
- Исторический рикошет (К 50-летию заключения Портсмутского мира)
- Царь и рабочие
- Люди земли Русской
- «Первая роль»
- «Иван-Царевич»
- «Глубина сибирских руд»
- Пятна на солнце (грустный фельетон)
- Ехидна и спрут
- Историческая шишка (клочок соловецких воспоминаний)
- Кто они?
- Раба политики (воспоминания подсоветского журналиста)
- Пропаганда правдой
- Прогулка по Москве
- Московская весна. Так было когда-то…
- Света не угасите!
- Колхозный эксперимент Розенберга
- Иван и Фриц
- Плоды победы
- Игорев полк
- Национализм и шовинизм
- «Французик из Бордо»
- О «шлепках», чемоданах и гостиницах
- Путь ложных солнц
- Байронизм в политике
- Лицо без грима
- Вотум недоверия
- Доразделялись!
- Письма «нового» эмигранта
- Рецензии
- Непризнанный пророк [Н. Я. Данилевский]
- Корабль Одиссея [Арнольд Тойнби]
- Внук Мазепы – дед Василакия [Н. И. Костомаров]
- Народ отсутствует [Б. Н. Сергеевский]
- «Россия в XIX веке» [С. Г. Пушкарев]
- Практические примечания [Н. Потоцкий]
- О русской интеллигенции
- Фельдфебель и Вольтер
- Достижение «Октября»
- Ветер из глубин
- Без воды и без ступы
- Три ступени
- Смерть Рудина
- Подсоветская интеллигенция
- Человек и эпоха
- Они живы
- Приложение
- Владимир Рудинский
- О советской интеллигенции
- Вопрос, требующий уточнения
- Борис Башилов
- Творцы русской культуры – не интеллигенты, интеллигенты – не творцы русской культуры (ответ В. Рудинскому)
- Владимир Рудинский. Суд скорый, неправый и немилостивый
- Кто же он – «русский интеллигент»?
- И. Албов. Две интеллигенции
- Михаил Лавда. Комментарии
- Алексей Алымов (Б. Н. Ширяев). О «культурном уровне». Ответ Михаилу Лавде
- Михаил Лавда. Еще о «культурном уровне». Ответ на ответ
- А. Алымов (В. Н. Ширяев). Показатели «культурного уровня». Письмо в редакцию
- Андрей Ренников (А. М. Селитренников)
- Неразрешимый вопрос
- Послесловие редактора
Путь ложных солнц
«Мы живем в таком политическом климате, в котором слова утрачивают свою ценность и свой смысл. Мы живем в условиях словесной инфляции, которая создала черную биржу слов», – сказал на Берлинском конгрессе «борьбы за свободу культуры» один из самых смелых, самых честных и самых свободных внутренне людей современности – Артур Кестлер.
На английском языке это утверждение было ново, но на русском оно было уже много раз повторено И. Л. Солоневичем и рядом других журналистов, главным образом, «новых», смогших раскрепостить себя от трагического для мировой интеллигенции «гипноза левизны».
Почти буквально совпали даже такие детали, как «духовное родство между прогрессивными либералами и поклонниками тирании и ужаса на основе общей левизны» в речи А. Кестлера, «левая вертячка» И. Солоневича, «общие боги» Б. Башилова[172] и «единая alma mater» в моих статьях. Совпадают и сами политические термины, подвергнутые А. Кестнером глубокому, смелому и объективно-свободному анализу. Эти слова: «право и лево», «социализм», «свобода», «демократия»… бедные, утратившие в наши дни свой смысл слова, пустые орехи с полинявшей, стертой с них позолотой. Даже не погремушки, т. к. в них нечему уже греметь.
Но А. Кестлер все же не совсем прав. Подобные слова, принявшие в себя множество, порой противоречивых, значений, теряют каждое из них в отдельности и все вместе, но, взамен их, приобретают одно новое.
Это новое их значение – бессмыслица.
Начнем с политической семантики «права и лева», А. Кестлер называет эти термины «вредным анахронизмом, порожденным парламентами XIX века». Неоспоримо, что коммунисты занимали и занимают в представительных органах мира крайний, «левый» фланг. Неоспоримо и то, что, действуя беспрерывно в «левом» направлении, те же «левейшие среди левых» марксисты построили в Европе и Азии беспримерную по целостности и стройности систему реакционного полицейского государства, об осуществлении каковой не смели и мечтать «правейшие из правых» идеологи XIX в. типа Аракчеева и Меттерниха.
Но коммунисты – крайние «левые». Почему же А. Кестлер считает вредным и ложным все понятие «левизны» в целом? Ведь другие, умеренно «левые» партии, не докатились, вернее, пока еще не докатились до марксистско-ленинско-сталинской реакционности?
А. Кестлер считает весь «левый лагерь» ничем иным, как «эмоциональной ловушкой, лишающей силы сопротивления реакции всех вступивших в него, демобилизующей их в борьбе против реакции «слева» «в силу общей «левизны».
Не об этой ли реакции «слева» пророчески говорил уже много лет назад, сам побывавший в «левом лагере» и ушедший из него, П. Б. Струве?
Но, ведь, «левизна» была синонимом прогресса на протяжении всего XIX века? Она сохраняет это родство с ним и в наши дни, именно в этом ее обаяние, сила ее гипноза. Следовательно…
…Следовательно, все представление о политическом прогрессе, господствовавшее в минувшем веке, было ошибочным, ибо привело к злейшей, невиданной реакции. В этой ошибочности его и скрыта причина переживаемого миром кризиса.
Вывод ясен: чтобы излечить болезнь, нужно, прежде всего, устранить ее причину и лишить питания ее возбудителей. Чтобы успешно бороться с всемирной (а не «русской») коммунистической реакцией, в идейном плане, нужно, прежде всего, подвергнуть полной ревизии все «левые» подъездные пути к ней, всю «левизну» XIX века в целом.
Одним из главных среди этих идейных путей была трактовка термина демократии. «Левизна» XIX века ограничивала ее, эту трактовку комплексом в составе: борьбы с монархией, четырехчленной формулы, партийно-парламентской борьбы и самоопределения наций.
Финал Первой мировой войны полностью осуществил этот комплекс: три мощнейших монархии пали, на их развалинах самоопределились нации, четыреххвостка[173] стала обязательной для всех правительств, партии получили полную свободу борьбы за свои программы. На 19-ом году XX века версальские мудрецы полностью осуществили в Европе политический идеал XIX века.
За время перерыва между войнами осуществление этого «левого» комплекса дало такой результат: самоопределившиеся нации вступили меж собой в новые, не разрешимые мирным путем противоречия, борьба партий стала для этих партий самоцелью, что привело к образованию тоталитарных диктатур, которые и приступили к разрешению национальных и прочих противоречий путем второй мировой войны.
Не вытекал ли логически захват Гитлером Австрии и Судет из самоопределения германской нации, т. е. узко национального эгоизма?
Катастрофа Второй мировой войны и страх перед Третьей поставили во весь рост концепцию, высказанную А. Кестлером:
– Совпадают ли в наши дни понятия «левизны» и прогресса? Не нуждается ли их взаимоотношение в коренной и всесторонней ревизии?
Сам процесс жизни мира в его пока свободной части уже приступил к этой ревизии:
– От утверждения самоопределения наций свободный мир идет к ограничению их суверенитета, к созданию наднациональных океанских и материковых союзов, к организации надгосударственных энергетических центров (план Шумана), к надпартийному и внепартийному европейскому парламенту…
Свобода борьбы партий за власть вызвала потребность ее ограничения, выразившуюся пока в признании антигосударственными явно тоталитарных партий, в том числе и коммунистической – «левейшей». Неизбежность и общественная необходимость этого акта ясна, но столь же ясно и его противоречие с лозунгом свободы союзов – одним из китов политического прогресса XIX века.
Таким образом, концепции понятий о свободе личности и коллектива поставлены границы. Это выражено так же в контроле государства над инициативой в промышленности, торговле, денежном обращении, передвижении и даже… в контроле над мышлением… Отбросив фиговые листки, мы должны признать, что вызванные явной необходимостью, вполне обоснованные, разумные и целесообразные репрессии и ограничения прав лиц, мыслящих явно тоталитарно, являются все же действием, противоречащим принципам демократии в ее формах прошлого века.
Но, если отдельные главные элементы, составлявшие ее комплекс, подверглись уже под давлением времени переоценке, то не подлежит ли ей и весь комплекс в целом? На том же Берлинском конгрессе делегат Германии, профессор Коган сказал:
– Надо признать, что осуществления массовых форм демократии мы не достигли.
Иначе говоря, двигаясь в «левом» направлении, к цели, поставленной XIX веком, не пришли, ибо иной, кроме как массовой демократии (народоправия) быть не может. Остается лишь договорить то, что деликатный проф. Коган сказать постеснялся:
– Шествуя «влево», мир пришел к крайнему «правому» – к полной реакции в СССР и подчиненных ему странах, к реакционным устремлениям умеренно «левых» в других государствах, которые ясны из противодействия английских, германских, шведских и других социалистов всем попыткам обновления организма Европы: плана Шумана, созданию Европейского парламента, реорганизации валютно-финансовой системы и т. д.
«Левое» стало «правым». «Вертячка» завершила свой круг. Но «левые» Европы и нашего русского Зарубежья еще не могут сойти с рельс прошлого века, переключить стрелку своей политической мысли в духе времени.
Что ждет их дальше в «левом» направлении? «Достижения» СССР? Без отказа от объединения прогресса с «левизной» эти «достижения» неизбежны.
[Алексей Алымов]
«Наша страна»,
Буэнос-Айрес, 28 октября 1950 г.,
№ 56, с. 6.
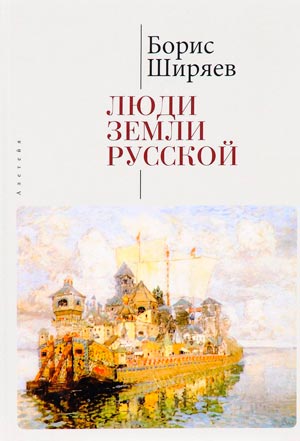
Комментировать