- Предисловие
- Статьи о русской истории
- Подвиг первомучеников за землю русскую (940 лет со дня кончины свв. князей Бориса и Глеба)
- Венец и бармы Мономаха
- Чудо преподобного Сергия (560 лет со дня кончины)
- Русская церковно-политическая традиция
- Гибель Новгородской демократии
- Зарождение Восточной программы
- Вызволение хлопской Руси
- Учреждение Русского Патриархата
- «Профсоюзы» Московской Руси
- Замолчанный историей
- Отравление анекдотом
- Богатырь русской мысли (150 лет со дня рождения А. С. Хомякова)
- Славянофилы и мы (150 лет со дня рождения А. С. Хомякова)
- Исторический рикошет (К 50-летию заключения Портсмутского мира)
- Царь и рабочие
- Люди земли Русской
- «Первая роль»
- «Иван-Царевич»
- «Глубина сибирских руд»
- Пятна на солнце (грустный фельетон)
- Ехидна и спрут
- Историческая шишка (клочок соловецких воспоминаний)
- Кто они?
- Раба политики (воспоминания подсоветского журналиста)
- Пропаганда правдой
- Прогулка по Москве
- Московская весна. Так было когда-то…
- Света не угасите!
- Колхозный эксперимент Розенберга
- Иван и Фриц
- Плоды победы
- Игорев полк
- Национализм и шовинизм
- «Французик из Бордо»
- О «шлепках», чемоданах и гостиницах
- Путь ложных солнц
- Байронизм в политике
- Лицо без грима
- Вотум недоверия
- Доразделялись!
- Письма «нового» эмигранта
- Рецензии
- Непризнанный пророк [Н. Я. Данилевский]
- Корабль Одиссея [Арнольд Тойнби]
- Внук Мазепы – дед Василакия [Н. И. Костомаров]
- Народ отсутствует [Б. Н. Сергеевский]
- «Россия в XIX веке» [С. Г. Пушкарев]
- Практические примечания [Н. Потоцкий]
- О русской интеллигенции
- Фельдфебель и Вольтер
- Достижение «Октября»
- Ветер из глубин
- Без воды и без ступы
- Три ступени
- Смерть Рудина
- Подсоветская интеллигенция
- Человек и эпоха
- Они живы
- Приложение
- Владимир Рудинский
- О советской интеллигенции
- Вопрос, требующий уточнения
- Борис Башилов
- Творцы русской культуры – не интеллигенты, интеллигенты – не творцы русской культуры (ответ В. Рудинскому)
- Владимир Рудинский. Суд скорый, неправый и немилостивый
- Кто же он – «русский интеллигент»?
- И. Албов. Две интеллигенции
- Михаил Лавда. Комментарии
- Алексей Алымов (Б. Н. Ширяев). О «культурном уровне». Ответ Михаилу Лавде
- Михаил Лавда. Еще о «культурном уровне». Ответ на ответ
- А. Алымов (В. Н. Ширяев). Показатели «культурного уровня». Письмо в редакцию
- Андрей Ренников (А. М. Селитренников)
- Неразрешимый вопрос
- Послесловие редактора
Вопрос, требующий уточнения
Несколько статей Месняева[233] и Башилова[234] в последних номерах «Нашей страны» подымают вопросы такой важности, что мне кажется абсолютно необходимым высказать по их поводу свое мнение. И Месняева, и Башилова я, никогда не встречавшись ни с тем, ни с другим лично, хорошо знаю по их статьям в «Нашей Стране» и во многих других газетах. Башилова я кроме того особо ценю как автора на мой взгляд замечательной книги «Унтерменши, морлоки или русские люди». До сих пор я почти всегда готов был подписаться под любой строкой Башилова и, наоборот, не во всем согласился бы иной раз с Месняевым. Курьезно, поэтому, что в их полемике о Бунине я целиком и полностью на стороне Месняева.
Оговорюсь, что важность этого спора куда значительнее, чем вопрос об оценке творчества Бунина. Здесь сталкиваются два разных подхода к художникам слова – и вообще к выдающимся людям. Как пример первого метода можно привести данную статью Месняева о Бунине и прежде опубликованную в той же газете статью Ширяева о Толстом. Предпосылкой здесь как бы является признание следующих вещей: великие люди почти всегда многогранны; уложить их целиком в рамки строго определенной политической схемы крайне трудно. Их высказывания даже в один какой-либо отрезок времени, часто противоречивы. Убеждения их в течение жизни нередко меняются (Виктор Гюго начал как ярый монархист и кончил как республиканец). Кроме того, при анализе их творчества надо всегда помнить особенности их эпохи: несправедливо и нелепо от них требовать знания того, что знаем мы теперь, и нельзя забывать о проблемах, какие их тогда волновали и увлекали, даже если они для нас потеряли всякое значение.
Сделав эти оговорки, критик, пишущий с монархической точки зрения, должен прежде всего искать в сочинениях русских писателей то, что их сближает с русской монархией. Нам, естественно, не к лицу никакие фальсификации, на каковые падки левые всех мастей – но у нас есть очень много важной и срочной работы по восстановлению правильной картины нашего прошлого. О всякого рода конфликтах всех наших писателей с правительством и без нас много писали, причем, не стесняясь, преувеличивали до невероятия.
Наоборот, чрезвычайно опасным и совершенно ошибочным представляется мне метод, нередко практикуемый в эмиграции крайне правыми: изрыгания сплошной хулы и проклятий по адресу русских писателей и мыслителей, обвинения их на основе случайных, иногда ошибочно понятых деталей в их биографии или в их сочинениях в «жидо-масонстве», «ереси», «вольнодумстве» и т. п. Башилову такие взгляды не идут, но он, в своем ответе Месняеву, невольно в них впадает, или, по крайней мере, у читателя может создаться такое впечатление.
Связан с этим и другой вопрос, бесконечно более важный, и в котором я принужден возражать двум опасным противникам – и Башилову, и Месняеву. Это вопрос о русской интеллигенции.
Мне горько, что мои талантливые коллеги скатились в своих статьях на позиции того правого крыла старой эмиграции, которое издавна, еще с России, доводило консерватизм до абсурда, традиционализм до обскурантизма, в силу действий которого монархическая печать в зарубежьи хронически оказывалась на невероятно низком культурном и техническом уровне и – хуже того – оставалось при исключительно убогой и плоской идеологии.
Во-первых: что такое интеллигенция? Мы все, в России (мои оппоненты это знают) привыкли под интеллигенцией понимать культурный слой, элиту. Совершенно прав профессор Ширяев, когда говорит, что Владимир Мономах, Иоанн Грозный, Сергий Радонежский, безымянный автор «Слова о полку Игореве» были русскими интеллигентами своего времени. Абсурдно для нас, монархистов, принимать нелепую и возмутительную формулу наших врагов, по которой «интеллигент» значит непременно «левый»; формулу анекдотической фразы, «вы, как интеллигентный человек не можете верить в Бога». Подумайте, как надо сузить идею интеллигенции для того, чтобы такое понимание стало возможным! Надо, первым делом, исключить духовенство, военных, аристократию, чиновников и свести интеллигенцию к лицам вольных профессий. Но и тогда: ведь как много у нас было адвокатов, журналистов, врачей с определенно правыми взглядами! Примеров можно набрать бесконечное количество. Что же, они не были интеллигенты?
Возьмем еще более узкую сферу – ограничимся русскими писателями. Державин, Крылов, Жуковский, Гоголь, Достоевский, А. К. Толстой, Тютчев, Гумилев были бесспорными, общепризнанными монархистами. В несколько другом роде, но тоже монархистами были Пушкин, Лермонтов, Грибоедов, Лев Толстой, как бы их ни малевали в красную краску те, кто ищет в литературе не правды, а подтверждения своей партийной догмы. (К революционерам же можно причислить из крупных писателей разве одного Некрасова, а далее идет ярко выраженный второй сорт: Салтыков-Щедрин, Чернышевский, Герцен). Ну, а разве за каждым из этих писателей, цветом нашей литературы, не стояли массы учеников, подражателей, поклонников? Где же сплошная революционность нашей интеллигенции? И в области мысли, большая школа славянофилов, Владимир Соловьев, Розанов – кто же из них был левым? И если мы возьмем область науки, мало мы там найдем политического и религиозного вольнодумства; там на каждом шагу такие имена, как Менделеев и Павлов.
Иное дело, что существовал, долго и позорно, некий левый кагал, дикое засилье левой критики в русской литературе. Правда, что ограниченной группе революционных доктринеров удалось искалечить многим людям, которыми Россия поныне гордится, жизнь и творчество. Не только гиганты, как Достоевский и Лесков, скрежетали зубами при столкновении с этой жабьей котерией[235]; даже такой скромный и относительно либеральный поэт, как Полонский, в своих письмах не раз выражает совершенное отчаяние, беспощадно травимый ими. А. К. Толстой вел себя иначе: швырял им блестящие и издевательские стихи, как «Баллада с тенденцией» или «Святой Пантелей».
Но не безумцы ли мы будем, если вместо того, чтоб хоть задним числом отмыть от золотого песка нашей культурной элиты примешавшуюся к нему грязь, чтобы отдать должное нашим самым великим людям и всем за ними шедшим, мы вдруг выбросим их в помойную яму вместе с их зоилами? И притом, ведь, вот, что надо учесть: период левого засилья определенно кончался перед революцией. Верхи нашей интеллигенции явственно потянулись к религии и традиции. Что говорить, процесс шел болезненно и нелегко; на пути к православию многие попадали во всякие «религиозно-философские» общества, а оттуда нетрудно было угодить и в черную магию или сатанизм. Но направление было дано, материализм и атеизм были уже преодолены; заря религиозного возрождения как бы загоралась на горизонте.
Самое трагичное это то, что нам, монархистам, никак не простительно ошибиться в оценке наследия Российской Империи; ибо мы ее единственные законные наследники. Нельзя отбрасывать русскую интеллигенцию, не отбрасывая дела ее рук: русскую культуру. А без русской культуры разве возможна Россия?
Наша культура много имеет аспектов. Нельзя нам отбросить православие и все достижения русского богословия; нельзя забыть государственные имперские традиции, плод вековых усилий наших дипломатов и сановников, нельзя оставить пути, проложенные нашей литературой; надо сохранить блестящие завоевания нашего театра; с гордостью надо продолжать работу наших ученых в бесконечном числе отраслей познания. И не будем глупее нашего народа, наших рабочих и крестьян, представляющих основную массу российской нации. И. Л. Солоневич рассказывает в своих книгах, как в концлагере его тронуло отношение рабочего, контролировавшего труд его с сыном; тот ясно чувствовал ценность интеллигенции… и по тому всячески их выручал. И я, во время последней войны, помню, слышал, как простые люди с удовлетворением рассказывали, как русский доктор оказался лучше немецкого, и радовались, если их начальником по работе оказывался русский интеллигент вместо немца (но как огня боялись оказаться под властью какого-нибудь бывшего советского активиста).
Судить русскую интеллигенцию по тому, что от нее осталось в эмиграции, не очень справедливо, ибо после 30 лет ненормальной жизни среди иностранцев люди не то, что были. Но и здесь, если меня спросят, кто является самым энергичным борцом за монархическую идею среди русских во Франции – придется назвать Е. А. Ефимовского[236], старого русского адвоката и типичного интеллигента; да и я сам, полагаю, могу назвать себя интеллигентом, имея университетское образование и происходя из семьи со старой интеллигентской традицией. Интеллигент был и Иван Лукьянович; да и мои оппоненты, да и все основные сотрудники «Нашей страны» – тоже, конечно, интеллигенты. То, что пишут в «Русской мысли», бесспорно, скверно; но почему ее сотрудников принимать за образец интеллигенции? Хотя и они все же интеллигенты (не очень, впрочем, высокого полета в большинстве случаев; покойный граф Нулин искренне верил, что слова: «Господа, если к правде святой, мир дорогу найти не сумеет» принадлежат Пушкину[237]). Много, конечно, есть в эмиграции людей, которые слово «интеллигент» считают за обидное. Но что такие люди сделали полезного для монархической идеи? Сколько могу судить, ровно ничего. Вредного – да, сколько угодно.
Не нужно также забывать, что старая русская интеллигенция, этот «орден», который г. Месняев осыпает такими жесткими упреками, стояла на совершенно не бывалой, непревзойденной культурной и этической высоте. Та ее часть, которая осталась в СССР, и ее дети, которым она передала свои традиции, прошли сквозь страшные испытания, в массе сохранили или восприняли монархическую идею, и в будущем, без сомнения, сыграют важную, незаменимую роль в восстановлении монархической России. Если меня, плоть от ее плоти, болезненно ранят оскорбительные фразы по адресу интеллигенции вообще – что сказали бы все эти люди, прочти они соответствующие статьи в «Нашей стране»?
Будем осторожны, господа, говоря в главной монархической газете эмиграции, мы должны с чувством ответственности взвешивать каждое свое слово. Наша задача – привлекать все ценное в России и в эмиграции; грех был бы отталкивать самые нужные нам общественные круги. Можно ли противопоставлять монархию интеллигенции? Такого не было и… да не будет! Я, во всяком случае, не за такую монархию борюсь. Я борюсь за такую, где интеллигенция будет с преданностью служить трону, а Государь будет с любовью и доверием смотреть на культурную элиту русской земли, призванную к ответственному и почетному труду на благо и славу отечеству.
«Наша страна»,
Буэнос-Айрес, 15мая 1954 г.,
№ 226, с. 1–2
[233] Месняев Григорий Валерианович (1892–1967) – писатель, журналист. В 1909 г. окончил Орловский Бахтина кадетский корпус. Продолжил учебу на юридическом факультете Киевского университета. В 1914 г. поступил в Виленское военное училище, по окончанию которого служил в 152-й пехотном Владикавказском генерала Ермолова полку 38-й пехотной дивизии. Участвовал в Первой мировой войне. После Октябрьского переворота воевал в Добровольческой армии, в Марковском пехотном полку. В 1920 г., при отступлении, заболел тифом и остался в Ростове-на-Дону; скрывал своё прошлое. С 1942 г. был в немецкой оккупации; в 1943 г. эвакуировался на Запад, с потоком беженцев добрался до Баварии. После войны переехал в США, активно сотрудничал с газетой «Наша страна» (Буэнос-Айрес), был редактором газеты «Россия» (Нью-Йорк), печатался в газетах «Знамя России» (Нью-Йорк), журнале «Возрождение» (Париж). Опубликовал книги «За гранью прошлых дней» (1957, Буэнос-Айрес), «Поля неведомой земли» (1962, б. м.), «По следам минувшего» (1965, Нью-Йорк).
[234] См. о нем на с. 448.
[235] Галлицизм: от франц. coterie – клика, кружок, группировка.
[236] Евгений Амвросиевич Ефимовский (1885–1964) – общественно-политический деятель, журналист. Активно участвовал в деятельности монархических организаций. Редактировал парижские газеты «Русская газета», «Родина», «Грядущая Россия», журналы «Театр и жизнь» и «Русский путь».
[237] Цитата из Беранже в переводе В. С. Курочкина.
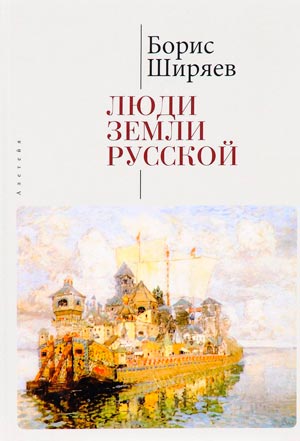
Комментировать