- Древнерусское государство *VI–XII века*
- Славяне до 862 года
- Начало русского государства и первые государи русские от 862 до 945 года
- Святая Ольга от 945 до 957 года
- Великий князь Святослав I от 957 до 972 года
- Сыновья Святослава от 972 до 980 года
- Крещение Руси от 980 до 988 года
- Владимир христианин от 988 до 1015 года
- Святополк окаянный от 1015 до 1019 года
- Великий князь Ярослав I Владимирович от 1019 до 1054 года
- Кудесники от 1054 до 1078 года
- Ссоры князей от 1078 до 1097 года
- Съезды князей От 1097 ДО 1113 года
- Владимир Мономах от 1113 до 1125 года
- Русь удельно-вечевая *XII–XIII века*
- Олеговичи и Мономаховичи от 1125 до 1147 года
- Начало Москвы от 1146 до 1155 года
- Своевольство новгородцев от 1155 до 1167 года
- Андрей Боголюбский от 1157 ДО 1174 года
- Убиение Андрея Боголюбского 1174 год
- Великий князь Михаил I от 1174 до 1176 года
- Вступление на престол великого князя Всеволода III от 1176 до 1178 года
- Слово о полку Игореве от 1178 ДО 1185 года
- Ливония и немецкие рыцари от 1185 до 1202 года
- Роман Волынский и княжество Галицкое от 1198 до 1212 года
- Мстислав Мстиславич Удалой, князь новгородский от 1210 ДО 1218 года
- Русь покоренная *XIII–XIV века*
- Нашествие татар от 1219 до 1238 года
- Россия покоренная от 1238 до 1243 года
- Святой Александр Невский от 1240 до 1263 года
- Великий князь Ярослав III и князья литовские от 1263 до 1272 года
- Дети Александра Невского от 1272 до 1304 года
- Михаил Ярославич Тверской от 1304 до 1318 года
- Соперничество Москвы с Тверью от 1319 до 1328 года
- Иоанн Калита и Москва, столица великокняжеская от 1328 до 1340 года
- Святой митрополит Алексий от 1340 до 1359 года
- От Куликова поля до реки Угры *XIV–XV века*
- Малолетство Дмитрия Иоанновича, великого князя московского от 1359 до 1362 года
- Донское сражение, или Куликовская битва от 1362 до 1380 года
- Новое бедствие Москвы и разбои новгородцев от 1380 до 1388 года
- Великодушие князя Владимира Храброго 1389 год
- Великий князь Василий Дмитриевич от 1389 до 1425 года
- Враги великого князя
- Ссора на свадьбе великого князя Василия II от 1425 до 1433 года
- Дмитрий Шемяка от 1433 до 1446 года
- Последние годы княжения Василия Темного от 1446 до 1462 года
- Великий князь ИОАНН III И греческая царевна София от 1462 до 1472 года
- Совершенное покорение Новгорода от 1472 до 1478 года
- Освобождение Руси от 1478 до 1480 года
- Московская Русь *XV–XVI века*
- Новое состояние России от 1480 до 1498 года
- Два наследника престола от 1498 до 1505 года
- Покорение Пскова и совершенное уничтожение уделов от 1505 до 1523 года
- Нравы и обычаи русских при Василии III от 1523 до 1533 года
- Регентство Великой княгини Елены от 1533 до 1538 года
- Детство и первая молодость Иоанна IV от 1538 до 1546 года
- Царство Грозного царя и последние Рюриковичи *1547-1584-1597 года*
- Чудесная перемена 1547 год
- Казаки от 1547 до 1552 года
- Покорение царства Казанского 1552 год
- Кончина Анастасии от 1552 до 1560 года
- Опричники и слобода Александровская от 1560 до 1569 года
- Слабость России от 1569 до 1582 года
- Ермак, покоритель Сибири от 1582 до 1584 года
- Кончина Иоанна Грозного 1584 год
- Новый царь и его любимец от 1584 до 1591 года
- Углич и последний потомок Рюрика от 1591 до 1597 года
- «Смутное время» *1598–1613 года*
- Борис Годунов, царь России от 1597 до 1600 года
- Мучительная жизнь убийцы от 1600 до 1603 года
- Самозванец от 1603 до 1605 года
- Поляки в Москве от 1605 до 1606 года
- Смерть самозванца 1606 год
- Несчастное царствование Шуйского от 1606 до 1610 года
- Князь Михаил Васильевич Скопин-Шуйский от 1609 до 1610 года
- Междуцарствие от 1610 до 1613 года
- Россия в годы правления первых Романовых *1613–1682 года*
- Иван Сусанин и его потомство 1613 год
- Скромность Романовых
- Восстановление порядка и спокойствия от 1613 до 1619 года
- Царица Евдокия
- Продолжение царствования Михаила Федоровича до его кончины от 1619 до 1645 года
- Боярин Морозов и народные мятежи от 1645 до 1649 года
- Патриарх Никон от 1649 до 1654 года
- Малороссия и Богдан Хмельницкий от 1654 до 1667 года
- Величие души Алексея от 1667 до 1670 года
- Рождение Петра I 1672 год
- Царь Федор Алексеевич от 1676 до 1682 года
- Россия накануне перемен *1682–1703 года*
- Петр, десятилетний царь России 1682 год
- Царевна Софья Алексеевна и стрельцы от 1682 до 1688 года
- Петр, единодержавным обладатель России 1689 год
- Начало русского флота и первая победа Петра от 1689 до 1697 года
- Путешествие Петра в чужие края и последний бунт стрельцов от 1697 до 1700 года
- Новые обычаи и война со Швецией от 1698 до 1703 года
- Россия во времена реформ Петра I *1703–1725 ГОДА*
- Новая столица, новые крепости и гавани от 1703 до 1708 года
- Изменник Мазепа и Полтавская битва от 1708 до 1710 года
- Царица Екатерина
- Праздники и петербургские увеселения
- Новое путешествие Петра в чужие края и царевич Алексей от 1717 до 1719 года
- Мир со Швецией и Петр император
- Последние деяния Петра I от 1722 до 1725 года
- Кончина Петра Великого 1725 год
- Эпоха дворцовых переворотов *1725–1762 года*
- Императрица Екатерина I от 1725 до 1727 года
- Петр II и князь Меншиков от 1727 до 1728 года
- Долгорукие от 1728 до 1730 года
- Императрица Анна Иоанновна 1730 год
- Бирон
- Войны с Польшей и Турцией от 1732 до 1739 года
- Двор императрицы Анны
- Император Иоанн и регентство Бирона 1740 год
- Правительница Анна Леопольдовна от 1740 до 1741 года
- Императрица Елизавета 1741 год
- Непостоянство счастья от 1741 до 1742 года
- Наследник престола и его супруга
- Состояние Европы во время царствования императрицы Елизаветы от 1745 до 1756 года
- Воина с Пруссией и кончина императрицы от 1756 до 1762 года
- Император Петр III 1762 год
- «Просвещенный век» Екатерины II *1762–1796 годы*
- Первые пять лет царствования Екатерины II от 1762 до 1767 года
- Первая турецкая война и первое разделение Польши от 1767 до 1772 года
- Моровая язва и Пугачев от 1772 до 1775 года
- Торжество мира с Турцией и учреждение губерний 1775 год
- Вооруженный нейтралитет, или новая слава Екатерины от 1775 до 1780 года
- Князь Потемкин-Таврический
- Полуостров Крым и путешествие императрицы 1787 год
- Вторая война с Турцией и Суворов от 1787 до 1790 года
- Война и мир со Швецией 1790 год
- Смерть Потемкина и мир с Турцией от 1790 до 1792 года
- Польша от 1792 до 1795 года
- Кончина Екатерины 1796 год
- Правление Павла I *1796–1801 года*
- Император Павел I от 1796 до 1797 года
- Императрица Мария
- Русские в Италии и Швейцарии от 1797 до 1801 года
- Россия в годы правления Александра I *1801–1825 года*
- Состояние Европы в первые четыре года царствования императора Александра I от 1801 до 1805 года
- Воины с Францией и Тильзитский мир от 1805 до 1808 года
- Завоевание Финляндии от 1808 до 1810 года
- Новые успехи русских в военных и гражданских делах от 1810 до 1812 года
- Отечественная война 1812 год
- Александр в Париже
- Конгресс в Вене 1815 год
- Последние десять лет царствования Александра I от 1815 до 1825 года
- Словарь
- Условные сокращения
Самозванец от 1603 до 1605 года
К несчастью, эта весть была несправедлива; это был ужаснейший обман, какой когда-либо мог прийти в голову бессовестного и безбожного человека! Прочитайте рассказ об этом почти невероятном происшествии и подивитесь, какими бесчисленными несчастьями, каким горьким унижением угодно было Богу привести наше Отечество к нынешнему его величию!
В Москве, в Чудовом монастыре, жил старый монах, бывший прежде барином, Замятня-Отрепьев. Видно было, что несчастья заставили бедного старика постричься: лицо его было всегда печально, и правду сказать, недаром печалился Замятия. У него было только два сына, и те оба умерли в молодых летах. У одного из них, Богдана, служившего сотником в стрельцах, остались жена и маленький сын, Юрий, или, как запросто звали его, Юшка. Мальчик был умен, но зол, непослушен, упрям, так что бедная мать, которая была, впрочем, умная женщина и сама учила его грамоте, часто не знала, что делать с негодным шалуном.
Она жаловалась дедушке; но Юрий не боялся и дедушки! Старик горевал вместе с невесткой и утешал ее тем, что когда Юша будет постарше, то будет умнее и добрее. Но не тут-то было! Как только Юрий научился хорошо читать часовник и псалтырь, — а это почиталось в то время большой ученостью, — то ушел от матери и определился на службу в знаменитый дом Романовых, когда еще он был в полном блеске своего счастья. Здесь насмотрелся он на первых вельмож государства, полюбил богатство, окружавшее их, и, завидуя ему, начал жестоко досадовать на свою бедность, несмотря на то, что не имел еще и четырнадцати лет от роду. Хитрый мальчик принялся с того времени искать средства разбогатеть и вести жизнь спокойнее и приятнее той, какую он вел в доме своих благодетелей, и в одно утро вдруг исчез, не сказав ни им, ни деду, ни своей матери о том, куда он отправился. Через несколько месяцев услышали, что он постригся в монахи, назван Григорием и живет в Суздальском Ефимьевском монастыре. Родные его радовались такому известию и надеялись, что пример святой жизни служителей Божиих и их благочестивые наставления сделают, наконец, из непокорного шалуна человека доброго и богобоязненного.
Но Григорий не о том думал: не прошло и года, как он был уже в другом монастыре, потом в третьем, так что в три или четыре года он побывал в нескольких, и, наконец, явился в Чудов монастырь в келью своего деда Замятии. Старик обрадовался, увидев внука. Это был уже не злой шалун, дерзкий со всеми, но умный молодой монах с самой скромной наружностью, с самым тихим нравом, с самым лучшим образованием того времени. Григорий уже научился скрывать свои пороки и показывать хорошие способности, которыми природа щедро наградила его. В короткое время он стал известен патриарху: Иов так полюбил его, что посвятил в дьяконы[164] и взял к себе для переписки и занятия книжным делом. Надо сказать вам, что Григорий славился не только тем, что умел лучше всех списывать, но и тем, что умел даже сочинять молитвы и духовные песни Святым. Сделавшись почти необходимым для патриарха, он бывал с ним часто и во дворце; там завистливый дьякон увидел величие и пышность царей и пленился ими более, чем некогда в доме Романовых знаменитостью и богатством бояр. Удачно исполнив свое прежнее желание и сделавшись из бедного мальчика важным человеком при патриархе, дерзкий Григорий вообразил, что для него нет ничего невозможного, вообразил, что он может сделаться царем! Вместо того, чтобы испугаться такой преступной мысли и помолиться Богу о прощении своего греха, несчастный оправдывал себя рассуждениями о том, что он хотел бы отнять престол не от настоящего государя, а от его убийцы; он думал даже, что Бог избрал его для наказания Бориса. С каждым днем более и более занимался он своими дерзкими намерениями и, наконец, уже начал в шутку говорить Чудовским монахам: «Знаете ли, что я буду царем в Москве?» Почти все, слыша это, смеялись, называли его бесстыдным лгуном и рассказывали друг другу о глупых шутках монаха Григория. Слух о нем дошел через митрополита до самого царя, который тотчас же приказал отправить Григория как безумного в Соловецкий монастырь. Это приказание отдали такому чиновнику, который был в родстве с Отрепьевым, и потому Григорий был уже далеко от Чудова монастыря, прежде чем вздумали искать его.
В то набожное время монахи принимаемы были везде хорошо, и потому Отрепьеву нетрудно было уйти очень далеко от Москвы. Но с его намерением, ужасным для России, не нужно было идти далее Литвы; там всегда были люди, готовые вредить нашему Отечеству. Итак, будущий самозванец отправился прямо в Киев и там искусно распустил слух, что царевич Димитрий был спасен от смерти одним из преданных своих служителей и скрывается в Литве. Готовясь скоро приступить к исполнению своего дерзкого намерения и еще чувствуя необходимость много учиться, чтобы походить на царского сына, Отрепьев снял с себя монашеское платье (по этой причине звали его потом расстригой[165]) и в легком наряде Казака отправился учиться военному искусству. У кого же, вы думаете, милые читатели? У Запорожских Казаков, или, лучше сказать, у разбойников, живших грабежом по берегам Днепра. Из этой шайки он перешел в школу Волынского городка Гащи и там учился Польскому и Латинскому языкам.
Имея необыкновенные способности, он скоро успел и в этих познаниях и тогда уже — совсем готовый к исполнению своего дерзкого дела — явился на службу к одному из знатнейших Польских вельмож, князю Адаму Вишневецкому. Добившись притворным усердием благорасположения гордого пана, сильного своим богатством, но недальновидного умом, самозванец с величайшей тайной открывает ему, что он сын Иоанна IV, царевич Дмитрий, почитаемый всеми давно умершим, но спасенный от смерти своим верным доктором; что злодеи, присланные Борисом, умертвили сына какого-то священника, а Дмитрия добрые вельможи отправили в Литву, где он и воспитывался. Простодушный Вишневецкий поверил этой сказке; ему приятно было видеть своего прежнего слугу царевичем; ему лестно было благодетельствовать этому царевичу, и как для славы люди часто решаются на самые трудные дела, так и гордый Польский князь решился во что бы то ни стало, возвратить Русский престол законному наследнику Иоанна IV. Он сказал об этом намерении своему брату, князю Константину Вишневецкому, и его тестю, воеводе Сандомирскому, Юрию Мнишеку. Они оба были согласны с великодушием своего родственника; последний показал вскоре особенное усердие в этом деле, и вот почему.
У него была прекрасная дочь. Все называли Марину гордой красавицей, потому что она отказывала всем женихам, которые до сих пор искали ее руки. Отец называл ее отказы упрямством, но не принуждал ее, думая, что еще не явился человек, который бы ей нравился. Но как же он доволен был этим в ту минуту, когда в его доме показался будущий царь России. Какая радость видеть свою дочь царицей! Такое блаженство никогда и не снилось старому воеводе! В том, что Марина понравится царевичу, Мнишек и не сомневался: она так прекрасна, так ловка, так хитра. К тому же ей и самой так хочется быть царицей, что она, верно, постарается ему понравиться. Старик не ошибся: несмотря на свою очень непривлекательную наружность, обманщик, которого мы будем называть теперь, как зовут его в истории — Лжедмитрий, понравился гордой Марине, как только она узнала о его знаменитом происхождении. А низкий расстрига не мог быть разборчивым: он полюбил бы прелестную Польскую княжну и в том случае, если бы она и совсем не была хороша, потому что ему нужна была помощь ее родственников.
Итак, все шло по желанию хитреца: Вишневецкие и Мнишек усердно старались предоставить ложному царевичу помощь своего короля Сигизмунда, который проводил большую часть своего времени в молитвах и во всем повиновался католическим монахам и папскому послу. Лжедмитрий знал это и заранее подружился с ними, обещал им не только сам креститься, но и крестить весь Русский народ в Латинскую веру, если они помогут ему взойти на престол. Папа всегда очень желал соединить Римскую церковь с Греческой, и потому его посол чрезвычайно обрадовался, когда мнимый царевич сделал ему такое предложение, и вместе с монахами и Вишневецкими начал просить короля принять под свое покровительство несчастного сына знаменитого государя и дать ему войско, с которым бы он мог завоевать свое наследство. Сигизмунда не нужно было долго уговаривать, да и щедрый царевич не хотел пользоваться даром его помощью: он отдал Польше несколько уездов[166] Северского княжества и, кроме того, подарил своему будущему тестю, Мнишеку, Смоленское княжество, а прекрасной невесте — две великие области: Новгородскую и Псковскую.
Между тем как Польский король и его паны с папским посланником решают судьбу нашего бедного Отечества и, собирая войско, уже заранее радуются тому ужасу, какой они наведут на Россию, — посмотрим, что делается в Москве, где мы оставили царя в неописуемом страхе от одного имени Дмитрия. Как он ни был уверен, что это обманщик и что истинный царевич спит непробудным сном, страх его все-таки не уменьшался. И мог ли он уменьшиться? Это был страх виновной совести, которая говорила ему, что настала минута наказания Божия за его ужасный грех! Как только эта мысль представилась встревоженному уму Бориса, его последнее мужество исчезло, и вместо того, чтобы скорее собрать войско и идти навстречу самозванцу, уже вступившему на Русские границы 16 октября 1604 года, несчастный царь в унынии, в мучительной тоске грешника отчаялся и действовал так слабо, что в прежних многочисленных Русских полках едва собралось до 50 000 человек! И те все шли неохотно. Состояние царя явно показывало его вину: смотря на его робость, на его бледное, унылое лицо, народ удостоверился в истине разглашаемого слуха, что он точно убийца Дмитрия, которого Бог чудесно спас от смерти и теперь возвращает Отечеству. С такими чувствами могло ли и войско усердно защищать Бориса и сражаться с тем, кого считало истинным сыном своих царей. Напротив того, и оно, и весь народ готовы были с радостью встретить его и посадить на престол. Самозванец знал это расположение и сумел воспользоваться им. Вступив в наше Отечество с Поляками и преданными ему Запорожскими Казаками, он стал посылать грамоты к Русскому народу как его настоящий государь, напоминал ему присягу, данную Иоанну IV, просил его оставить похитителя престола и служить законному царю. Это объявление, или манифест[167], так подействовало, что уже не одна чернь, но и все жители тех мест, где он проходил, покорялись ему как настоящему царевичу. Спустя месяц после появления в России ему уже принадлежали города: Моравск, Чернигов, Рыльск, Борисов, Белгород, Волуйки, Оскол, Воронеж, Кромы, Ливны, Елец — одним словом, все области до Новгорода-Северского. Здесь только встретил он сопротивление одного воеводы, оставшегося верным Борису, — Петра Басманова. Но верность и усердие одного человека не могли спасти целого царства. Годунов видел свою погибель в беспрестанных изменах, о которых ему доносили, чувствовал ее в каждом убийственном упреке совести и, будучи не в состоянии переносить долее своих страданий, скоропостижно скончался 13 апреля 1605 года.
В то время измена еще не дошла до Москвы, и древняя столица, исполняя свой долг, присягнула на верность сыну скончавшегося царя — шестнадцатилетнему Федору. Но непродолжительно было царствование этого несчастного государя: через шесть недель его уже не было на престоле! И как вы думаете, милые читатели, кто так ускорил падение всего дома Годуновых и торжество самозванца? Трудно поверить, но это правда: тот же самый Петр Басманов, который за несколько месяцев перед тем так блистательно показал перед всей Россией свою верность и благородство! Борис не знал в то время, как выразить ему свою благодарность: возвысил его в сане, одарил поместьями и, кроме того, из своих рук дал ему золотое блюдо, полное червонцев[168], и две тысячи рублей серебром. Федор, получивший от умного отца лучшее образование по тому веку, заботился с первых дней своего царствования о том, чтобы в такое опасное время дать войску искусного и верного воеводу, и по совету матери и опытных бояр не мог выбрать никого, лучше Басманова. Умилительно было видеть и слышать, как молодой государь, прекрасный и невинный, как ангел, отправляя нового воеводу к войску, со слезами на глазах сказал ему: «Служи нам, как ты служил отцу моему». Казалось, Басманов еще не думал об измене в эту торжественную минуту, потому что с пламенным усердием дал клятву Федору умереть за него; но через несколько дней после своего приезда к войску склонил его к измене и сам присягнул самозванцу. Причина такого низкого поступка первого воеводы того времени не понятна: он очень хорошо знал, что под именем Дмитрия скрывался обманщик, и разве только одно бесчестное желание пользоваться неограниченной милостью самозванца заставило Басманова, до сих пор верного подданного Годуновых, сделаться изменником. Но эта измена решила судьбу дерзкого расстриги: как только герой Новгорода-Северского, никак не хотевший прежде покориться самозванцу, назвал его своим государем, сомнения исчезли: все войско, весь народ — одним словом, вся Россия увидела в нем истинного сына Иоанна IV, и везде раздались радостные крики: «Да здравствует отец наш, государь Дмитрий Иоаннович!»
С этим восклицанием шумные толпы народа ворвались 1 июня в Московский дворец и с проклятьями вывели оттуда несчастного Федора, мать и его сестру. Бедная царица молила только о жизни ее милых детей. Народ, всегда склонный к жалости, согласился с ее просьбами, и несчастное семейство было отвезено в прежний собственный дом Бориса; но Лжедмитрий, Басманов и другие достойные служители обманщика не знали жалости, и 10 июня в Москву приехали чиновники с повелением умертвить все семейство Бориса прежде, чем новый царь въедет в столицу. Повеление самозванца было исполнено в тот же день, несчастная царица и ее невинный сын удавлены!.. Необыкновенная красота Ксении остановила убийц: ее оставили живой, но постригли в монахини.
Так ужасен был конец величия, для которого властолюбивый Борис Годунов пролил святую кровь Дмитрия; так явно было наказание Божие над убийцей и всем его семейством!
[164] Дьякон — в православной церкви священнослужитель, имеющий первую (ниже священника) степень священства, не дающую права самостоятельно совершать богослужения.
[165] Расстрига — священнослужитель, лишенный своего духовного сана.
[166] Уезд — в Московском государстве часть территории, с центром в одном из больших городов. В Российской империи с начала XVIII века уездом называли часть губернии.
[167] Манифест — торжественное обращение главы государства (государя) к народу (своим подданным) в связи со значимым политическим событием: восшествием на престол, объявлением войны или заключением мира, проведением реформ.
[168] Червонец (польск. красный, золотой) — общее название золотых иностранных монет, имевших хождение в допетровской Руси.
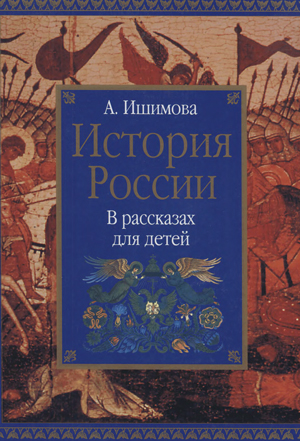
Комментировать