- Древнерусское государство *VI–XII века*
- Славяне до 862 года
- Начало русского государства и первые государи русские от 862 до 945 года
- Святая Ольга от 945 до 957 года
- Великий князь Святослав I от 957 до 972 года
- Сыновья Святослава от 972 до 980 года
- Крещение Руси от 980 до 988 года
- Владимир христианин от 988 до 1015 года
- Святополк окаянный от 1015 до 1019 года
- Великий князь Ярослав I Владимирович от 1019 до 1054 года
- Кудесники от 1054 до 1078 года
- Ссоры князей от 1078 до 1097 года
- Съезды князей От 1097 ДО 1113 года
- Владимир Мономах от 1113 до 1125 года
- Русь удельно-вечевая *XII–XIII века*
- Олеговичи и Мономаховичи от 1125 до 1147 года
- Начало Москвы от 1146 до 1155 года
- Своевольство новгородцев от 1155 до 1167 года
- Андрей Боголюбский от 1157 ДО 1174 года
- Убиение Андрея Боголюбского 1174 год
- Великий князь Михаил I от 1174 до 1176 года
- Вступление на престол великого князя Всеволода III от 1176 до 1178 года
- Слово о полку Игореве от 1178 ДО 1185 года
- Ливония и немецкие рыцари от 1185 до 1202 года
- Роман Волынский и княжество Галицкое от 1198 до 1212 года
- Мстислав Мстиславич Удалой, князь новгородский от 1210 ДО 1218 года
- Русь покоренная *XIII–XIV века*
- Нашествие татар от 1219 до 1238 года
- Россия покоренная от 1238 до 1243 года
- Святой Александр Невский от 1240 до 1263 года
- Великий князь Ярослав III и князья литовские от 1263 до 1272 года
- Дети Александра Невского от 1272 до 1304 года
- Михаил Ярославич Тверской от 1304 до 1318 года
- Соперничество Москвы с Тверью от 1319 до 1328 года
- Иоанн Калита и Москва, столица великокняжеская от 1328 до 1340 года
- Святой митрополит Алексий от 1340 до 1359 года
- От Куликова поля до реки Угры *XIV–XV века*
- Малолетство Дмитрия Иоанновича, великого князя московского от 1359 до 1362 года
- Донское сражение, или Куликовская битва от 1362 до 1380 года
- Новое бедствие Москвы и разбои новгородцев от 1380 до 1388 года
- Великодушие князя Владимира Храброго 1389 год
- Великий князь Василий Дмитриевич от 1389 до 1425 года
- Враги великого князя
- Ссора на свадьбе великого князя Василия II от 1425 до 1433 года
- Дмитрий Шемяка от 1433 до 1446 года
- Последние годы княжения Василия Темного от 1446 до 1462 года
- Великий князь ИОАНН III И греческая царевна София от 1462 до 1472 года
- Совершенное покорение Новгорода от 1472 до 1478 года
- Освобождение Руси от 1478 до 1480 года
- Московская Русь *XV–XVI века*
- Новое состояние России от 1480 до 1498 года
- Два наследника престола от 1498 до 1505 года
- Покорение Пскова и совершенное уничтожение уделов от 1505 до 1523 года
- Нравы и обычаи русских при Василии III от 1523 до 1533 года
- Регентство Великой княгини Елены от 1533 до 1538 года
- Детство и первая молодость Иоанна IV от 1538 до 1546 года
- Царство Грозного царя и последние Рюриковичи *1547-1584-1597 года*
- Чудесная перемена 1547 год
- Казаки от 1547 до 1552 года
- Покорение царства Казанского 1552 год
- Кончина Анастасии от 1552 до 1560 года
- Опричники и слобода Александровская от 1560 до 1569 года
- Слабость России от 1569 до 1582 года
- Ермак, покоритель Сибири от 1582 до 1584 года
- Кончина Иоанна Грозного 1584 год
- Новый царь и его любимец от 1584 до 1591 года
- Углич и последний потомок Рюрика от 1591 до 1597 года
- «Смутное время» *1598–1613 года*
- Борис Годунов, царь России от 1597 до 1600 года
- Мучительная жизнь убийцы от 1600 до 1603 года
- Самозванец от 1603 до 1605 года
- Поляки в Москве от 1605 до 1606 года
- Смерть самозванца 1606 год
- Несчастное царствование Шуйского от 1606 до 1610 года
- Князь Михаил Васильевич Скопин-Шуйский от 1609 до 1610 года
- Междуцарствие от 1610 до 1613 года
- Россия в годы правления первых Романовых *1613–1682 года*
- Иван Сусанин и его потомство 1613 год
- Скромность Романовых
- Восстановление порядка и спокойствия от 1613 до 1619 года
- Царица Евдокия
- Продолжение царствования Михаила Федоровича до его кончины от 1619 до 1645 года
- Боярин Морозов и народные мятежи от 1645 до 1649 года
- Патриарх Никон от 1649 до 1654 года
- Малороссия и Богдан Хмельницкий от 1654 до 1667 года
- Величие души Алексея от 1667 до 1670 года
- Рождение Петра I 1672 год
- Царь Федор Алексеевич от 1676 до 1682 года
- Россия накануне перемен *1682–1703 года*
- Петр, десятилетний царь России 1682 год
- Царевна Софья Алексеевна и стрельцы от 1682 до 1688 года
- Петр, единодержавным обладатель России 1689 год
- Начало русского флота и первая победа Петра от 1689 до 1697 года
- Путешествие Петра в чужие края и последний бунт стрельцов от 1697 до 1700 года
- Новые обычаи и война со Швецией от 1698 до 1703 года
- Россия во времена реформ Петра I *1703–1725 ГОДА*
- Новая столица, новые крепости и гавани от 1703 до 1708 года
- Изменник Мазепа и Полтавская битва от 1708 до 1710 года
- Царица Екатерина
- Праздники и петербургские увеселения
- Новое путешествие Петра в чужие края и царевич Алексей от 1717 до 1719 года
- Мир со Швецией и Петр император
- Последние деяния Петра I от 1722 до 1725 года
- Кончина Петра Великого 1725 год
- Эпоха дворцовых переворотов *1725–1762 года*
- Императрица Екатерина I от 1725 до 1727 года
- Петр II и князь Меншиков от 1727 до 1728 года
- Долгорукие от 1728 до 1730 года
- Императрица Анна Иоанновна 1730 год
- Бирон
- Войны с Польшей и Турцией от 1732 до 1739 года
- Двор императрицы Анны
- Император Иоанн и регентство Бирона 1740 год
- Правительница Анна Леопольдовна от 1740 до 1741 года
- Императрица Елизавета 1741 год
- Непостоянство счастья от 1741 до 1742 года
- Наследник престола и его супруга
- Состояние Европы во время царствования императрицы Елизаветы от 1745 до 1756 года
- Воина с Пруссией и кончина императрицы от 1756 до 1762 года
- Император Петр III 1762 год
- «Просвещенный век» Екатерины II *1762–1796 годы*
- Первые пять лет царствования Екатерины II от 1762 до 1767 года
- Первая турецкая война и первое разделение Польши от 1767 до 1772 года
- Моровая язва и Пугачев от 1772 до 1775 года
- Торжество мира с Турцией и учреждение губерний 1775 год
- Вооруженный нейтралитет, или новая слава Екатерины от 1775 до 1780 года
- Князь Потемкин-Таврический
- Полуостров Крым и путешествие императрицы 1787 год
- Вторая война с Турцией и Суворов от 1787 до 1790 года
- Война и мир со Швецией 1790 год
- Смерть Потемкина и мир с Турцией от 1790 до 1792 года
- Польша от 1792 до 1795 года
- Кончина Екатерины 1796 год
- Правление Павла I *1796–1801 года*
- Император Павел I от 1796 до 1797 года
- Императрица Мария
- Русские в Италии и Швейцарии от 1797 до 1801 года
- Россия в годы правления Александра I *1801–1825 года*
- Состояние Европы в первые четыре года царствования императора Александра I от 1801 до 1805 года
- Воины с Францией и Тильзитский мир от 1805 до 1808 года
- Завоевание Финляндии от 1808 до 1810 года
- Новые успехи русских в военных и гражданских делах от 1810 до 1812 года
- Отечественная война 1812 год
- Александр в Париже
- Конгресс в Вене 1815 год
- Последние десять лет царствования Александра I от 1815 до 1825 года
- Словарь
- Условные сокращения
Вторая война с Турцией и Суворов от 1787 до 1790 года
Гордость Турок ярче всего проявлялась в тех безрассудных требованиях, которые они осмелились предъявить Екатерине. Они хотели, чтобы Россия отказалась от всех выгод, приобретенных ею в результате Кайнарджийского мира, и чтобы она вернула Крым опять под их владычество! Это было объявлено нашему посланнику, и можно себе представить, с каким негодованием он услышал такое предложение. Его отказ привел в гнев султана, или, вернее сказать, султан сам искал случая разгневаться, и Булгаков был заключен в темницу.
Екатерина, удостоверясь в непременном желании Турок начать войну, стала со своей обычной твердостью отдавать необходимые распоряжения. Она разделила войско, предназначавшееся для вступления в Турцию, на две главные армии: Екатеринославскую и Украинскую. Первой командовал Таврический, второй — Румянцев-Задунайский.
Несмотря на высокие достоинства, отличавшие этих двух полководцев, несмотря даже на их одинаковую, беспредельную преданность к императрице, они не были в согласии друг с другом. Потемкин был почти на пятнадцать лет моложе фельдмаршала Румянцева и под его командованием совершил свои первые военные подвиги в действующей армии 1768 года. Румянцев так же, как и архиепископ Амвросий, предполагал, какая счастливая судьба ожидает молодого Потемкина, бывшего в это время генерал-майором, и даже старался давать ему возможность отличаться. Значит, чувство благодарности и чувство уважения к возрасту и к тем высоким достоинствам, которыми славился Румянцев, должны были навсегда привязать к нему Потемкина; но случилось по-другому, и удачливый ученик в период своей славы вовсе не думал щадить чувства заслуженного фельдмаршала и всегда считал себя важнее его. Чтобы читатели могли лучше судить об этом, я предложу несколько слов одного из знаменитых спутников Екатерины во время путешествия ее в Крым. Вот что говорил он: «Фельдмаршал Румянцев, генерал-губернатор Малороссии, встретил императрицу на границах Киевской губернии. На лице старого и знаменитого воина ясно выражались отличительные черты его характера: смесь скромности и благородства, которыми всегда сопровождается истинное достоинство. Но это приятное выражение омрачалось легкой тенью печали и досады при виде предпочтения, оказываемого во всем князю Потемкину».
Когда через несколько месяцев после этого началась Турецкая война, Румянцев почувствовал еще больше разочарования.
Князь Таврический был главным руководителем военных действий, и можно сказать, что именно поэтому они развивались медленнее, чем все прежние войны Русских с Турками. В то время, как Румянцев, всегда спокойный, но деятельный в составлении планов, последовательно продвигал свою Украинскую армию к границам Молдавии, Потемкин, действуя сам лично в самых опасных ситуациях, проявлял странности своего характера. То деятельный, то беспечный, он то удивлял всех смелостью своих начинаний, то приводил войско в уныние своим бездействием. Так было и в то время, когда он осаждал Очаков, и вообще на протяжении всей этой войны. Трудно было понять Потемкина, однако были люди, очень хорошо его знавшие и верно изобразившие его характер.
Воспользуемся их заметками и послушаем того из них, кто был в самых близких отношениях со знаменитым покорителем Крыма — послушаем принца де Линя. Как генерал Австрийской службы он участвовал во многих сражениях Русских с Турками в 1787 и 1788 годах; он был также при осаде Очакова под личным началом Таврического. Сделанное им описание Потемкина так любопытно, что мы приведем его здесь слово в слово.
Вот что писал принц из Очаковского лагеря графу Сегюру: «Я вижу здесь начальника армии, который беспрестанно трудится, а имеет самый ленивый вид. Боязливый за других, храбрый сам по себе, он часто под сильным огнем батареи спокойно отдает приказания, и при всем том он более Улисс[460], нежели Ахилл[461]. Беспокоясь в ожидании опасности, он делается бодр с наступлением ее. Грустный посреди удовольствий, несчастный от великости своего счастья, угрюмый, непостоянный, он может восхищаться всем и тотчас же получать отвращение от всего; он, в одно время, и важный философ, и искусный министр, и десятилетний ребенок; он незлопамятен, просит прощения у тех, кого огорчает, и старается как можно скорее загладить несправедливость».
Однако, несмотря на эти черты характера, восхваляемые принцем де Линем, Румянцев не был доволен Потемкиным и, ссылаясь на болезнь ног, в начале 1789 года попросил увольнения и охотно удалился в свое Киевское поместье. Здесь он проводил все время в чтении, которое всегда было его любимым занятием, и в беседах со своими поселянами. Здесь же он при всем своем нерасположении к Потемкину со слезами услышал о его смерти и воздал ему справедливость следующими словами, сказанными в то время, когда его домашние с удивлением смотрели на его слезы: «Чему вы удивляетесь, что я плачу? Потемкин был мне соперником; но Россия лишилась в нем великого мужа, а Отечество — усерднейшего сына».
Теперь, читатели мои, когда вы уже достаточно познакомились с двумя известнейшими людьми века Екатерины, надо рассказать вам об их третьем современнике, не менее знаменитом, о герое Суворове. Уже несколько раз его имя появлялось в наших рассказах, уже несколько раз он удивлял нас своей храбростью; теперь же мы дошли до того времени, с которого начинается блистательнейшая эпоха его славы — до войны 1787 года, и, следовательно, теперь надо поговорить подробнее о жизни и делах знаменитейшего полководца XVIII столетия.
К сожалению, истории очень мало известно о детстве Александра Васильевича Суворова: мы знаем только, что его отец, генерал-аншеф и сенатор, Василий Иванович Суворов, происходил из Шведско-Финляндской семьи, был крестником Петра Великого и, занимая почетное место по дипломатической части, прочил и для своего единственного сына то же поприще. Для этого он и не записал его ни в какой гвардейский полк, как делали почти все знаменитые люди того времени. Эта традиция, впоследствии справедливо отмененная, часто предоставляла детям, записанным в полки от самого рождения, чин офицера гвардии в четырнадцать или пятнадцать лет. Такие офицеры не имели никакого понятия о службе и не сталкивались ни с какими ее трудностями.
Но судьба, уготовя Суворову высочайшую славу на военном поприще, конечно, хотела, чтобы он подробно узнал все ступени жизни воина, и не позволила ему попасть в число офицеров, легко получавших свой офицерский чин. Напротив, с ним было совсем иначе: до девятнадцатилетнего возраста, готовясь к гражданской и дипломатической службе, молодой Александр Васильевич получил от своих родителей самое лучшее в то время воспитание. Кроме Французского и Немецкого языков, он знал Английский и Итальянский, затем выучил Турецкий, Персидский и Финский. Но его любимой наукой и самым приятным занятием в детстве была история. Читая в ней описания жизни древних и новых героев, восхищаясь их делами, он чувствовал свое высокое назначение, и в нем пробуждался воинский гений при упоминании имен Александра*, Ганнибала[462], Цезаря[463] и Карла XII*. Однако Суворов никогда не был точным подражателем кого-либо из этих знаменитых и любимых им полководцев; нет, он умел находить лучшие качества в каждом из них и подражать только в том, что было истинно высоко и превосходно в них.
Так, например, он любил неустрашимость, отважность и быстроту Шведского героя, но всегда осуждал его излишнюю пылкость, нерасчетливость, недостаток образования и осторожности. Он мыслил таким образом не только в то время, когда уже был командующим войском, но даже еще и в детстве, когда занимался своим любимым чтением. Удивительно было видеть его в это время! Смотря на его пламенное отношение к делам и поступкам избранных героев, на счастье, которым он наслаждался, беседуя с ними в книгах, сидя в своей уединенной комнате и забывая в этой беседе обо всем на свете, можно было предсказать его блестящие успехи в военных делах и его будущую славу. Может быть, после появления уверенности в этом, его отец без сожаления увидел, что его план разрушен: будущий дипломат попросил его позволения вступить на военную службу, и благоразумный Василий Иванович охотно дал свое согласие.
Старик сожалел только о том, что его сыну, не записанному ни в какой полк, трудно будет дослужиться до офицерского чина. Но не так думал молодой Александр Васильевич: увлекаемый непреодолимой страстью к военному поприщу, он был доволен тем, что пройдет все ступени воинских званий, и обрадовался, когда его записали в Семеновский гвардейский полк простым солдатом. Это было в 1742 году, в то самое время, когда ему минуло двенадцать лет от роду. В 1747 году, то есть через пять лет после этого, он был сделан капралом*, в 1749 — унтер-офицером*, потом — сержантом*, и не раньше 1754 года, когда его усердная служба в гвардии стала известна всем его начальникам, он был переведен поручиком в армию. С этих пор его производство чинов пошло гораздо быстрее и в 1756 году он был уже подполковником.
Но все эти успехи мало радовали геройскую душу молодого воина: он еще не был ни в одном сражении, не заслужил кровью своих отличий. Наконец, в 1759 году его пламенное желание исполнилось: полк, где он находился, готовился к походу против Пруссаков. Мои читатели, конечно, помнят, что в это время Пруссаки под командованием своего славного короля Фридриха вели с Россией, Австрией и Францией войну, известную под названием Семилетней. Здесь-то в этой знаменитой школе, имея перед глазами пример великого царственного героя, Суворов впервые стал на практике применять опыт военных уроков. Он анализировал все действия Фридриха, все ошибки его неприятелей, рассматривал все причины его побед, изучал все правила, которым он следовал, и результаты показали, что Суворов воспользовался впоследствии этим превосходным опытом: система ведения войны, которой он придерживался, будучи командующим войском, имела много схожего со смелой системой Фридриха.
Но не будем спешить: нашему герою еще далеко до командования войсками: пока он еще только подполковник в Куннерсдорфском сражении, столь несчастливом для Фридриха. Это была первая битва, в которой участвовал Суворов и в которой обратил на себя особенное внимание своего командира, князя Волконского, фельдмаршалов графов Румянцева и Фермора. Последний, будучи и сам героем на поле битвы, чрезвычайно полюбил Суворова и давал ему возможность отличаться. Храбрый подполковник постоянно был в авангарде[464], участвовал во всех трудных предприятиях и жадно искал опасностей и славы. Пруссаки скоро почувствовали силу его страшной руки, которая была неутомима на протяжении всей этой войны: Суворов был и при взятии Берлина генералом Тотлебеном и способствовал падению Колберга, прославившего в первый раз имя Румянцева. Известно, что этой славной победой Русских закончилась Семилетняя война и император Петр III заключил мир с Фридрихом.
С восшествием на престол Екатерины Суворов в чине полковника Астраханского полка был вызван в Петербург: проницательная государыня уже знала все заслуги своего знаменитого подданного и старалась не терять его из виду. Суворов прожил таким образом в Петербурге до 1768 года: в это время началась война с Польскими конфедератами[465], и он был отправлен в Варшаву. Мои читатели уже знают, как прославился Суворов в этой войне. Ему принадлежала честь полного усмирения конфедератов и их покорение законной власти короля Станислава. Чин генерал-майора и орден святой Анны[466],святого Александра Невского и святого Великомученика Георгия были наградами за его победы. Он возвратился в Петербург в 1773 году и почти в тот же день просил у императрицы позволения участвовать в войне с Турками. Екатерина знала, сколько пользы принесет его присутствие в армии, и поспешила отправить его к графу Румянцеву. Успехи этой войны, закончившейся славным Кайнарджийским миром, также известны читателям. Суворов принимал участие почти в каждом из главных сражений и особенно отличился взятием одного важного Турецкого города — Туртукая, лежащего на Дунайском берегу. Но не хотите ли вы узнать поближе нашего героя? Прочитайте его донесение фельдмаршалу Румянцеву об этой новой победе. Вот оно слово в слово:
«Слава Богу! Слава вам!
Туртукай взят — и я там!»
Это необычное донесение можно назвать верным изображением Суворова; он всегда отличался глубокой набожностью, и ею дышит его первое восклицание: «Слава Богу!» Он был так скромен, как редко может быть скромен счастливый и искусный воин, и не эта ли скромность видна в словах его: «Слава вам!» Он был чрезвычайно быстр в действиях и краток в речах, и как хорошо это выразилось в последней строке его донесения! Наконец, стихотворная форма этого донесения показывает, что он любил поэзию. Это заставляло его иногда отвечать стихами на письма к нему Державина и восклицать: «Если бы я не был полководцем, то был бы писателем!»
Но, говоря о нравственных качествах и природных способностях Суворова, нужно сказать читателям о том, чем прежде всего удивлял он каждого, кто его видел: о его странностях. Никогда человек, достигший такого почетного места в обществе, не имел так мало сходства с другими людьми, как Суворов. Не только в важных делах, но и в мелочах был он необычен. Мы тем более должны обратить внимание на его странности, что дошли до того периода в его жизни, когда они начали становиться известными и в армии, и даже при дворе, особенно с тех пор, когда деятельное участие Суворова в покорении Крыма сделало еще более знаменитым уже известное его имя.
Можно ли представить себе, что этот человек, столь возвышенный над другими, мог заслужить когда-нибудь название чудака. Многие, не понявшие его гений, считали его таким, особенно иностранцы, которым постигнуть его было еще труднее, потому что, не зная ни нашего языка, ни наших нравов и обычаев, они находили удивительного генерала еще более странным, чем его соотечественники. Да и мало кто не нашел бы его странным, когда он… Что бы рассказать вам о нем, милые читатели? Вот, например, он выбегал в лагере из своей палатки, становился на одну ногу и изо всех сил кричал: «Кукареку! Кукареку!» Вам кажется это смешным и невероятным, друзья мои, но это было совершенной правдой. Послушайте дальше: кто не нашел бы это странным, если бы видел, как он каждый день во время походов ел с солдатами сухари и их кашу; садился за свой обед в 8 или 9 часов утра; приказывал вынести из отведенной ему квартиры мебель и вместо нее принести только связку сена и чан[467] с холодной водой: он всегда спал на сене, каждое утро окатывался водой, даже зимой. Перед сражением, сев на лошадь, он кричал солдатам: «На коней! На коней! Кто со мной не поедет, того волки съедят!» Одним словом, нельзя перечислить всего странного, что делал Суворов, и в результате как не прослыть в глазах людей чудаком? Но среди этих людей были и такие, кто не судил по одним внешним признакам, а видели причины таких действий. Они видели, что эти простые привычки, так сильно отличавшиеся от нравов высшего круга, к которому он принадлежал, имели особенную цель. Что лучше могло сблизить полководца с его воинами, как не совершенно одинаковый образ жизни? Что могло быстрее побудить их переносить все военные трудности, как не его высокий пример? Могли ли они жаловаться на скорость маршей, на скудость пищи, на краткий отдых во время походов, когда сам командующий шел возле них тем же шагом, как и они; ел с ними кашицу, спал еще меньше их, потому что пел петухом намного раньше настоящих петухов? Они не только не жаловались, а один только взгляд на него заставлял их забывать все опасности, один только звук необыкновенного пения доставлял столько общего неизъяснимого веселья по всему лагерю, несмотря на то что это пение всегда было сигналом к битве.
Значит, все действия Суворова были направлены на то, чтобы привязать к себе войско настолько, чтобы оно как бы имело с ним одну душу и, кроме того, чтобы какой-то особенностью поступков стать в глазах этого войска человеком, отличным от других людей. Эта цель была в полной мере достигнута: каждый солдат любил Суворова больше жизни; каждый солдат, видя в нем сверхъестественного человека, считал себя непобедимым под его командованием и был на самом деле непобедимым: известно, что на протяжении всей своей продолжительной службы Суворов не проиграл ни одного сражения.
Военная история всех веков не знает подобного примера, и этим неизменным счастьем Суворов обязан был больше всего беспредельной преданности к нему солдат и офицеров.
Итак, теперь вы понимаете, какова была цель необыкновенных странностей нашего знаменитого полководца? Она была благородна и высока, и поэтому все шутки Суворова, даже плоские внешне, даже то самое его «кукареку» заслуживают не смех, а наше удивление. Многие его современники видели кроме этой цели еще и другую причину, о которой историки того времени говорят с достоверностью в своих сочинениях, и это заставляет и нас прийти к такому же выводу.
Суворов, поступив на военную службу гораздо позже своих сверстников, проходил ее без чьего-либо покровительства и, как читатели мои видели, долго оставался в нижних чинах. Между тем его душе, любившей славу, лестно было обратить на себя внимание государыни. Но как это сделать? Чем отличиться в толпе соперников, большая часть которых была выше его чинами? В то время, когда он думал об этом, сама императрица вывела его из затруднения, случайно сказав в избранном обществе, что почти все великие люди, которых знает история, имели свои странности, свои особенные привычки и даже недостатки, от которых ни время, ни старания, ни сама слава не могли освободить их. «Да это и не нужно, — прибавила Екатерина, — человек с сильным характером и глубоко погруженный в свои планы, конечно, не будет сильно заботиться о том, чтобы исправить какие-нибудь свои недостатки, совсем даже не важные и некоторым образом отличающие его от толпы».
Итак, слыша, с какой снисходительностью императрица извиняла легкие недостатки людей, способных на великие дела, он осмелился без страха использовать единственное средство, которым мог выделиться среди толпы и обратить на себя внимание царицы. Средство это тем удобнее казалось ему, что оно заключалось в проявлении тех же странностей, с помощью которых он уже удачно воздействовал на умы своих подчиненных, и это было второй, такой же правдоподобной, как и первая, причиной тех необыкновенных поступков Суворова, из-за которых многие называли его чудаком.
После этого отступления, сделанного для того, чтобы читатели имели полное представление о нашем знаменитом полководце, обратимся к описанию его побед, для которых 1787 год был началом его блистательной эпохи.
Турки, объявив войну России, совершили первое нападение из своей Очаковской крепости на наш, лежащий в двух милях от нее, небольшой городок Кинбурн, построенный на косе[468], или остроконечном мысе, Ногайской степи. Кинбурн был бы важным завоеванием для Турок, потому что открывал удобную дорогу к Херсону и в Крым; но, к нашему счастью, в это время в Кинбурн прибыл для осмотра войск Суворов, и вы можете догадаться, что Туркам оставалось только мечтать об этом завоевании. Вовсе не ожидая здесь своего несчастья, они с большой самонадеянностью выступили из Очакова с отборным войском в количестве 6000 человек, которому было приказано Очаковским пашой победить или умереть; поэтому все суда, высадившие их на Кинбурнский берег, должны были отъехать назад к Очакову. В то время, когда в Кинбурне увидели, что Турки подъезжают к косе и некоторые суда уже высаживают войска, Суворов спал после своего раннего обеда. Адъютант, пришедший доложить об этом, разбудил его. Храбрый генерал на сей раз не вскочил с обычной своей поспешностью, но спокойно оставаясь в постели, сказал: «Не мешайте им, пусть все вылезут».
В самом деле, Русские ни одним выстрелом не показали, что заметили высадку, и Турецкое войско, радуясь, что застанет врасплох малочисленный Кинбурнский гарнизон, состоявший едва из 3000 человек, вскоре было все на песчаном мысе. Но того только и ждал Суворов: его приказания уже были отданы, и Русские полки вихрем понеслись на неприятеля, который из осаждающего вдруг сам сделался осажденным. Девять часов продолжалось жестокое сражение, потому что Турки были в отчаянии: их ожидала верная смерть либо под штыками Русских, либо в море. Так и случилось, и из 6000 лучших воинов в Очаков вернулись лишь 700. Эта блистательная победа, одержанная Суворовым над неприятелем, вдвое превосходившим его по численности, имела важные последствия. Турки потеряли надежду овладеть Херсонесом и Крымом, потому что Суворов укрепился в Кинбурне и, построив на конце косы батарею, наносил большой вред всем Турецким кораблям, пытавшимся проходить в лиман[469], и тем оказывал большую помощь нашему флоту. Он сторожил таким образом Турок около года, и его имя уже стало страшным и в Константинополе, особенно когда в августе 1788 года Потемкин начал осаду Очакова, а Суворов был один из его ревностных помощников.
Эта осада знаменита в военной истории. Очаков был важным городом и для Турок, и для Потемкина: первые видели в нем единственную оставшуюся возможность для соединения с Татарами — всегдашними верными их союзниками; последний по той же самой причине без завоевания Очакова считал все новые владения России на юге непрочными. Итак, обе стороны сражались с отчаянным мужеством; необычно холодная зима, какой жители того края никогда раньше не видели, усиливала бедствия войны, но не поколебала храбрости Русских, и, наконец, после четырех месяцев осады, 6 декабря, Очаков пал перед ними. Суворов, к величайшему своему сожалению, не принимал участия в этой славной победе, так как за несколько недель перед этим он получил тяжелую рану, которая едва было не лишила Россию одного из ее знаменитейших сынов. Лежа больной в Кинбурне, он слышал страшную пальбу приступа, и доктора, окружавшие его, едва могли успокоить сильное волнение его пылкой крови: он то огорчался из-за своей беды, то слишком сильно радовался новой славе беспредельно любимого Отечества.
Со взятием Очакова военные действия приостановились, как и бывает всегда на протяжении зимы. В это время знаменитые победители Турок — князь Потемкин и выздоровевший от ран Суворов — были призваны государыней в Петербург, где Суворов получил бриллиантовое перо на каску, с литерой[470] К, то есть Кинбурн. Кроме того, незадолго перед тем он получил орден святого Андрея Первозванного. Но чем больше награждала его благодарная царица, тем больше старался он показать ей свое усердие, и, как только наступила весна, отправился в армию. На этот раз ему было назначено помогать Австрийскому генералу, принцу Саксен-Кобургскому. Надо сказать, что Австрийцы в то время были вернейшими союзниками Русских, и с первым известием о войне, объявленной Турками, император Иосиф II написал Екатерине следующее: «Получив известие, что один из слуг ваших в Константинополе посажен в Семибашенный замок, я, другой слуга Ваш, посылаю против мусульман в поход мои войска».
Но Австрийцев всегда упрекали в холодности характера и чрезвычайной медлительности в поступках. Сколько раз проигрывали они сражения только потому, что на их военном совете не было принято своевременных решений. Сколько раз их генералы ждали по целым неделям этих решений, и оттого теряли и время, и случай к победе! Турки пользовались такой выгодной для них нерешительностью и, нападая быстро на Австрийцев, всегда уверены были в победе: часто случалось даже, что они мстили им за то, что сами терпели от Русских.
Так было и в 1789 году. Многое потеряв в недавней борьбе с Россией, Турки решили направить свое внимание на Австрию и обратили на нее все свои главные силы. Подготовка к военным действиям шла у них тем живее, что на Константинопольском престоле с апреля 1789 года был новый султан — молодой и пылкий Селим III. По его приказанию 50-тысячный корпус пошел на принца Кобургского, стоявшего в Валахии в окрестностях местечка Фокшаны. Под командованием принца было только 18 000 человек. Узнав о неожиданной опасности, угрожавшей ему, и никак не надеясь получить быструю помощь от Австрийцев, он послал просить о ней Суворова, корпус которого расположен был в 84 верстах от Фокшан. В тридцать шесть часов эти 84 версты были пройдены Суворовым с семитысячным отборным отрядом его войска. Такая скорость перехода была неслыханна в истории новейших войн, и принц Кобургский едва поверил своим глазам, увидев перед собой Русских в ту самую минуту, когда только их приход мог спасти его от величайшей опасности. Здесь в первый раз узнали друг друга два славных полководца, и это знакомство состоялось при таких любопытных обстоятельствах, что рассказом о них я думаю угодить моим читателям.
Как только Суворов дошел до лагеря принца, тот и из-за беспокойства, в которое повергло его постоянное ожидание нападения Турок, и из-за нетерпения увидеть знаменитого Русского героя сразу поспешил в его палатку. Люди Суворова отвечали, что генерал молится и что в это время никто не смеет входить к нему с докладом. Огорченный принц удалился и через некоторое время появился во второй раз. Суворов ужинал и также не мог принять его. Между тем вдали уже показались легкие отряды Турецких войск. Принц, доведенный до крайности, попытался в третий раз увидеть Суворова, но ему сказали, что он спит. Наконец, в 11 часов вечера Австрийский генерал, не повидавшись с Русским, не сказав ни слова ни о своем и неприятельском положении, ни о каких-либо своих распоряжениях, получил от Русского полководца приказ начинать сражение. Этот приказ, написанный Суворовым по-французски, очень удивил всех военных людей того времени: его перечитывали и переводили на разные языки.
«Так как войско уже довольно отдохнуло (т. е. с 5 часов вечера, когда оно достигло Австрийского лагеря), то оно двинется с места в два часа утра. Оно пойдет тремя колоннами. Императорские войска будут составлять правое и левое крыло, я буду в середине. Мы нападем всеми силами на неприятельские посты, не теряя времени на то, чтобы выгнать его из кустарников и леса, находящихся с правой стороны, с рассветом придем к Птуне и перейдем ее для продолжения нападения. Говорят, что здесь только пятьдесят тысяч Турок и что пятьдесят тысяч других еще остались на несколько маршей позади. Лучше было бы, если бы они были уже вместе: в один день побили бы их, и — дело кончено. Но если уже случилось не так, то начнем с этих, и храбростью войск и милостью Божией победим их».
Принц Кобургский в точности исполнил полученные предписания, несмотря на то, что был старшим генералом и по праву должен был бы быть главным командующим соединенного войска. Но он не раскаивался в своей уступчивости: предположения Суворова сбылись, и 25 000 Австрийцев и Русских разбили 50 000 Турок. Эта славная победа положила начало той дружбе, которая впоследствии всегда соединяла обоих полководцев. Действуя во всем в полном согласии, они через два месяца после Фокшанской победы одержали другую, еще более знаменитую победу, на берегах реки Рымник. Здесь те же 25 000 воинов разбили 100-тысячную Турецкую армию под командованием самого великого визиря. Имя Суворова было первым и здесь, как и при Фокшанах, и награды одна за другой посылались ему от обоих императорских дворов.
Необыкновенная щедрость, сопровождавшая всегда дары Екатерины, была и на этот раз не менее удивительна: Суворов получил от нее бриллиантовые знаки ордена святого Андрея Первозванного и бриллиантовую шпагу с лавровым венком и надписью: победителю визиря. Обе вещи стоили 60 000 рублей.
Но этим еще не ограничились милости императрицы в отношении знаменитого полководца: спустя некоторое время он получил графское достоинство с именем Рымникского и орден святого великомученика Георгия 1-го класса. Император Иосиф пожаловал ему также графское достоинство Римской империи. Суворов очень восхищался этими милостями. Он любил чины и почести, когда они были в полной мере заслужены. Любопытно его письмо к дочери, которая воспитывалась в это время в Смольном монастыре. Я уверена, что оно настолько же понравится моим читателям, насколько, вероятно, понравился им приказ, отданный принцу Кобургскому.
«В октябре 1789 года.
Графиня двух империй! Любезная Наташа Суворочка! Айда! Надобно тебе всегда только благочестие, благонравие, добродетель. Скажи Софье Ивановне и сестрицам — у меня горячка в мозгу; да кто и выдержит! Слышала ли, сестрица, душа моя? Еще от моей великодушной матушки рескрипт[471] на полулисте, будто Александру Македонскому: знаки святого Андрея тысяч в пятьдесят, да выше всего, голубушка, первый класс святого Георгия. Вот каков твой папенька, за доброе сердце, чуть право от радости не умер! Божие благословение с тобой.
Отец твой граф Александр Васильевич Суворов-Рымникский».
Новый граф, наполненный невыразимой благодарностью, желал изъявить ее государыне новыми чудесами храбрости, но, к сожалению, его война с Турками в 1790 году приняла другой оборот: Австрийский император Иосиф II скончался, а его брат и наследник, Леопольд II, не любя войны от природы, должен был избегать ее в это время и по другим разным причинам, важным для его государства. Итак, в Австрии начали стремиться к миру с Турками, а Суворов был послан на помощь к Австрийцам. Скучая от бездействия, наконец, осенью 1790 года он был обрадован важным поручением Потемкина: взять неприступную крепость Измаил, построенную в устье Дуная и справедливо называвшуюся ключом ко входу в Турецкую империю. Уже более семи месяцев Измаил осаждался Русскими войсками, и продолжительные неудачи этой осады принудили, наконец, Потемкина поручить ее тому, кто никогда не знал неудач. Трудным было это поручение: Измаильская крепость имела все, чтобы заслужить название неприступной: и сильные укрепления, и многочисленный гарнизон, увеличенный войсками, выведенными из городов и крепостей, покоренных Русскими и Австрийцами, и бесчисленные запасы всего необходимого для военных действий. Кроме того, Измаил, по общему мнению Турок, был последним оплотом их государства, и грозным повелением султана каждому из правоверных было приказано не сдаваться ни в коем случае.
Все это было страшно, но не для Суворова. Придя к Измаилу, он на следующий же день послал к тамошнему паше требование сдать крепость. Паша гордо отвечал, что скорее воды Дуная остановятся в своем течении и небо падет на землю, чем Измаил сдастся Русским. Граф, видя такую непреклонность, подготовил свое войско к самому упорному сопротивлению со стороны Турок: воспламенил сердца воинов представлением славы и выгод, которые ожидают победителей в богатом Измаиле; напомнил им все их прежние победы, и, когда они уже горели нетерпением сразиться и победить, искусный полководец повел их на приступ в 5 часов утра 11 декабря 1790 года. Ничто не могло сравниться с ужасом этого приступа: пылкая неустрашимость Русских была в этот день беспримерна, но и сопротивление Турок было отчаянным, и только после восьми часов жесточайшей битвы Русские одержали чудесную победу, и гордый Измаил покорился Суворову. Тотчас он с восторгом отправил два донесения: в первом, к императрице, он писал: «Измаил у ног ваших», а во втором, к князю Потемкину: «Русский флаг на стенах Измаильских».
Но теперь, когда эта новая победа нашего героя, наведя ужас до самого Константинополя, гарантировала безопасность наших южных областей, посмотрим на север страны, давно оставленный нами: там происходят события, неожиданные для нас.
[460] Улисс (Одиссей) — в греческой мифологии царь острова Итака, один из героев Троянской войны, прославившийся своим умом, хитростью, изворотливостью и отвагой.
[461] Ахилл (Ахиллес) — в греческой мифологии один из храбрейших героев Троянской войны, сын героя Пелея и богини Фетиды. Желая сделать сына бессмертным, богиня Фетида опустила его в священные воды Стикса; лишь пятка, за которую она его держала, не коснулась воды и осталась уязвимой. Ахилл погиб от стрелы Париса, поразившей его в пятку. Отсюда выражение «ахиллесова пята» — уязвимое место.
[462] Ганнибал (247 ИЛИ 246–183 ГОДЫ до н. э.) — знаменитый Карфагенский полководец. В ходе второй Пунической войны он одержал целый ряд побед, но в 202 году до н. э. был разбит римлянами.
[463] Цезаръ Гай Юлий (около 102-44 год до н. э.) — римский полководец и государственный деятель, первый император, основатель династии Юлиев. Был консулом, затем наместником Галлии. В 49 году до н. э., опираясь на преданную ему армию, Цезарь начал борьбу за власть в Римской республике. Разгромив своего главного политического противника Гнея Помпея, он сосредоточил в своих руках все важнейшие республиканские должности (диктатора, консула и другие) и получил от Сената титул «императора». Цезарь был убит заговорщиками-республиканцами.
[464] Авангард — часть войск, находящаяся впереди главных сил при движении в сторону противника.
[465] Конфедераты — польские повстанцы, как правило дворяне-шляхтичи, выступающие с оружием в руках на защиту своих прав.
[466] Орден святой Анны был учрежден в качестве российской государственной награды Павлом I в 1742 году. До этого он был шлезвиг-голштинским знаком отличия, учрежденным герцогом Карлом-Фридрихом в 1735 году в память своей супруги Анны Петровны, дочери Петра I. Девизом ордена были слова: «Любящим правду, благочестие и верность». С 1742 года этим орденом награждали российских государей. Орден имел три степени, а с 1815 года — четыре степени. Орден первой степени был со звездой. Орденская лента имела красный цвет с желтой каймой по краям.
[467] Чан — большая деревянная или металлическая бочка.
[468] Коса — идущая от берега узкая полоса земли, отмель.
[469] Лиман (греч. гавань, бухта) — залив с извилистыми, невысокими берегами, образующийся при затоплении морем долины равнинных рек.
[470] Литера (лат.) — буква.
[471] Рескрипт — императорский приказ (повеление) министру или другому должностному лицу.
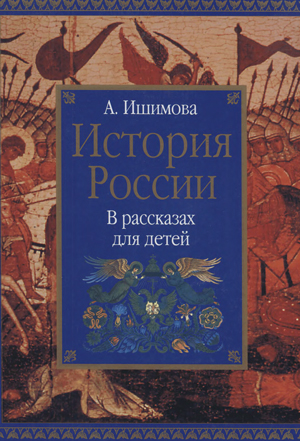
Комментировать