Содержание
Вступление Обзор источников 1. Понятие антиномии в философии и богословии 1.1. Определение антиномии 1.2. Философские подходы к пониманию антиномии 1.3. Разграничение антиномии и смежных понятий 1.4. Антиномия и парадокс 1.5. Генезис понятия антиномии Выводы 2. Антиномия как философско-богословский метод теодицеи священника Павла Флоренского (По книге «Столп и утверждение истины») 2.1. Лекция «Космологические антиномии Иммануила Канта» как введение в проблематику книги «Столп и утверждение Истины» 2.2. Идея дихотомии как основа антиномичности 2.3. Антиномичность истины 2.4. Антиномичность идеи единосущия 2.5. Антиномичность любви 2.6. Антиномия познания Святого Духа 2.7. Антиномичность догмата Таблица антиномий в письме шестом «Противоречие» 2.8. Антиномичность греха 2.9. Антиномия геенны 2.10. Антиномия твари 2.11. Антиномия Софии 2.12. Антиномия агапической и филической любви 2.13. Антиномия ревности 2.14. Математическая логика на службе у богословия (в Разъяснении к «Столпу и утверждению Истины») Выводы 3. Антиномия как философско-богословский метод антроподицеи священника Павла Флоренского 3.1. Антиномия объекта и субъекта познания (согласно лекциям П. А. Флоренского по истории мировоззрений) 3.2. Антиномии в философском осмыслении культа священником Павлом Флоренским 3.3. Антиномии «конкретной метафизики» священника Павла Флоренского Выводы 4. Автобиографические произведния и письма священника Павла Флоренского как источник исследования антиномического метода «Моя антиномия» 4.1. Феномен рода в психологическом осмыслении антиномизма 4.2. Амбивалентность и антиномия как характеристики личности 4.3. Преодоление закона постоянства как предпосылка антиномизма Заключение Список источников и литературы Патристические и литургические источники Иные источники Исследования Исследования на иностранных языках Список сокращений
Вступление
Диссертация на тему «Антиномия как философско-богословский метод священника Павла Флоренского» готовилась мною на протяжении четырёх лет во время учёбы в аспирантуре Московской духовной академии. Первые два года научным руководителем этого исследования был игумен Андроник (Трубачёв), после его смерти (5 апреля 2021 г.) работа велась под руководством П.К. Доброцветова. Работа прошла соответствующую для кандидатских диссертаций научную апробацию.
Исследование велось мною по двум основным направлениям: 1) изучение творчества о. Павла Флоренского на предмет его антиномизма и 2) выяснение понятия антиномии в философии, логике и богословии. Упор в работе делается на последнем, богословском, осмыслении антиномии. Намечая написание диссертации, я планировал посвятить её наследию о. Павла Флоренского и искал в его творчестве какой-нибудь специальный вопрос, достойный для темы кандидатской работы. То есть изначально меня интересовал Флоренский, а не антиномия. Интуитивный подход оказался оправданным. Для о. Павла Флоренского антиномия, действительно, является центральным понятием. Оно открывает новые углы зрения на творчество русского мыслителя. Также оказалось, что это понятие используют многие богословы, и в первую очередь русские богословы – используют, но почти не раскрывая учения об антиномии, предполагая его уже известным. А известным учение о богословской антиномии становится благодаря книге «Столп и утверждение Истины».
Разобраться с этим понятием для богословия, безусловно, важно уже хотя бы потому, что термин «антиномия» вошёл в святоотеческий лексикон. Он встречается в собрании творений преп. Иустина (Пόповича)1, а также в его работах «Философские пропасти» и «Достоевский о Европе и славянстве», в общей сложности в данных русских переводах слово «антиномия» употреблено им 18 раз. Об антиномии говорит в своих работах архим. Софроний (Сахаров), канонизированный Константинопольским патриархатом в 2019 г. Особую ценность представляет переписка отца Софрония с прот. Георгием Флоровским, где последний заявляет, что антиномичность догматов бесспорна, а также то, что в русском богословии антиномизм впервые анонсировал о. П. Флоренский2. Термин «антиномия» присутствует в работах свщмч. Илариона (Троицкого)3, свщмч. Сергия (Мечёва)4, мч. Михаила (Новосёлова)5.
В диссертации я указываю, что в работах по богословию понятие антиномии используют: митрополиты Антоний (Блум), Амфилохий (Радович), Каллист (Уэр), Иларион (Алфеев), Иоанн (Зизиулас), архиеп. Василий (Кривошеин), епископ Кассиан (Безобразов), кардиналы Анри де Любак и Томаш Шпидлик, архим. Киприан (Керн), протоиереи Сергий Булгаков, Василий Зеньковский, Георгий Флоровский, Александр Шмеман, Иоанн Мейендорф, Борис Бобринский; профессора А.В. Карташев, С.Л. Франк, В.Н. Лосский, П.Н. Евдокимов, Г.У. Бальтазар, О.-М. Клеман, Я. Пеликан, Ж.-К. Ларше; профессора МДА М.М. Тареев, С.М. Зарин, А.И. Сидоров, М.С. Иванов, прот. Владислав Цыпин, протодиакон Андрей Кураев, А.Р. Фокин; А.Л. Дворкин; протоиереи Олег Давыденков и Геннадий Фаст, иеромон. Мефодий (Зинковский), священники Александр Тимофеев, Павел Сержантов и Сергий Фуфаев, О.Б. Давыдов и другие. Уверен, что здесь можно проследить связи с о. П. Флоренским, где-то непосредственно, как в случае с о. Сергием Булгаковым, где-то опосредованно через Свято-Сергиевский институт в Париже или МДА в Сергиевом Посаде, где-то, как в случае с сербскими богословами, через преп. Иустина (Поповича), знакомого с книгой Флоренского. В диссертации я прихожу к выводу, что о. Павел был первопроходцем в вопросе богословской антиномии.
Именно «религиозный материал», примеры из Священного Писания, из христианского вероучения, убедили о. Павла в истинности его открытия. Из области философии религии он переносит эту методологию и в осмысление всей культуры. Антиномия для него – метод нахождения равновесия между полярными явлениями. Это довольно широкое понимание антиномии, но характерное для о. Павла. В своей работе я стараюсь придерживаться более узкого подхода (хотелось бы видеть этот подход строгим и научным): антиномия есть противоречие между двумя истинами или тождество противоречия.
Здесь заключается основная философская проблема антиномизма, нарушающего второй закон классической логики (или, как называет её И. Кант, формальной логики), согласно которому в противоречии между двумя суждениями одно будет истинным, а другое ложным. Этот закон является основным критерием для установления логической истины, именно – её непротиворечивость. Антиномизм лишает этот критерий его безусловности, что влечёт за собой ряд проблем для теории аргументации. Для богословия же антиномизм, устраняющий безусловность логического критерия истины, лишает логику абсолютности и ставит её в подчинение вере.
Для И. Канта, внёсшего понятие антиномии в философию, оно выполняет функцию познавательной границы: если разум пересекает эту границу, он впадает в противоречие. Так, если мы рассматриваем мир как целое, т.е. подходим к его изучению с метафизических позиций, а не с эмпирических, то мы сталкиваемся, согласно Канту, с противоречиями: мир оказывается перед нами конечным и бесконечным, делимым и неделимым одновременно. Антиномия служит у этого философа подтверждением безуспешности метафизики, представленной рациональной космологией (Кант подробно рассматривает только «космологические» антиномии).
У Флоренского, напротив, реальность осмысляется как антиномия. Противоречие у него также играет роль границы, но только для рационального постижения. На уровне верующего разума противоречие устраняется. И бесконечность мира, т.е. то, что не может быть уменьшено вычетом конечной части6, для верующего разума мыслится как актуальная бесконечность. Верующему разуму бесконечный мир дан целым и конечным как творение Божие. Более того, Сам Бог дан человеку. Бесконечный и непостижимый Бог открывается человеку как Святая Троица. Бесконечный и всемогущий Бог становится человеком, ограниченным в своём могуществе и вéдении. Бесконечный Бог и ограниченный человек явлены нам в одной личности Богочеловека Иисуса Христа. И сам человек-христианин, земной и грешный, призывается в единство с Богом, принимает в себя Его Тело и Кровь, вмещает в себе Святого Духа.
Эти христианские истины, так часто произносимые в Церкви, от этой частоты утрачивают своё ошеломляющее действие. Ошеломлять, от слова «шлем», указывает на голову человека, его сознание, и означает остановку работы рассудка, т.е. речь идёт о том же ограничении рационального познания. Христианские истины веры потому и являются истинами веры, что не исчерпываются одним лишь разумом, не являются земными и человеческим, но Божиими.
Чудо на языке логики есть противоречие: человек не может ходить по воде и человек ходит по воде; человек не может молиться, оторвавшись от земли, и человек молится, оторвавшись от земли, как знаем, например, из жития преп. Марии Египетской.
Наверное, это и есть главная функция антиномии в богословских работах отца Павла Флоренского – защита веры. Во-первых, вера должна просто быть. Веру не должны подменить рассуждения, доказательства, рациональные убеждения. Вера – это духовный подвиг, который требует особых жертв: чистоты души, чистоты жизни, искания правды, любви к истине. Во-вторых, вера – это чудо. Да и вся жизнь – это чудо, это тайна, это неисчерпаемость для открытий и озарений, потому что за ними стоит Бог, потому что вся жизнь божественна (и по своему Источнику, и по присутствию в ней Бога). Вера – это действие Бога, Сам Бог, пожелавший открыться человеку, вышедший навстречу человеку. В-третьих, вера есть достояние ума человека, вера осмысляется, вера разумна, вера рациональна. И здесь антиномия даёт очень простой инструмент в понимании и сохранении вероучительных истин. Антиномия представляет положения нашей догматики в виде тезиса и антитезиса, которые нужно утверждать одновременно. Бог одновременно Троица и Едѝница. Христос одновременно Бог и человек. Бог одновременно прост и неделим, но в Нём различаются сущность и энергии. Церковь одновременно – в мире сем и не от мира сего. Так же антиномично соединяется тварное и нетварное – в святых людях и в освящённой материи.
Итак, с одной стороны, антиномия есть противоречие, а потому она невозможна для разумного постижения (невозможное разума), ведь противоречие означает взаимоисключение (или то, или другое); если два суждения или две вещи как-то уживаются вместе, то они не являются противоречием. Противоречия во внементальной реальности нет – по определению противоречия. Кентавр, человеко-конь, не являет собой противоречия для разума, который способен представить себе эту, пусть и невероятную, конструкцию. Но такую логическую конструкцию как «кентавр существует и кентавр не существует», взятую в одном отношении и в одно и то же время, разум не вмещает.
С другой стороны, антиномия есть противоречие двух истин. Допущение такого явления побуждает к твёрдому стоянию как на одной, так и на другой истине. Это не поиск золотой середины, не переход от одного к другому, не дополнение одного другим, но неуклонное утверждение обоих истин: Христос есть истинный Бог и истинный человек.
В качестве наукометрической формальности поместим обзор источников по нашей теме, а за ним – обзор исследований и описание структуры работы, в том виде, в каком они представлены в диссертации.
Обзор источников
Работы П. А. Флоренского как источник учения об антиномии
В 1909 г. П. А. Флоренский издаёт брошюру «Космологические антиномии Иммануила Канта», основу которой составила прочитанная им 14 сентября 1908 г. по предложению Совета МДА пробная лекция pro venia legendi (спустя неделю ему было присвоено звание и. о. доцента МДА по кафедре истории философии). В данной лекции Флоренский предлагает обзор трансцендентальной диалектики Канта с критикой его антиномий:
1) о величине мира:
– у мира существуют начало во времени и границы в пространстве;
– у мира не существует начала во времени и он бесконечен в пространстве;
2) о содержании мира:
– всякая сложная субстанция состоит из простых частей;
– в мире нет ничего простого;
3) о порядке мира:
– существует свобода;
– всё имеет свои причины;
4) о Боге:
– к миру принадлежит безусловно необходимое Существо;
– не существует никакого абсолютно необходимого Существа.
В лекции П. А. Флоренский, как указывает А.Т. Казарян, решает три задачи: 1) научно-педагогическую (знакомит с учением Канта); 2) научную (представляет критику кантовской системы аргументов); 3) пропедевтическую (подготавливает к собственному учению об антиномиях)7.
Наиболее содержательно третья задача представлена в прибавлении к лекции «Экскурс об антиномической структуре разума». Дилеммы конечного и бесконечного, статики и динамики когнитивной деятельности найдут своё выражение в книге «Столп и утверждение Истины», там им будут соответствовать закон тождества и закон достаточного основания.
В 1913 г. в «Богословском вестнике» (No 1) выходит статья священника Павла Флоренского «Пределы гносеологии. Основная антиномия теории знания», в основе которой также лежал лекционный курс 1908 г. «Введение в историю античной философии». В данной статье отец Павел исходит из первоначальной двойственности познавательной деятельности, обусловленной наличием объекта и субъекта познания. В зависимости от того, что выбирается отправной точкой, объект или субъект, направления этой деятельности разделяются автором на два вида.
Первое направление опирается на объективный момент знания: ряд преобразований над объектом познания приводит к тому, что понятие об этом объекте обогащается новыми признаками, а носитель этого знания, субъект, выходит на новый уровень. Субъект познания оказывается дедуцированным (выведенным) из объекта.
Второй теоретико-познавательный путь исходит из субъективного момента знания. Преобразования совершаются с субъектом (с его представлениями об объекте), и новыми признаками обогащается также субъект, который приравнивается к объекту познания, т. е. объект дедуцируется из субъекта.
Предметным полем для обоих направлений мысли является одна лишь «человеческая данность»8, сами же направления оказываются параллельными линиями, ограничивающими познание этой данности и исключающими возможность Откровения. Внутри очерченной области оба направления имеют равные познавательные возможности, что составляет, согласно автору, основную антиномию теории познания.
Основные вопросы, связанные с выяснением понятия антиномии и оригинальной концепции антиномизма Флоренского, представлены в книге «Столп и утверждение Истины. Опыт православной теодицеи в двенадцати письмах священника Павла Флоренского» (Москва, издательство «Путь», 1914. – 814 с.), которая была издана в ноябре 1913 г.9 Основу данного труда составило кандидатское сочинение Флоренского «О религиозной Истине» (1908 г.). Сокращённый вариант «Столпа», изданный ограниченным тиражом под названием «О духовной истине. Опыт православной феодицеи»10, был защищён им в качестве магистерской диссертации 19 мая 1914 г. Тот факт, что на защиту был представлен сокращённый текст книги, подчёркивал его рецензент епископ Феодор (Поздеевский)11 (фактически ставший научным руководителем работы после смерти проф. А. И. Введенского 23 февраля 1913 г.12), также на это указывал архим. Никанор (Кудрявцев)13, а позднее – прот. Георгий Флоровский14. Глава «Противоречие», в которой изложены основные взгляды автора на антиномию, присутствует во всех четырёх редакциях книги. Также тема антиномии прослеживается и на всех трёх уровнях «Столпа», включающих 33 раздела: 1) «К читателю», двенадцать писем-глав, «Послесловие»; 2) «Разъяснение и доказательство некоторых частностей, в тексте предполагавшихся уже доказанными»; 3) «Примечания и мелкие заметки».
Во вступительном слове на защите магистерской диссертации отец Павел раскрывает своё вѝдение теодицеи. Флоренский говорит о двух путях спасения: путь, когда «мы разумом своим испытываем Бога, и находим, что воистину Он – Бог»15 представляет собой путь оправдания Бога, теодицею; путь, когда мы испытываем себя и обретаем себя недостойными Бога, но нуждающимися в Нём – путь оправдания человека, антроподицея. Теодицея и антроподицея, таким образом, являются путями восхождения человека к Богу и соответственно нисхождения Бога к человеку.
В этом же слове Флоренский затрагивает вопрос о спасении в теоретической сфере, где оно мыслится как устойчивость ума, познавшего Истину (здесь опять обнаруживается полемика с И. Кантом: не разум делает Истину истинной, а Истина спасает разум). Противоположное состояние «болезненности» разума передаётся всё же в кантовском восприятии природы антиномизма: «Разлагаясь в антиномиях и мёртвый в своём рассудочном бытии, разум ищет начала жизни и крепости»16. Вместе с тем в самой книге «Столп и утверждение Истины» кантовский подход переработан собственной концепцией Флоренского. Завершается вступительное слово обозначением смысла христианской философии как указующей на Христа и на жизнь во Христе17.
Предисловие книги также озвучивает тему обретения разумом покоя – в условиях его воцерковления. А самим письмам в этом контексте придаётся значение «огласительных слов во дворе церковном»18.
Письмо первое «Два мира» раскрывает сюжет книги: мятущийся и раздробленный мир нуждается в воссоединении с миром Небесным. Опору для соединения с горним миром даёт Церковь, столп и утверждение Истины (1Тим. 3:15). Путь к этому Столпу выясняется в последующих главах.
Письмо второе «Сомнение» представляет собой, по словам отца Андроника (Трубачёва), символико-математический миф19, некую драматургию (δρᾶμα – действие) разума на пути следования к Истине через предельный скепсис, разочарование в своей всесильности и принятие антиномического противоречия «интуиции-дискурсии». В итоге перед верующим разумом Истина открывается троичным догматом: Бог есть Святая Троица.
Письмо третье «Триединство» исследует понятие единосущия, ставшего центральным для философии Флоренского.
Письмо четвёртое «Свет Истины» объясняет, что представляет собой данное понятие применительно к познавательной деятельности. Общение с Истиною, приобщение Истине, требует пресуществления человека, т. е. его обόжения, с которым связано учение о Божественном свете. Данную онтологическую гносеологию Флоренский распространяет на всю познавательную деятельность.
Письмо пятое «Утешитель» говорит о Том, Кто открывает Свет Истины: Дух Истины открывает Свет Истины и одновременно скрыт в этом Свете. Только практическая жизнь в Церкви даёт вéдение таинственной Ипостаси Святого Духа.
Письмо шестое «Противоречие» открывается утверждением, что Святой Дух провозвещает твари Истину, в духовном свете Истина и Провозвещающий Её совпадают, но в усвоении Истины тварью знание Истины становится знанием об Истине, т. е. истиною в антиномической форме.
Письмо седьмое «Грех» говорит о двух путях: путь к Истине и путь от Неё; путь целомудрия, самособранности, крепости души и путь разлада, растления, потерянности. Причём грех существует только за счёт жизни, не имея собственной сущности, отсюда выводится саморазрушительная природа греха и его обречённость к уничтожению.
Письмо восьмое «Геенна» также утверждает о будущем исчезновении греха, но обнаруживает проблему повреждённости грехом человеческой души. Решается данная проблема с помощью антиномического подхода, а именно совместным постулированием возможности и невозможности вечных мук.
Письмо девятое «Тварь» после решения вопроса о грехе и участи грешника обращается к самой возможности существования тварного бытия, т.е. поставлении Богом рядом с Собою самостоятельного и свободного бытия. Самостоятельность твари и обеспечивает её подлинную реальность и нравственную ответственность.
Письмо десятое «София» отстаивает идею о том, что несмотря на самостоятельность творения оно всё же является Божиим творением. Принципом отнесённости твари к своему Творцу и выступает софиология Флоренского.
Письмо одиннадцатое «Дружба» посвящено началу бытия, в котором сходятся все заповеди, – закону любви. Основной постулат данной главы: чтобы любить всех (агапической, братской любовью), нужно сначала научиться любить одного (филической, дружеской любовью). Дружба, выводящая из субъективности замкнутого Я и выявляющая духовно-душевные слабости, также представляет собой суд до Страшного суда.
Письмо двенадцатое «Ревность» открывает церковный взгляд на другую сторону любви, оберегающую её силу. Если любовь – сила расточающая, то ревность – сила сохраняющая и оформляющая.
Этот же момент находит отражение в заключительных строках «Послесловия»: самоотречение ради любви к Истине совершается как действие Самого Бога внутри нас, «Сама Триединая Истина делает за нас невозможное для нас»20.
Развитие понятия антиномии прослеживается в цикле лекций «Философия культа (Опыт православной антроподицеи)» (1918–1922 гг.). Термин антроподицея объяснялся в предыдущих работах, анонсировавших появление данного цикла размышлений, и означал присутствие Божественной благодати в жизни человека. Через Бога человек приходит к своему истинным состоянию: истинный человек – это человек Божий, оправдание (δίκη – справедливость, δίκαιο – право, правда) здесь равносильно обόжению. Открыв для себя Церковь, вместе с Её вероучением он усваивает и практический опыт освящения своей жизни. Таким образом, данный сборник лекционного материала оказывается произведением философским, апологетическим и богословским (главным образом, в сфере литургики).
Основная часть современного издания «Философии культа», названная «Чтениями о культе», сформирована девятью лекциями, за исключением дополнений «Антроподицея. Наброски и материалы». Каждая из лекций обращается к учению об антиномии.
В большом объёме тема антиномий представлена в работе «У водоразделов мысли (Черты конкретной метафизики)» (1917–1926 гг.) и даёт основания говорить о её развитии. Как и «Философия культа», данный труд не был полностью опубликован при жизни автора, современная реконструкция представлена также в виде девяти глав, в основе которых лежит лекционный курс 1917 г. «Из истории философской терминологии», и является продолжением антроподицеи проф. МДА о. П. Флоренского. Здесь же находится наиболее подробное изложение учения о символе, который представляет собой антиномию части и целого, условного и безусловного, человеческого и сверхчеловеческого. «У водоразделов мысли» содержат два направления этого учения: зрительные символы и словесные символы. Исследование первых найдёт своё продолжение в таких работах, как «Иконостас» (1919–1922 гг.), «Анализ пространственности и времени в художественно-изобразительных произведениях» (1924–1925 гг.); исследование вторых – в «Именах» и цикле статей и выступлений в защиту имени Божия. В книге «У водоразделов мысли» с точки зрения антиномизма наиболее значительна глава «Антиномии языка». Она открывается рассуждениями о разных устремлениях научной и философской мысли: «Неизменности и окончательности противостоит пульсирование и рост»21, прагматичности науки противостоит созерцательность философии, систематичности – диалектичность. Однако эти устремления неявны и обнаруживаются эти уклоны не в истории науки и философии, а в их логических пределах, кроющихся в статическом и динамическом началах языка: в антиномии его вещности и деятельности, ἔργον и ἐνέργεια22. Поочерёдное исследование её тезиса и антитезиса составляют в этой главе предмет дальнейшего рассмотрения. Учение о языке, изложенное Флоренским в работе «У водоразделов мысли», лежит в основе его опытов ономатологии и имяславческой апологии. Последняя в данном сборнике представлена главой «Имеславие как философская предпосылка».
Несмотря на то, что к учению об антиномии Флоренский обращается не ранее 1906 г., о чём он и сам свидетельствует23, предпосылки психологического характера к формированию взгляда на противоречие как на норму бытия и сознания складываются у него с самых ранних пробуждений философской мысли. Воспоминания «Детям моим», переписка отца Павла и его автобиография характеризуют антиномию с персоналистических позиций: раскрывают личностный аспект антиномизма (сохранение антиномического равновесия как духовный труд; разрешение антиномии с помощью благодатного опыта) и антиномизм в качестве свойства личности (склонность к антиномическому мышлению). Контрастная образность поэтического творчества П. Флоренского24, начиная с юношеских произведений сборника 1904 г., также говорит в пользу диалектической предпосылки его философии.
Затрагиваются вопросы антиномизма (посредством понятия полярности) в естественно-научных и математических работах П. А. Флоренского, в частности укажем «Мнимости в геометрии» (1922 г.). В ней даётся реконструкция космоса, описанного в «Божественной комедии» Данте Алигьери. Вторым источником, которым пользуется автор, является специальная теория относительности А. Эйнштейна, которую Флоренский «парадоксально разворачивает против себя самой – на восстановление в правах не только идеи о центральном положении Земли в космосе, но и об ограниченности самого космоса»25. Более того, «Мнимости» приходят к обоснованию существования иного мира, физической реальности рая и ада. Критикуемое с самого момента издания и до настоящего времени, пятидесятистраничное издание находит как своих категорических оппонентов, так и защитников, восполняющих работу Флоренского и утверждающих о возможности данной космологической структуры26. В недавно вышедшем переводе «Мнимостей» на английский язык её редакторы, доктора философии, говорят о книге как о эпистемологической парадигме и современном примере платоновской «спекулятивной математики»27.
Церковные источники
Отметим группу источников, которые позволяют применить богословский метод и сопоставить взгляды священника Павла Флоренского с православным вероучением. Основной источник здесь – Священное Писание. Отец Павел приводит целый ряд антиномий, взятых из библейского текста, преимущественно из посланий апостола Павла. Для их оценки мы пользуемся параллельными переводами «Павловы послания», комментированное издание Института перевода Библии 2017 г.
Часто отец Павел апеллирует к творениям свт. Афанасия Александрийского, великих каппадокийцев, блаж. Августина, свт. Иоанна Златоуста, преподобных Макария Великого, Исаака Сирина, Иоанна Дамаскина, Симеона Нового Богослова, прав. Николая Кавáсилы – уточнение контекста нами проводится по оригиналам, дореволюционным и современным переводам. В работах отца Павла встречаются многочисленные ссылки на русских святых, в том числе, Игнатия (Брянчанинова), Феофана Затворника, Иоанна Кронштадтского. Особое внимание мыслитель уделял литургическим текстам. В диссертации привлечены творения свт. Григория Паламы, преподобных Максима Исповедника, Никодима Святогорца, Силуана Афонского с целью соотнести взгляды о. П. Флоренского с мыслью святых отцов.
Иные философские источники
Среди основных философских источников помимо трудов о. П. Флоренского, задействованных в диссертации, укажем «Органон» Аристотеля, «О видении Бога» Николая Кузанского, «Критику чистого разума» И. Канта, «Науку логики» Г. Гегеля, «Свет невечерний» о. С. Булгакова, «Непостижимое» С. Л. Франка.
Появление антиномии в качестве философски разработанного термина связывается историком философии В. Ф. Асмусом с работой И. Канта «Критика чистого разума» (1781 г.), где она занимает центральное место (Отдел второй «Трансцендентальная диалектика»). Антиномии чистого разума представляют собой противоречия между равнодоказуемыми положениями. Примеры таких положений Кант находит в рациональной космологии, означающих, по его мнению, несостоятельность её метафизических оснований. Выход из самопротиворечивости разума Кант видит в трансцендентальном методе, различающем явления и вещи в себе.
Проблема антиномий была обозначена Кантом ещё ранее в диссертации «Физическая монадология» (1756 г.). На русский язык она была переведена студентом П. А. Флоренским и опубликована в «Богословском вестнике» в 1905 г. Следующее её издание было в составе восьмитомного собрания сочинений И. Канта в 1994 г. (том 1).
Иные литературные источники
Первоначально термин «антиномия» известен как юридический. В этом правовом смысле из ранних упоминаний он встречается у Плутарха28, Квинтилиана29, блаж. Августина30, в Кодексе Юстиниана31. Как противоречие закона он используется в так называемом «антиномистском споре» Агриколы, Меланхтона и Лютера (обращает на себя внимание название его двадцатистраничного издания «Против антиномистов»32). Влияние этого спора отразилось в статье «Антиномия» в «Философском словаре» (1613 г.) Р. Гоклениуса33.
В качестве литературного источника по исследованию явления антиномии в диссертации рассматривается произведение Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы».
Состояние исследованности темы
Исследования по теме работы можно условно разделить на две группы: 1) исследования антиномии как таковой и 2) исследования творчества отца Павла Флоренского, в которых поднимается тема антиномии.
1) Исследования феномена антиномии.
Проблема логического феномена антиномии поставлена И. Кантом. За более чем двухвековую историю сложилась масштабная библиографическая база по теме кантовских антиномий (только П. А. Флоренский в 1908 г. приводит 37 наименований работ34).
Обратим внимание на монографию В. Ф. Асмуса «Иммануил Кант» (1973 г.), где обстоятельно рассмотрены вопросы антиномической природы разума и критики динамической и математической антиномий.
Параллельно с философским осмыслением явления антиномизма развивается и лингвистический подход. Здесь следует назвать имя русского учёного А. А. Потебни (1835 – 1891), одного из первых применивших антиномии для описания явлений языка35. Сам Александр Афанасьевич в изложении антиномий указывает на своих предшественников: Вильгельма Гумбольдта и его ученика Хеймана Штейнталя36. П. А. Флоренский состоял в продолжительной переписке с учеником А. А. Потебни А. В. Ветуховым, от которого узнавал подробности жизни его учителя. Имя Потебни встречается, по крайней мере, в 6 письмах Ветухова к Флоренскому37. К учению русского филолога о антиномиях Флоренский непосредственно обращается в работе «У водоразделов мысли».
Творчество Ф.М. Достоевского – ещё одна линия осмысления антиномизма. К этой теме в произведениях русского писателя обращались: преп. Иустин (Попович)38, священники П.А. Флоренский39 и Г.В. Флоровский40, М.М. Бахтин41, Я.Э. Голосовкер42, А.В. Ахутин43.
Статья А.Т. Казаряна «Антиномия» в «Православной энциклопедии» даёт определение антиномии как «противоречия между двумя логически обоснованными положениями»44 и знакомит с обширной историографией данного понятия. Кантовский способ использования противоречий Александр Торгомович связывает давними философскими и богословскими традициями (апории Зенона, ирония Сократа, диалектика «единого и иного» в платонизме и неоплатонизме, парадоксы Тертуллиана, принцип апофатического богословия в «Ареопагитиках» и у преп. Иоанна Дамаскина, учение о «двойственности мышления» преп. Максима Исповедника45, «Да и нет» П. Абеляра, coincidentia oppositorum Николая Кузанского и др.).
Близким к пониманию антиномии А.Т. Казаряном является определение В.Н. Поруса, представленное в «Новой философской энциклопедии», где антиномия есть «контрадикторное противоречие между двумя суждениями, каждое из которых считается в равной степени обоснованным или логически выводимым в рамках некоторой концептуальной системы (научной теории)»46. Характерное указание на рамки той или иной теории, в которых рассматривается антиномия, связано с формулированием автором статьи трёх стратегий разрешения антиномического противоречия (см.: § 1.2. «Философские подходы к пониманию антиномии»).
Примыкающее к традиции русской философии представление об антиномии представлено в терминах математической логики у В.И. Моисеева в книге «Логика всеединства».
Научная теория парадоксальности изложена в исследовании А.М. Анисова «Логика и парадоксы. Проблема двойственности в науке». Отметим, что для данного автора религиозная теодицея является разновидностью логической ошибки47.
Для разграничения антиномии и смежных понятий в диссертации задействована учебная литература. В учебнике логики для высших учебных заведений авторов Войшвилло Е.К., Дягтерева М.Г., Ивина А.А. (для гуманитарных вузов) поясняется отличие антиномии от софизма.
Статьи авторов «Гуманитарной энциклопедии», среди которых Огурцов А.П., Воробьева С.В., Непейвода Н.Н., Бернштейн В.С.; статьи иностранных словарей (авторы: Gaur A., Heitsch W., Kotatko P., Linder R. D.,); статьи научных журналов (авторы: Шкурская Е. А., Stotz-Ingenlath G.) работа протестантского (пресвитерианского) священника Д. Андерсона «Парадокс в христианской теологии» помогают установить границы между понятиями антиномии, парадокса, абсурда, амбивалентности, тривиализма.
2) Исследования творчества отца Павла Флоренского, в которых поднимается тема антиномии. После ограниченного издания диссертации Флоренского «О духовной Истине» в 1912 г. выходит ряд рецензий, затрагивающих вопросы антиномизма. Их авторы: епископ Феодор (Поздеевский), С.С. Глаголев, Н.А. Бердяев, Е.Н. Трубецкой. Давали свою характеристику антиномиям Флоренского историки философии протоиереи Георгий Флоровский и Василий Зеньковский.
Необходимо выделить труд свт. Серафима (Соболева) «Новое учение о Софии Премудрости Божией» (1935 г.) с критикой взглядов о. Павла Флоренского как реанимирующих гностические представления о посредствующем существе в творении мира, которое не является тварным или нетварным48. Альтернативой такому прочтению софиологии Флоренского в диссертации предлагается антиномический взгляд на Софию как синтез тварного и нетварного. Преп. Иустин (Попович), напротив, высоко ценит священника Павла Флоренского, о чём свидетельствуют его богословские работы, а также «Достоевский о Европе и славянстве» и «Философские пропасти». В последней преп. Иустин ставит Флоренского в ряд «лучших и высших представителей славян, <...> главных зодчих православной культуры»49.
Из современных исследований, посвященных личности и творчеству священника Павла Флоренского, в первую очередь следует указать шеститомную монографию иг. Андроника (Трубачёва) «Путь к Богу» и его же «Биобиблиографический справочник». Последний содержит, в частности, библиографию литературы, посвященной жизни и творчеству священника Павла Флоренского, на русском и иностранных языках за период с 1906 г. по 2014 г. Всего в список включена 1671 публикация: монографии; сборники статей и материалы конференций; главы и статьи из сборников и периодических изданий; статьи из энциклопедий, словарей, учебников; диссертации и авторефераты диссертаций; рецензии и библиографии. Указатель авторов представлен списком из около 900 имен.
Значительное внимание о. Андроник уделяет вопросу антиномизма П. А. Флоренского как его мировоззренческой составляющей, разделяет убеждение отца Павла в антиномичности догмата, и в связи с этим вносит коррективы в построения Флоренского, касающиеся антиномичного понимания вечных мук, видя в этих построениях уклонение от указанной методологии. Согласно отцу Андронику, антиномии находят своё разрешение в духовном опыте, а не в исключительно рациональном постижении.
В последнем можно отметить разногласие с многолетним исследователем творчества Флоренского философом Л.Г. Антипенко. Ценным для нашей работы является его предисловие к работе П.А. Флоренского «Мнимости в геометрии», где Леонид Григорьевич указывает на антиномию как философскую основу идейного наполнения комментируемой книги. Осмыслению антиномизма Флоренского данным автором посвящена монография: «Флоренский П.А. о логическом и символическом аспектах научно-философского мышления». Леонид Григорьевич находит возможным разрешение антиномий с помощью паранепротиворечивой (или нетривиальной) логики Н. А. Васильева.
Эту же область логических и металогических исследований представляют работы Е.А. Сидоренко, Б.В. Бирюкова, И.А. Герасимовой, И.П. Прядко, П. Роека, Г. Мура, М. Родса.
Принципиальное несогласие с концепцией догмата как антиномии высказывает С. С. Хоружий в исследовании «Миросозерцание Флоренского», обвиняя отца Павла в том, что он вносит «догмат» о необходимой антиномичности догмата50.
Антиномизм Флоренского подвергается критике в работах П.П. Гайденко. По мнению Пиамы Павловны, основным недостатком рассматриваемой системы взглядов является устранение Флоренским закона тождества. На данного автора ссылается проф. МДА Н.К. Гаврюшин в книге «Русское богословие. Очерки и портреты». Николай Константинович призывал с осторожностью относиться к творчеству отца Павла, о чём также свидетельствуют его труды: «Этюды о разумной вере», «По следам рыцарей Софии», «П.А. Флоренский и культура его времени». Утверждение о противоречивости учения Флоренского об антиномии Николай Константинович подкрепляет рассуждениями прот. Георгия Флоровского, также критически настроенного по отношению к отцу Павлу. В «Путях русского богословия» (1937 г.), как и в статье 1930 г. «Томление духа», отец Георгий отмечает невозможность согласовать софиологию и антиномизм и вместе с Е.Н. Трубецким характеризует рассматриваемое учение в качестве непобеждённого скептицизма (однако следует отметить высокие оценки «Столпу» и его антиномиям, даваемые Г. Флоровским в его ранней статье51).
Мысли Е. Н. Трубецкого на данную тему изложены в письмах, адресованных П.А. Флоренскому, в рецензии на «Столп и утверждение Истины», а также в работе «Смысл жизни» (1918 г.). Помимо философского содержания эти мысли представляют ценность в качестве богословского осмысления антиномической проблематики. Основываясь на позиции концепции всеединства, Евгений Николаевич не допускает возможности рассматривать истину в качестве антиномии – уже здесь в условиях земной реальности истина должна соответствовать требованию единства.
В вопросе антиномичности истины противоположное направление наиболее развёрнутым образом представлено в трудах С.Л. Франка (в первую очередь следует назвать «Непостижимое» 1938 г.). Однако отметим принципиальное расхождение Франка и Флоренского: последний не допускает антиномизма в Божественной реальности. Напротив, С.Л. Франк развивает теорию Николая Кузанского52 о совмещении противоположностей в Боге. Сходные мотивы встречаются в творчестве прот. Иоанна Мейендорфа53 и архиеп. Василия (Кривошеина), также говорившего об обоснованности антиномии в Самом Боге54. Патрологические труды владыки Василия оказали нам большую помощь в богословском обосновании учения об антиномии.
Стоит упомянуть об отрицательном отношении Г. У. Бальтазара к так называемому богословию противоречия. Этот критический взгляд раскрыт им в его «Теологике», где непротиворечивая человеческая логика есть адекватная форма раскрытия Логоса, Его «бесшовный хитон»55. Критика диалектики доходит у данного автора даже до высказывания: Христос подтвердил гегелевский принцип, что всё разумное действительно – всё действительное разумно56. Однако здесь же Бальтазар отмечает, что истина Христа может себя утверждать «даже по ту сторону принципа непротиворечия»57; приблизиться к тайне Святой Троицы мы можем только через противоположные формулировки, что, разумеется, не означает, что саму эту тайну следует характеризовать как противоречивую в себе самой58. Не соглашаться с Бальтазаром не означает принимать позицию тех, с кем он спорит, а именно представителей диалектической теологии. Например, прыжок веры, о котором рассуждает Карл Барт и который напоминает идеи «Столпа» о вступлении на путь веры, является движением в «безвоздушное пространство»59, в духовную беспредметность, ради освобождения веры от религии. Совершенно иной путь церковной веры с её принципом постепенности, лестницы духовного восхождения.
Современными исследователями антиномизма в русской религиозной философии являются Т. Н. Резвых («Флоренский – Розанов – Франк – Трубецкой: идея антиномии») и С. Б. Егорова. В 2009 г. Светлана Борисовна защитила кандидатскую диссертацию по философии на тему «Антиномизм и диалектика в учении П. А. Флоренского». Обращает на себя внимание, что антиномия в её работе приобретает чрезвычайно широкий характер, к которому применимо авторское выражение «тотальный антиномизм»60.
Необходимо отметить целый массив работ в области флоренсковедения Н.Н. Павлюченкова, среди которых наиболее важная для нас монография 2013 г. «Религиозно-философское наследие священника Павла Флоренского. Антропологический аспект». Николай Николаевич уделяет значительное внимание теме антиномизма, важной, с его точки зрения, для понимания как творчества Флоренского, так и его личности: «В определенном смысле о. Павел и сам представлял собой живую антиномию»61. Согласно Н.Н. Павлюченкову, антиномии в системе «Столпа» являются не только результатом греховного повреждения человеческого разума, но и необходимым следствием существования твари как таковой62.
Методология П.А. Флоренского представлена в монографии К. М. Антонова «Как возможна религия?», где даны оценки дискуссии по поводу иррациональности философского подхода Флоренского, рассмотрено соотношение его феноменологии и онтологии, прояснён исторический и религиоведческий аспект его мысли, в том числе и под антиномическим углом зрения.
Среди работ О.М. Седых, посвящённых о. П. Флоренскому, отметим её кандидатскую диссертацию 2003 г. «Пространство и время как категории культуры в учении П.А. Флоренского (на материале книги «Мнимости в геометрии»)», где антиномия отнесена к перспективам дальнейших разработок темы, и статью 2019 г. «Миг и вечность как антиномия: П.А. Флоренский и культура Серебряного века».
Цикл работ Шапошникова А. В. посвящён изучению философско- математических построений Флоренского. Проблема конечности и бесконечности названа исследователем главной антиномией рассудка63.
Антиномизм Флоренского является предметом исследования прот. Эндрю Лаута в работе «Современные православные мыслители». Богословское обоснование учение об антиномиях получает благодаря развитию темы, названной о. Эндрю «восхищением парадоксом»64 святыми отцами. Однако его подход к понятию антиномии побуждает особое внимание уделить разграничению антиномии и парадокса.
Связь полярности и антиномичности прослеживается в работе 2015 г. доктора философии Берна Грота, обращающего внимание также на обострённую противопоставленность оценок творчества и личности русского мыслителя:
Groth В. Philosoph und Theologe in dunkler Zeit. Grundzüge des religionsphilosophischen Denkens von Pavel Florenskij [Философ и богослов в тёмное время. Основные черты религиозно-философских представлений Павла Флоренского]. Примеры таких поляризованных оценок можно встретить в книге специалиста по русской культуре и члена Британской академии Аврил Пайман «Павел Флоренский. Тихий гений»65.
Итальянский проф. Андреа Оппо называет антиномию основной темой исследований П.А. Флоренского, по крайней мере, в эпистемологическом смысле; «Столп и утверждение Истины», по мнению этого исследователя, весь сосредоточен на этой теме66.
Лингвистическими антиномиями Флоренского занимается профессор- славист Хольгер Куссе; он же изучает критику П.А. Флоренским Иммануила Канта67.
Понять взгляды о. П. Флоренского на вопросы актуальной бесконечности позволяют работы проф. В.Н. Катасонова, чей подход к истории философии опирается, в частности, на философию культа Флоренского68. Эта же тема находит отражение в работе Лорена Грэхэма и Жана-Мишеля Кантора «Именование бесконечности: правдивая история религиозного мистицизма и математического творчества»69, представляющей собой популярное изложение биографий учёных-математиков, в том числе П.А. Флоренского.
Творчество священника Павла Флоренского на предмет антиномии исследовано в одной из глав монографии С.М. Половинкина «Христианский персонализм священника Павла Флоренского». В частности, в этой монографии представлены контраргументы утверждениям С.С. Хоружего, согласно которому софийность и антиномичность у Флоренского носят взаимоисключающий характер70.
Несмотря на то, что в трудах В.Н. Лосского нами обнаружено только одно упоминание имени священника П.А. Флоренского в связи с учением об антиномии71, представляется, что использование Владимиром Николаевичем методологии антиномизма является мировоззренчески близким о. П. Флоренскому (Лосский употребляет понятие антиномии не менее 80 раз). Работы В.Н. Лосского – пример богословски адекватного и философски строгого применения антиномизма Флоренского.
Антиномическая диалектика объединяет П.А. Флоренского и А.Ф. Лосева, в черновых заметках которого встречается, например: «Жизнь – антиномия как организм»72, а также схемы и перечни антиномий, связанных с книгой «Столп и утверждение Истины»73.
Заслуживают отдельного внимания диссертационные исследования феномена антиномии, характеризующие разработанность темы светскими науками и диапазон использования понятия антиномии: в философии74, культурологии75, филологии76, политологии77, искусствоведении78. Собственно богословских диссертационных исследований на данную тему нами не выявлено при том, что в богословской литературе понятие антиномии достаточно распространено.
Из предложенного обзора мы видим, что тема антиномизма Флоренского обсуждается уже более века. За это время дискуссия выявила ряд научных вопросов, таких как: философская и богословская обоснованность антиномизма; антиномия в контексте осмысления проблемы веры и знания; антиномичность разума; эпистемологический статус теологического парадокса; стратегии разрешения парадокса; логическая структура догмата и другие. Тема антиномии открывает новые углы зрения на творчество самого мыслителя, обнаруживая в его наследии ещё не исследованные элементы и подвигая к переосмыслению критики.
Структура диссертации
Настоящая работа состоит из введения, основной части, заключения и списка источников. Основная часть представлена четырьмя главами. Первая глава относится к понятию антиномии (определение, основные взгляды на антиномию, размежевание с однородными понятиями, историческое развитие понятия антиномии). Последующие три главы исследует антиномию как метод. Здесь находятся два основных блока, соответствующих традиции исследования творчества П.А. Флоренского79: 1) антиномия как метод теодицеи (рассматриваются вопросы преимущественно догматического богословия), 2) антиномия как метод антроподицеи (религиозно-философские вопросы антропологии и культурологии).
Таким образом, труды П.А. Флоренского исследуются в хронологическом порядке, что позволяет проследить генезис авторского осмысления феномена антиномии. В связи с тем, что большое число исследований творчества священника Павла Флоренского следует этой же схеме, выбранный путь построения диссертации представляет удобство в отражении критики на страницах настоящего исследования. В отношении данных исследований хронологический принцип даёт возможность увидеть, ограничивается ли автор ранними произведениями П.А. Флоренского, или изучает весь его литературный массив.
При соотнесении взглядов мыслителя с параллельно развивающимися концепциями философов (С.Н. Булгакова, С.Л. Франка) и логиков (Н.А. Васильева, Я. Лукасевича) также важна внутренняя историческая линия, которая может продемонстрировать взаимовлияния или независимость идей.
Также хронологический принцип позволяет выстраивать постепенное накопление знаний по заявленной теме, и только потом переходить к выделению главного и второстепенного в теории антиномизма Флоренского.
Внутренняя структура тематических единиц основной части представлена в виде описания идей отца Павла, истолкования его языка, исследовательских комментариев и концептуальных выводов.
Заключение призвано обобщить значение антиномического подхода священника Павла Флоренского в богословской науке и философии.
1. Понятие антиномии в философии и богословии
Верою разумеваем (Евр 11:3)
1.1. Определение антиномии
По общему мнению, антиномия является разновидностью противоречия. Отличительная особенность антиномического противоречия заключается в том, что два взаимоисключающих одинаково истинных положения используются в антиномии одновременно, совместно. Если классическое противоречие требует выбора: «или А, или не-А», то антиномическое утверждение принимает обе стороны противоречия: «и А, и не-А», при условии их истинности.
«Православная энциклопедия» содержит следующую формулировку антиномии: «[греч. Ἀντινομία – противозаконие], в философии и богословии – противоречие между двумя логически обоснованными положениями»80.
В лекции «Космологические антиномии И. Канта», которая была прочитана П. А. Флоренским в МДА 17 сентября 1908 года, антиномии понимались им следующим образом: «Это суть такие полярно противоположные высказывания, которые противоречат друг другу и к которым, однако, разум вынужден приходить в силу своей организации»81.
В специальной литературе (согласно универсальной десятичной классификации антиномия относится к математическим наукам: УДК 510.27 «Логическая семантика и семантические антиномии») даётся следующая трактовка антиномии: «L-противоречие – антиномия как логический предел (Limit) формально-логической способности разума»82. В этой же работе предлагается определение антиномии как «противоречия, не являющегося ошибкой, но выражающее в разуме нечто сверхразумное»83.
В богословской литературе прослеживается взгляд на религиозные антиномии как на противоречия, которые устраняются верующим разумом. Однако несмотря на их примирение вера, изложенная на языке логики (только таким способом она осмысляется), для рассудка сохраняет вид противоречия. Данное понимание мы обнаруживаем в приводимых ниже высказываниях не только о. Павла Флоренского, но и преподобных Иустина (Поповича) и Софрония (Сахарова), митр. Каллиста (Уэра), протоиереев Г. Флоровского и Э. Лаута, проф. А. И. Сидорова, иг. Андроника (Трубачёва) и др.
В работе предлагается следующее богословское определение антиномии:
антиномия – это противоречие между двумя истинными суждениями, находящее примирение в вере, при этом верующий разум осмысляет их логически взаимоисключающими и использует в качестве полярных сторон для выяснения крайностей, содержащихся в какой-либо целостности, и поиска равновесия между ними (антиномического баланса).
Таким образом, основная проблема антиномии – это нарушение закона классической логики, а именно закона противоречия (два противоречащих суждения не могут быть одновременно истинными)84. С точки зрения богословия, такое нарушение закона формальной логики приобретает положительный эффект: логика лишается статуса безусловного критерия истины; открываются дополнительные возможности слышать голос персонифицированной Истины Откровения.
1.2. Философские подходы к пониманию антиномии
Рассмотрим антиномию как сосуществование взаимоисключений. Определение антиномии как разновидности противоречия содержит две части: общую (антиномия – это противоречие) и особенную (антиномия – это синтез противоречий). По признанию или отрицанию той или иной части формулы можно разделить взгляды на философскую проблему антиномии следующим образом:
а) в мире нет неразрешимых противоречий; проблема противоречий – это проблема познавательного несовершенства человека; так, в неслитном и нераздельном соединении природ во Христе этот взгляд не видит логического несоответствия, главное для этого взгляда – ясность, то есть объяснённость и уяснённость проблемы (позиция Е. Н. Трубецкого, Л. М. Лопатина, С. С. Хоружего, П. П. Гайденко), к примеру: несториане разделяют природы, у монофизитов они сливаются, а православие исповедует неслитность и нераздельность;
б) позиция «выбора»: из двух правильных положений, но противоречащих друг другу, выбирается какое-то одно; по мысли о. Павла Флоренского85, В. Н. Лосского86, Ж.-К. Ларше87, в этом заключается смысл ереси (противоречие между сторонами признается, а синтез отрицается и делается выбор в пользу одной из сторон). Проиллюстрируем эту позицию рассуждениями проф. А. И. Сидорова по поводу монофелитских заблуждений папы Гонория I, который отстаивал один аспект догмата (общение природ) в ущерб и противовес другому (действование природ): «Нарушение органичной антиномичности христианского вероучения характерно вообще для всех еретиков, пытающихся свести эту антиномичность на плоскость одноплановой рассудочности»88;
в) антиномия признается как формально-логическое противоречие, однако синтез предлагается совершить с помощью того же человеческого рассудка, используя иную логику. Примерами здесь являются: паранепротиворечивая логика Н. А. Васильева (с этим взглядом можно познакомиться у философа Л. Г. Антипенко); теория дескрипций Бертрана Рассела (теория описательных определений); экстенсиональная логика Уилларда Куайна (концепция онтологической относительности) и др. В. Н. Порус называет три стратегии элиминации (исключения) антиномии: 1) паранепротиворечивые логики (четырёхзначная логика Л. Роговского), вводящие дополнительные логические правила; 2) системы релевантной логики, временно допускающие антиномию и прагматично использующие её гипотезы; 3) формализация теории с целью не допустить антиномию (аксиоматическая теория Цермело-Френкеля)89;
г) взгляд преп. Иустина (Поповича)90, о. Павла Флоренского91, С. Л. Франка92, В. Н. Лосского93, прот. Иоанна Мейендорфа94, митр. Каллиста (Уэра)95, А. И. Сидорова96 и др.: антиномии синтезируются (постигаются, разрешаются, выясняются, примиряются, снимаются, согласуются, упраздняются) с помощью благодатного разума (посредством подвига веры, когда греховный разум человека очищается и просвещается Божественной благодатью), т. е. посредством Церкви.
| антиномия | |||
| не признаётся | признаётся | ||
| не признаётся противоречие | не признаётся синтез | признаётся противоречие | признаётся противоречие |
| признаётся синтез | признаётся противоречие | синтез с помощью разума | синтез с помощью веры |
Завершим логическую схему признания (или отрицания) противоречия и синтеза (как составных частей антиномического утверждения с двумя противоречащими друг другу правильными высказываниями):
| «идеализация» (а) | ересь (б) | антиномия (в, г) | эсхатология | |
| противоречие | – | + | + | – |
| синтез | + | – | + | – |
Последний эсхатологический вариант подразумевает состояние будущего века, когда не станет противоречий и, главное, пропадёт нужность подвига веры и рассудочной работы. Пока же не пришло Царство Божие – преждевременным будет утверждение о всеедином сознании, идеализирующее состояние мира. Противоположна этому идеализирующему подходу модель ереси – утилитарный (продиктованный выгодой, пользой) выбор одного положения из двух истинных. Выгода может быть разной (например, искренним желанием блага), но сводящейся к одному – что-то становится дороже истины.
При рассмотрении философского контекста богословской антиномии возникает вопрос: почему антиномия в богословии появляется именно в начале ХХ века (почему именно в России – рассмотрим при обзоре исследования о. Томаша Шпидлика; почему именно у Флоренского – в биографической части диссертации), почему у святых отцов и церковных писателей до ХХ века отсутствует учение об антиномии догмата?
Это связано в первую очередь с культурными условиями их времени, а точнее, с принятым тогда образом мышления. Целью святых отцов являлась защита веры, и эта защита строилась в соответствии с современным им типом рациональности, где противоречие в рассуждениях однозначно трактовалось с позиции аристотелевской логики как ошибка. Парадоксальные по виду формулировки использовались ими, скорее, в качестве исключения. Пусть исключением, но безусловно антиномичным, можно считать утверждение преп. Максима Исповедника о Пресвятой Богородице, что «в отношении Неё совокупно истинны несочетаемые и [взаимно]противоречивые»97 понятия рождества и девства. Такого же рода высказывание свт. Григория Паламы: «Утверждать то одно, то другое, когда оба утверждения верны, есть свойство всякого благочестивого богослова; но говорить противоречивое самому себе свойственно совершенно лишённому разума»98. «То одно, то другое» означает взаимоисключающий выбор, следовательно, здесь имеет место явление антиномии. Противоречить самому себе – это уже не антиномия, т. к. здесь говорится о субъекте, а не объекте познания, не о двух истинах.
При дальнейшем рассмотрении догматов обратим внимание, что логическое значение их формулировок является непротиворечивым (неслитное и нераздельное соединение не является противоречием, противоречием будет неслитное и слитное, нераздельное и раздельное), но смысл этих формулировок – не что иное, как взаимоисключение, т. е. противоречие (неслитность и нераздельность в соединении двух природ во Христе не допускает никакой третьей природы). Об этом подробнее изложено в § 2.7. «Антиномичность догмата».
Итак, святые отцы являются по преимуществу защитниками вероучительных истин99. Эта защита осуществляется (помимо личного духовного авторитета, присутствия сверхъестественного, чудесного вразумления или знака) с помощью дискурсивного мышления, т. е. посредством развёртывания рациональной аргументации в противоположность интуитивному схватыванию100. Логическое построение требует в первую очередь непротиворечия. Разоблачение заблуждения сводится в основном к демонстрированию его противоречивости. Когда же в науке речь стала вестись о взгляде на истину, выходящем за рамки логического закона исключённого третьего (согласно которому в противоречии двух – одно истинно, другое ложно, третьего не дано), о том, что противоречие может быть между двумя истинами и это истинное противоречие (закон исключённого четвёртого), то церковные апологеты произносят своё слово на этом паранепротиворечивом (или нетривиальном, или немонотонном, или параконсистентном, как он называется учёными) языке логики. Это относится к субъективному контексту эпохи, контексту мышления (обратим внимание, что, по крайней мере, трое авторов в начале ХХ в. независимо друг от друга публикуют работы с пересмотром законов классической логики: П. А. Флоренский, Н. А. Васильев, Я. Лукасевич).
Авторы, которые обращающиеся к понятию богословской антиномии, указывают на характерно антиномичные выражения Священного Писания и святоотеческих высказываний. Если эти авторы правы, то богословские антиномии составляют объективное учение об антиномии, отличающейся от логически разрешимого парадокса.
С вопросом устранения парадокса в теологии связана стратегия так называемого доктринального ревизионизма. Д. Тагги в статье «Традиция и правдоподобие» призывает к пересмотру учения свт. Афанасия по причине его противоречивости101. Реакцией на данную работу стала статья проф. Д. Андерсона о необходимости сохранения парадоксальности в триадологии: «В защиту тайны: ответ Дейлу Тагги»102. В другой своей работе103 Д. Андерсон представляет обзор таких логических стратегий разрешения парадокса в теологии, как семантический минимализм104 и принцип дополнительности105.
Таким образом, в обобщённом виде проблема антиномии видится в признании или непризнании за антиномией её логической разрешимости: для одних особенностью антиномии является сохранение противоречия, для других – антиномия принципиально не отличается от феномена парадоксальности.
1.3. Разграничение антиномии и смежных понятий
Священник Павел Флоренский в своей работе «Столп и утверждение Истины» показывает, что истина антиномична106. Истина в самом своем бытии непротиворечива – противоречие находится в рассудочном сознании человека. Два элемента, которые мы рассматриваем как антиномию, в бытии примирены. В данном аспекте антиномия субъективна. Чтобы яснее это увидеть, разграничим антиномию и другие противоречия по признаку субъективности (применив схоластический метод разложения понятия на формальности107):
| наличие (+) или отсутствие (-) противоречия | А) отсутствие противоречия | Б) обычное противоречие | В) антиномия | Г) несознаваемое противоречие |
| в бытии | – | + | – | + |
| в сознании | – | + | + | – |
В качестве примера рассмотрим грех как антагонизм между должным и недолжным поведением с точки зрения заповеди Божией.
А) отсутствие противоречия: А не грешит (нет противоречия между должным и недолжным поведением) и не сознаёт за собой греха (например, младенец);
Б) обычное (классическое) противоречие: Б грешит и сознаёт это (понимает, что его поступок расходится с заповедью Божией);
В) антиномия: В не грешит, но живёт в покаянии, т. е. сознаёт себя грешником. Здесь в бытии нет противоречия между должным и недолжным поведением, а в сознании В присутствует мысль, что его поступки не соответствуют заповедям Бога. В виде примера можно вспомнить великих подвижников, оплакивавших себя как великих грешников.
Г) несознаваемое (латентное) противоречие: противоречие есть, но разум его отрицает, или не замечает, или оправдывает. Пример: Г грешит, но не считает это грехом. Это примеры нравственного релятивизма, оправдания зла, неведения своего греха, греховного нечувствия и т. д.
Проиллюстрируем схему примерами, взятыми из романа «Братья Карамазовы» Ф. М. Достоевского108:
а) отсутствие противоречия: Алексей Фёдорович Карамазов не совершал убийства и не винит себя в нём;
б) противоречие в объективной стороне преступления: Дмитрий Фёдорович Карамазов думал об убийстве, был готов к нему и признаёт себя виновным (этот пример не является антиномией, хотя внешне может показаться таковой: сам Дмитрий не совершал преступления, но кается в убийстве – однако, возникавшая в его душе ненависть к отцу греховна и требовала покаянного врачевания); этот пример иллюстрирует противоречие между моральными и правовыми нормами;
в) антиномическое противоречие: Иван Фёдорович Карамазов даже не думал убивать своего отца, но также признаёт себя убийцей109;
г) несознаваемое противоречие, отрицание противоречия: именно Павел Фёдорович Смердяков является убийцей, но обращается к Ивану Карамазову: «Вы убили», снимает с себя ответственность (психология подобного убийства (право на убийство) описывается в «Преступлении и наказании»), отрицает совершённый грех, оправдывает себя110.
Рассмотрим антиномию в соотнесении со смежными понятиями.
Аналогом антиномии можно было бы считать развиваемое на Западе понятие диалетеи, если бы не указание его разработчиков на то, что диалетея – это предложение, которое одновременно является истинным и ложным111. Последнее высказывание является принципиально важным, т. к. диалетея трактуется также в качестве истинного противоречия112, что максимально сближает её с антиномией. Однако указание на возможность утверждения лжи в диалетическом предложении разделяет эти понятия. Показательно, что в качестве символа диалетизма его автором выбран двуликий Янус113.
Формулировкой «истинное противоречие» определяется также современное понятие тривиализма, которое идёт ещё дальше диалетеизма и допускает верным любое утверждение (полная противоположность скептицизму)114. По мнению Д. Андерсона, диалетеизм стремиться сохранить рациональность в теологии за счёт её тривиализации (trivializing orthodoxy), что означает, например, одновременную правоту свт. Афанасия и Ария, свт. Кирилла и Нестория115.
Противоречивость сближает понятие антиномии с понятием абсурда.
Абсурд – «понятие интеллектуальной традиции, которое выражает оборотную сторону смысла, его превращённую форму (контрсмысл) или его
отсутствие (бессмысленность)»116.
Антиномия не является абсурдом, так как содержит в себе конкретный смысл.
Образное сочетание противоречивых понятий, которое используется для создания стилистического эффекта, носит название оксюморона (ὀξύμωρον, от ὀξύς «острый» и μωρός «глупый»). Это понятие применяется, например, для характеристики названий таких произведений русской литературы: «Барышня- крестьянка» А. С. Пушкина, «Мёртвые души» Н. В. Гоголя, «Честный вор» Ф. М. Достоевского, «Живой труп» Л. Н. Толстого, «Горячий снег» Ю. В. Бондарева. Однако противоречие, содержащееся в названиях произведений, устраняется по ходу развития сюжета.
Противоречие свойственно апории. Но если в антиномии два суждения противоречат друг другу, то апория противоречит опыту. Преп. Максим Исповедник видит апорию в построениях Ареопагита, когда он говорит о причастности низших небесных чинов высшим и одновременной их непричастности. Преп. Максим отмечает в своих толкованиях, что всем свойствам высших сил низшие непричастны, но «частично они причаствуют»117, чем и разрешает недоумение. Однако используемый в ареопагитском корпусе «метод неподобных подобий»118 может быть назван антиномическим. Все образы Священного Писания, описывающие небесный мир, согласно Псевдо-Дионисию, а также его толкователю преп. Максиму119, не имеют ничего общего с духовной реальностью. Так, образы льва (Иез.1:5) или тельца (Иез. 1:10) в аллегорическом истолковании возводят ярость к «умному мужеству», а вожделение – к «божественной любви»120, сами остаются абсолютно неподобными. Причиной использования «изображения неизобразимого и видов безвидных» является ограниченность созерцательной способности человека и сверхмирная природа Откровения121.
Отметим, определение апории, данное Аристотелем в его трактате по логике «Органон» (раздел «Топика»): «равенство противоположных заключений»122. Для Аристотеля такое явление относится к разряду логических ошибок.
Антиномия и софизм различны как истина в виде ошибки и ошибка под видом истины. Кроме того, софизм есть преднамеренная ошибка, в отличие от паралогизма. Прот. Георгий Флоровский пишет: «Антиномия не есть паралогизм. Святые отцы ясно различали ὑπέρ и παρά»123. Мысль о. Георгия заключается в том, что антиномический метод не иррационален, а метарационален, сверхразумен. Причём антиномия «снимается в созерцании: θεωρία – ἕνωσις»124. Созерцание предполагает единение.
У антиномии есть точки соприкосновения с апофатическим методом (познание Непознаваемого). Последний можно рассмотреть в теоретическом и практическом аспектах. В умозрении апофатизм находит своё применение как утверждение посредством отрицаний (в отношении Бога – каким Он не является: «Егоже держава несказанна и слава непостижима, Егоже милость безмерна и человеколюбие неизреченно»125). Данная апофатика есть описание без противопоставлений. Практический апофатизм в духовной жизни представляет собой совлечение всякой образности (в интеллектуальной области) и всякой чувственности (в эмпирической области). Антиномизм – рациональный подход (формулирование тезиса и антитезиса) с целью выведения на сверхрациональное (совмещение тезиса и антитезиса). Апофатизм и антиномизм совпадают как пути духовного познания в противоположность исключительно интеллектуальному. Также апофаза, познающая Непознаваемого, внутренне антиномична. На это указывает А.Ф. Лосев, отмечая в ареопагитском корпусе одновременное сочетание апофатизма и возможности идеальных созерцаний126, отсутствие данной антиномии делает апофатизм абсолютным, а значит, агностицизмом127. Обозначенное мнение согласно со святоотеческим опытом: «Самое познание недоведомости Его есть ведение превосходящее ум, как сказали мужи сильные в богословии – Григорий и Дионисий»128.
Рассмотрим историческое различие понятия антиномии и термина «антиномия», о котором Флоренский говорит в Приложении к «Столпу и утверждению Истины»129.
Тот феномен, что стал в XVIII веке называться антиномией, первоначально носил имя противоречия. Сам же термин «антиномия» относился к юридической области и не имел философского значения. Он и не мог иметь значение логически неразрешимого противоречия, так как это входило бы в столкновение с самой природой юриспруденции. Право возникает в качестве регулятора общественных противоречий, задача права как раз и заключается в разрешении противоречия. Задача антиномии – прямо противоположная. Именно это сущностное несоответствие термина – «противо-законие», «внутренняя самопротиворечивость закона»130 – и его сферы применения не позволило ему стать термином юридическим. В настоящее время смысл противоречия в праве выражается понятием «конкуренция норм». Последнее словоупотребление подтверждает, что идея права не терпит противоречия, хотя только в социальных противоречиях право и находит обоснование своего существования. Отец Павел обращает внимание, что термин антиномия встречается у блаженного Августина. Речь идёт об одном из самых ранних произведений святого «De rhetorica» (387 г.131), содержащем в себе наставления по юридической риторике. В нём греческий термин как раз и интерпретируется в значении современного понятия конкуренции правовых норм: «ἀντινομία quam nos contentionem legum contrariarum vocamus»132. Его выражение можно перевести буквально: антиномией мы называем противоречие законов, находящихся в соперничестве; также допустимый вариант: напряжённое противоречие законов.
В литературе встречается также термин «антиномианизм»133. Данный термин применяется для характеристики позиции в протестантской полемике о соблюдении ветхозаветных предписаний, согласно которой заповеди Ветхого Завета не обязательны для христиан. Можно считать термин «антиномианизм» английским переводом «антиномии». Последняя также используется для обозначения указанной протестантской позиции, речь идёт о так называемом «антиномистском споре»134 – полемике между И. Агриколой, Ф. Меланхтоном и М. Лютером по поводу закона Моисея и оправдания. Начало спора 1527 г. ознаменовано тезисами Филиппа Меланхтона о том, что проповедь ветхозаветного закона должна предшествовать проповеди Евангелия. В дискуссии в Торгау его противник Иоганн Агрикола заявлял о недействительности Закона после проповеди Христа. Под влиянием Мартина Лютера произошло их примирение. Спустя 10 лет при возобновлении Агриколой спора Лютер занимает позицию Меланхтона. Здесь необходимо упомянуть о сочинении М. Лютера 1539 г. «Wider die Antinomer» («Против антиномистов», письмо доктору Гюттелю). На втором этапе спора, который начался после смерти Лютера (1546 г.), ряд богословов (А. Поах, А. Отто, М. Неандер, А. Мускулус) противопоставляли благодать Закону. Однако «Формула согласия» 1580 г. утвердила в качестве официально признанного в лютеранстве учение Меланхтона135. Отметим, что термин «антиномия» вошёл в «Философский словарь» (1613 г.), составленный последователем Меланхтона Рудольфом Гоклениусом, и рассматривается в этом словаре с учётом указанной полемики136.
«Антиномистский спор» положил начало новому словоупотреблению, где антиномизм приобретает значение правового нигилизма и даже аморализма. В этом значении термин «антиномизм» используется мч. Иоанном (Поповым), применительно к гностикам137, «антиномистский» – прот. Владиславом Цыпиным138, в то же время о. Владислав использует понятие богословской антиномии, цитируя архиеп. Василия (Кривошеина)139. Заметим, что отечественные авторы работ по истории Церкви140 и нравственному богословию141 используют термины «антиномисты» и «антиномистский» с однозначно негативным смыслом, преимущественно в отношении гностицизма (собирательный термин «гностицизм» также появляется в новое время142). Однако для терминологической точности, предпочтительным видится не восстанавливать данную лексику, дублирующую понятия аморализма и правового нигилизма, которые широко распространены в гуманитарной науке. История термина подтверждает необходимость достижения поставленной в работе задачи по выработке строгого подхода к философской антиномии, исключающего её употребление относительно нравственной области.
В работах Флоренского нами не обнаружены случаи применения метода антиномии для решения проблем в области этики и аксиологии143. Нравственное учение исключает совмещение противоположных норм, этому учению свойственно ставить человека перед выбором должного или недолжного поведения («либо то, либо другое»). В противном случае, такое «совмещающее» учение способно обратиться в нравственный релятивизм, безразличный к христианскому и вообще какому-либо идеалу. Нравственный же выбор является проблемой, а с точки зрения логики, противоречием, требующим ответа «да» или «нет», где сложность создаёт соблазн отказаться от категоричности выбора и искать широкого пути (Мф.7:13), возможности совместить, к примеру, служение Богу и маммоне (Мф.6:24). Здесь антиномия может оказаться прикрытием идеологии вседозволенности (die Beliebigkeit; Anything goes144). В связи с этим требование строгого антиномизма призвано воспрепятствовать софистическому использованию антиномии в целях выворачивания смысла категорий правды и обмана, справедливости и несправедливости, добра и зла: горе тем, которые называют зло добром, и добро – злом, тьму почитают светом, а свет – тьмою, горькое почитают сладким, а сладкое – горьким (Ис. 5:20). В лекционном курсе «Нравственное богословие» архим. Платон (Игумнов) применяет понятие парадокса для характеристики именно «онтологических загадок»145 человека как носителя двух естеств, причастника двум мирам, его одновременной возвышенности и униженности. Использование Флоренским метода антиномии преимущественно в области онтологии подтверждает правильность данного требования.
Таким образом, мы определили понятие антиномии, выявили существенные признаки антиномии и отграничили её от смежных понятий. В последующем данные признаки понадобятся для разграничения антиномии и родственных понятий парадокса, полярности и амбивалентности.
1.4. Антиномия и парадокс
Нами не выявлено исследований, в которых было бы проведено чёткое разграничение антиномии и парадокса, чаще всего они выступают как взаимозаменяемые понятия146.
В тех работах, где антиномия и парадокс различаются, обоснований этого различия нами также не обнаружено, например: «Антиномией называют наиболее резкую форму парадокса»147. Антиномия в Британской энциклопедии «почти синонимична»148 парадоксу. В немецком философском словаре говорится о том, что антиномия отличается от апории и парадокса149, но, чем именно отличается, из соответствующих статей не видно. В другом немецком философском словаре о них прямо говорится как о синонимах150.
В литературе по флоренсковедению антиномия и парадокс также рассматриваются как синонимы, например: «Зеноном Элейским были впервые описаны такие противоречия-парадоксы в умозаключениях – то есть антиномии, – которые известны нам как апории Зенона»151. Парадокс и антиномия синонимы для Н. Н. Павлюченкова152, К. М. Антонова и Н. А. Вагановой153. По мнению прот. Эндрю Лаута, парадокс является более привычным в богословском дискурсе, Флоренский же выбирает слово «антиномия», вслед за Кантом, в связи с тем, что данный термин объясняет природу разума154. Однако существенная терминологическая специфика здесь также не продемонстрирована, т. к. и о парадоксах о. Эндрю говорит, что они указывают на нечто фундаментальное относительно природы самого разума155.
Объяснение разницы между антиномией и парадоксом встречаем у В. Н. Поруса, однако с ним сложно согласиться. Философ пишет о том, что парадокс «останавливает движение мысли»156, обрекает её на застой, в отличие от антиномии, возводящей мышление к трансцендентному. Многие учёные указывают на эвристическое значение парадокса, стимулирующего развитие науки, в т. ч. и сам Владимир Натанович в статье об антиномии, где она рассматривается наравне с парадоксом157.
Что представляет собой парадокс? Парадокс (παράδοξος – неожиданный, странный) – согласно словарю В. И. Даля – «мнение странное, на первый взгляд дикое, озадачливое, противное общему»158.
Современное философское определение конкретизирует озадачивающее свойство парадокса, который доказывает как истинность, так и ложность высказывания или его утверждение и отрицание; при этом посылки высказывания имеют вид заведомо приемлемых, но приводят к заведомо неприемлемому результату (противоречию)159.
Представляется, что парадокс и антиномия не тождественные понятия. Их объединяет общая схема: «и то, и другое»; «и А, и не-А». Только в антиномии устанавливается тождество А=не-А, которое есть истина, а парадокс, совмещая в себе А и не-А, не может сам быть истиной – истиной будет только А или не-А.
· Например, парадокс Эвбулида «Лжец» выглядит следующим образом: «Данное высказывание (А) есть ложь (В)». Рассмотрим два варианта выяснения истины:
1) если данное высказывание (А) действительно ложно (А есть В), то мы принимаем его как истинное высказывание (С); т. е. Лжец в данном случае говорит правду (А не есть С), а данное высказывание в целом есть истина: (А есть В) есть С;
2) если мы относимся к Лжецу как лжецу, утверждающему, что А есть В, и он нас действительно обманывает, и А на самом деле есть С, а не В, то выражение в целом не есть истина: (А есть В) не есть С.
В итоге мы принимаем или первый (не лжец), или второй вариант (лжец). «Либо то, либо другое» не подходит к определению антиномии, которая есть синтез противоречий: «и то, и другое».
Решение данного парадокса предлагает Л. Г. Антипенко с помощью логики Н. А. Васильева160, учитывающей интенсиональный аспект высказывания. В данном случае таким аспектом является установка на «негативный полюс ценности»161. Леонид Григорьевич приходит к выводу, что Лжец на самом деле утверждает ложь (в нашей схеме – это второй вариант). Таким образом, и в данном случае парадокс лжеца не является антиномией вследствие разрешения противоречия.
· Не антиномией, а парадоксом является вопрос: может ли Бог создать такой камень, который Сам не может сдвинуть? Вполне приемлем ответ: да, Бог всё может (Мк.10:27), и этот камень – человек. Этот ответ имеет в виду человеческую свободу, которую Бог не нарушает, вплоть до того, что позволяет человеку совершить Богоубийство.
Антиномизм вносит терминологическую определённость. Парадокс стремится к своему разрешению (либо в ту, либо в иную сторону) – та же интуитивная логика подсказывает истинность одной из сторон парадокса. Антиномия, напротив, ищет равновесия между тезисом и антитезисом (в случае догмата отклонение приводит к ереси). Тут можно вспомнить высказывание Флоренского о том, что парадокс раздражает162, следовательно, можно увидеть и намечаемую отцом Павлом границу парадокса и антиномии. Вместе с тем чёткого различения парадокса и антиномии у П. А. Флоренского мы не находим. Примечательно, что при изложении задачи Л. Кэрролла отец Павел ограничивается только её математической записью, не указывая конкретного смыслового содержания163. Причина этого видится в том, что формула, предложенная Кэрроллом, соответствует логической записи антиномии, если же в объяснении антиномии задействовать персонажей задачи, то она сведётся именно к парадоксу: один и тот же человек не может одновременно находиться и не находиться в одном и том же месте, т. е. требуется выбор того или иного варианта, а не их совместное утверждение.
Часто используемый в патристике парадокс также требует своего истолкования в зависимости от цели его использования: или он будет риторическим приёмом, свойственным гимнографии, или же он будет дискурсом, обязывающим к буквальному прочтению. Преп. Максим Исповедник говорит, что в Боговоплощении невероятным образом (παραδόξως) сохраняется неизменность природ: «Бог упраздняет законы природы, сверхприродно пользуясь природой cреди [вещей, сущих] по природе»164. Преп. Иоанн Дамаскин описывает воплощение Сына Божия как неуничижённое уничижение неуничижаемой высоты Бога165. Вероятно, в обоих примерах есть элементы, как поэтического, так логического статуса. В словах преп. Максима речь идёт о неизменности логосов (сущностных законов) Божественной и человеческой природ – Христос есть истинный Бог и истинный человек – и изменении в Нём тропоса (способа) бытия человеческой природы; при этом соединение двух природ остаётся непостижимым. Преп. Иоанн также говорит о сочетании несочетаемого в Лице Богочеловека: безграничности Бога и ограниченности человека.
Цель святых отцов в использовании ими противоречия видится не в том, чтобы удивить парадоксальной формой выражения (стилистический приём оксюморона), а в том, чтобы передать реальность такой, какая она есть. Так, состояние радостопечалия (χαρμολύπη)166, согласно отцам, представляет собой именно радость и печаль, что для рационального подхода вполне антиномично.
Таким образом, антиномии и парадоксы в своём сопоставлении различаются по принципу интенциональности, т. е. их самонаправленности, устремлённости, нацеленности к сохранению или разрешению противоречия: как принципиально логически неразрешимые и как принципиально разрешимые противоречия.
1.5. Генезис понятия антиномии
Этимология слова «антиномия», «противозаконие» (νόμος – закон), направляет исследование к нормативно-правовой области – самой естественной среде для зарождения этого термина. На правовые корни антиномии указывает П. А. Флоренский167. Его заключение подтверждается в «Православной энциклопедии» ссылкой на Плутарха (Ceasar. 13, 713b), Квинтилиана (Inst. orat. VII, 7, 1) и Кодекс Юстиниана168. Однако, распространения в юриспруденции антиномия не получает.
Вместе с тем в философию слово антиномия попадает только в XVII веке (связывается с именами П. Бейля и А. Кольера). Разумеется, это переселение имеет свои внутренние закономерности. С одной стороны, постепенно нарастающая формализация и специализация правового регулирования всё меньше оставляла шансов даже и для теоретического существования неустранимого «противо-закония». С другой стороны, философское учение о противоречии выявило себя в новых плодах, для которых и сберегалось в веках имя антиномии. Какова эта философская почва и каковы предпосылки для соединения термина и понятия философской антиномии, излагается в «Письме шестом: Противоречие» – ключевой главе книги «Столп и утверждение Истины», о чём свидетельствуют все её редакции169.
Отец Павел Флоренский предполагает, что идея необходимой само- противоречивости рассудка явилась вначале отражением сложного и сочетающего в себе противоположности строя, которым обладал древний эллин и лично, и общественно170. В качестве обоснования этого положения отец Павел приводит свидетельство протестантского историка эллинской мысли Т. Гомперца об успешности греческого ума, секрет которого заключается в сочетании противоположностей171.
Первым из греческих мыслителей, остановивших своё внимание на противоречии как принципе бытия, отец Павел Флоренский называет Гераклита, ощутившего высшую примирённость и единство бытия и вместе с этим увидевшего со всей остротой внутреннюю вражду мира172.
Отец Павел приводит ряд его высказываний, объединенных одной темой – ἀγχιβασίη, «противоречие», выводом из которых является утверждение о трагической красоте мира: «Его гармония – в его дисгармонии, его единство – в его вражде»173. В этом гераклитовском положении Флоренский угадывает черты теории «трагического оптимизма» Ф. Ницше.
В перечне древнегреческих философов можно упомянуть имя Ксенофана с его положениями об одновременной бесконечности и конечности Бога174.
Следующим после Гераклита из первооткрывателей антиномичности отец Павел называет Платона, большинство диалогов которого – не что иное, как «художественно драматизированные антиномии»175. Отец Павел обращает внимание на то, что едва ли ни каждый диалог «обостряет противоречие и углубляет бездну между “да” и “нет”, между тезисом и антитезисом, но ничуть не решает вопроса в пользу того или другого»176. Последнее и составляет суть антиномии.
Тесно связаны с Платоном поиски гностицизма. Характеризуя взгляды Василида, Л. П. Карсавин говорит о смешении противоположностей как двигателе мирового процесса, стремящегося к равновесию и всеобщему восстановлению177.
В нашей работе отдельно говорится об использовании противоречия в Священном Писании и творениях святых отцов, в первую очередь, великих каппадокийцев. В данном параграфе укажем на представителей доникейской патристики. Во-первых, назовём имя Тертуллиана с его высказыванием: Божий распят – это совершенно достоверно, ибо нелепо; и, погребенный, воскрес – это несомненно,ибо невозможно»178. Во-вторых, обратим внимание на св. Игнатия Богоносца, который говорит, что есть «один Врач, телесный и духовный, рождённый и нерождённый, Бог во плоти, в смерти истинная жизнь, от Марии и от Бога, сперва подверженный, а потом не подверженный страданию, Господь наш Иисус Христос»179.
Теория «двух истин», начальный этап которой связывается с именем Сигера Брабантского, также имеет формальную общность с антиномизмом. Однако противоречие между «двумя истинами» – философии и богословия – разрешается в ту или иную сторону, в отличие от антиномизма, сохраняющего противоречие.
Отец Павел упоминает учение Николая Кузанского о совпадении в Боге противоположных определений180. Приведём характерное апофатическое требование Кузанского епископа «вступить в область мрака, признать не вмещаемое никаким рассудком совпадение противоположностей»181. Последнее кардинал Николай называет стеной рая, в котором обитает Бог, и приблизится к Которому можно, только одолев «высочайший дух разума»182. Если рассматривать богословскую апофазу в двух аспектах: 1) совлечение чувственных образов и 2) отказ от интеллектуального постижения духовной реальности, то антиномия вносит здесь свой вклад, ограничивая притязания разума.
К творчеству Николая Кузанского обращались В. С. Соловьев, С. Н. Булгаков, С. Л. Франк, Л. П. Карсавин, А. Ф. Лосев; вообще их интерес к Николаю из Кузы «вполне актуальный и созвучный европейским исследованиям вектор»183.
Указывая на изданную в 1781 году («вместе с тем год рождения нашего термина»184) «Критику чистого разума» Иммануила Канта, отец Павел заканчивает исторический обзор вызревания учения об антиномиях: «По Канту, антиномии – это “Wiederstreit der Gesetze der reinen Vernuft” <...> “противоречия, в которых необходимо запутывается разум при своём стремлении мыслить безусловное, противоречия разума с самим собою”»185.
Ещё раз отметим особенность кантовских антиномий как «сигналов, поставленных на границе, отделяющей мир явлений от мира вещей в себе»186. Их роль сводится к поддержанию дистанции между областью веры и областью разума.
И. Кант свидетельствует о значимости антиномий лично для него самого как пробудивших его от «догматического сна» и ставшими «отправной точкой» его исследований (письмо к Граве 1798 г.)187.
Антиномическое противоречие становится основным принципом и движущей силой развития в философии Георга Гегеля. Принцип противоречия имеет определяющее значение и для взглядов П.А. Флоренского, в связи с этим в диссертации отдельно говорится об отличительных особенностях двух философских подходов (глава 4).
Продолжателями систематической разработки понятия антиномии, согласно указанной статье А.Т. Казаряна, стали: Ф. В. Й. Шеллинг, И. Г. Фихте, А. Шопенгауэр, Ф. Ницше, Г. Коген, Н. Гартман, К. Ясперс и др.; в России к учению об антиномии обращались в историко-философских трудах С.С. Гогоцкий, П.Д. Юркевич, М.И. Владиславлев, еп. Никанор (Боркович), А.А. Козлов, М. М. Филиппов, Л.М. Робинсон, М.И. Каринский, А.И. Введенский, В.А. Савальский, прот. В. Зеньковский и др.; в оригинальных построениях отечественной мысли учение об антиномии встречается у Л. М. Лопатина, Вяч. Иванова, Н.О. Лосского, Н.А. Бердяева, Л.П. Карсавина, Н.Ф. Фёдорова, С.Н. Трубецкого, Е.Н. Трубецкого, прот. С. Булгакова, С.Л. Франка, Б.П. Вышеславцева, В.Н. Лосского, А.Ф. Лосева.
Особенное внимание русских философов к антиномиям, по мнению отца Томаша Шпидлика, объясняется на уровне ментальности: русские не озабочены разрешением противоречий – они в них живут188. Антиномии, по словам кардинала Томаша, поражают русских мыслителей, в качестве примера он приводит имена Б. Вышеславцева (потрясен величием и ничтожностью человека), П. Новгородцева (изумляет антиномия между индивидуумом и обществом), о. Сергия Булгакова (первая антиномия заключена в творении, в том, что человек слагается из бытия и не-бытия), Л. Карсавина, С. Франка189. Также примеры антиномий отец Томаш находит в книге архим. Софрония (Сахарова) «Старец Силуан»190. Проф. А. Оппо также считает антиномизм специфической чертой русской философии191. Возможно, именно интегральное свойство антиномии (примирение разрозненного) привлекает к ней русских интеллектуалов. Во всяком случае отец Павел не конструирует антиномии из парадоксов, а исходит из целостных явлений (например, догматов) раскрывая их полярное строение, т. е. метод Флоренского в исследовании антиномий – дедуктивный, идущий от общего к частному.
Рассматриваемое явление, разумеется, выходит за рамки исключительно русского миропонимания: проф. А. И. Сидоров обращает внимание на наблюдение, сделанное о. Иоанном Мейендорфом о том, что антиномичностью характеризуется византийское богословско-философское мышление в целом192.
В богословии учение об антиномии появляется благодаря о. Павлу Флоренскому, это подтверждает о. Георгий Флоровский193. Однако упоминание антиномии в богословском контексте встречается в докторской диссертации 1900 г. Сергея Николаевича Трубецкого «Учение о Логосе в его истории». Исследуя ветхозаветное понятие о Боге, Трубецкой, отмечает массивность, антропоморфность и даже телесность представлений о Боге. Эти характеристики он объединяет понятием конкретного. Вместе с тем Бог «сознаётся как всеединый и абсолютный»194. Трубецкой, таким образом, приходит к противопоставлению Божественных природы и Лица – дискуссионной темы нашего времени: «Существо абсолютное и вместе конкретное, личное и вместе сверхличное – это совершенное противоречие, антиномия для рассудочного мышления»195. Далее Трубецкой говорит о двух уклонах философов и богословов, одни из которых жертвовали конкретностью Бога в пользу Его абсолютности, а другие «готовы отречься от понятия абсолютного, чтобы сохранить личного Бога»196. П. А. Флоренский, учась в Московском университете (1900 – 1904), посещал лекции С. Н. Трубецкого, в «Столпе» имеются ссылки на труды С. Н. Трубецкого197, в связи с чем есть повод предполагать о философском влиянии последнего на учение Флоренского об антиномии. Укажем, что в «Учении о Логосе» антиномия как противоречие упоминается лишь однажды и 12 раз «антиномизм» упоминается в значении аморализма по отношению к гностическим сектам. Последнее значение антиномизм приобрёл посредством антиномистского спора в протестантизме – у Флоренского мы не видим знакомства ни с протестантским словоупотреблением антиномизма, ни с характеристикой гностицизма с помощью данного термина (хотя причиной этого может быть желание Флоренского избежать терминологической двусмысленности). Следовательно, нет твёрдых оснований говорить о заимствовании Флоренским идеи богословской антиномии у С. Трубецкого. Тем более, таких предположений до сих пор, насколько нам известно, не высказывалось.
Таким образом, историография вопроса показывает, что зародившись в правовой области, понятие антиномии находит своё оформление в философии и далее из неё распространяется по другим наукам, в том числе становится богословским методом. Характерно троекратное появление термина «антиномия» в истории человеческой мысли именно в качестве обозначения соперника: 1) в античности – праву; 2) в начале Нового времени (реформация XVI в.) – морали; 3) в кантовской философии – разуму.
Выводы
Несмотря на лаконичную формулировку своего определения как тождества противоречия или противоречия двух истин, антиномия представляет собой сложное и дискутируемое понятие. Основной вопрос антиномии – это вопрос о её принципиальной разрешимости или неразрешимости. Сторонниками логической разрешимости антиномии, насколько позволяет судить о них наш обзор, преимущественно являются представители секулярного (нецерковного) сознания с убеждённостью в превосходстве рационального подхода. Неразрешимость богословской антиномии средствами разума, принятие противоречия, зачастую свойственно именно церковному мышлению, признающего истину Откровения с его антиномическими противоречиями. Хотя такая закономерность носит условный характер, её отражает отношение верующего разума и разумной веры, которое будет рассмотрено ниже.
Постановка вопроса о принципиальной логической неразрешимости антиномии предполагает разграничение близких к ней по смыслу понятий апории, парадокса и амбивалентности. Данное размежевание продолжает историческое развитие рассматриваемого понятия, первоначально юридического, далее – философского и, начиная с Флоренского, – богословского. При этом отец Павел излагает теорию антиномии со свойственным ему198 стремлением дойти до логических пределов понятия.
2. Антиномия как философско-богословский метод теодицеи священника Павла Флоренского (По книге «Столп и утверждение истины»)
«Это стена рая, в котором Ты обитаешь;
дверь туда стережёт высочайший дух разума,
который не даст войти, пока не одолеешь его»199.
Антиномия является центральным понятием и методом книги «Столп и утверждение Истины». Для нашего исследования эта самая известная работа отца Павла является основным источником, наиболее полно раскрывающим понятие антиномии, её методологическое значение, а также личное авторское восприятие антиномии.
Отец Павел говорил об этой книге как изображающей его жизнь в период, когда у него было принято решение перейти в духовную академию, «т. е. моего состояния внутреннего на 4-м курсе Университета»200. Иг. Андроник (Трубачёв) также обращает внимание на то, что она принципиально написана как книга персоналистическая, выражающая сознание конкретной личности201.
Этот личностный момент весьма важен для исследования антиномии, так как если первая часть антиномии – противоречие – объективна (хотя и не всегда явна), то вторая её часть – синтез – субъективна: она выявляется личным опытом. Выяснить для себя некое противоречие в религиозной жизни – это всегда личный духовный труд и духовный рост, но не изолированный, а церковный: благодаря церковному учению и благодатной помощи. Именно эту цель – приобщение к Церкви – ставит автор «Столпа» в своем предисловии: «Ведь, церковность – вот имя тому пристанищу, где умиряется тревога сердца, где усмиряются притязания рассудка, где великий покой нисходит в разум»202.
Антиномизм и церковность – одна из основных полемических тем, разворачивающихся вокруг «Столпа». Так, Е. Н. Трубецкой, высоко оценивая труд Флоренского, подверг критике именно его антиномизм203. Полностью противоположное мнение у Н. А. Бердяева, считавшего самым ценным в книге Флоренского его учение об антиномичности204, а церковность этой книги, по Бердяеву, есть главный её недостаток: «Можно задохнуться в этой атмосфере подземной церковки с низкими сводами, жаркой, напоённой запахом восковых свечей и ладана»205. Стилизованным православием он называет настороженное отношение автора к нецерковному духовному опыту: «Всякий почин в духовной жизни, всякое дерзновение жить в Духе свящ. Флоренский берет под подозрение как гордыню и человеческий произвол»206. С этим уже не согласится прот. Василий Зеньковский, который как раз церковной атмосферы в «Столпе» не ощущает. При этом о. Василий также использует вслед за Бердяевым понятие «стилизация» – применительно к теоретическому знанию, которое, по его мнению, в «Столпе» только стилизуется под церковность, а в действительности основным двигателем философии Флоренского является «антиномизм, освобождающий его от ограниченности рассудочного познания, независимо от веры»207.
Данное исследование призвано показать, что антиномия в творчестве Флоренского играет важнейшую, но подчинённую роль (это не «двигатель» его философии, скорее – контроль устойчивости). Чаще всего она используется как логический инструмент, реже она предстаёт как интеллектуальный путь, но то и другое укладывается в рамки понятия метода. Другой специфически- богословский метод соотнесения какой-либо реальности с нормами Церкви (вероучением, каноном, традицией) – оценка православности – позволяет дать характеристику взглядам отца Павла Флоренского, в том числе и по поводу «стилизации». Стилизация как неподлинность его Православия, имитация, маскировка своих идей под православность представляется субъективной оценкой, не основанной на исследовании текстов и биографии Флоренского.
2.1. Лекция «Космологические антиномии Иммануила Канта» как введение в проблематику книги «Столп и утверждение Истины»
Работая над созданием «Столпа», Флоренский занимается преподавательской деятельностью в Московской духовной академии. В опубликованной в 1908 г. лекции «Космологические антиномии Иммануила Канта» имеются указания на её пропедевтический характер, она служит подготовкой к уяснению антиномической составляющей «Столпа и утверждения Истины». Кроме того, данная лекция позволяет установить время, когда Флоренский обращается к антиномии как методу. Если антиномический склад мышления и вообще антиномизм как свойство личности присущ был Флоренскому с детства, как он сам свидетельствовал об этом в воспоминаниях, то к понятию антиномии он обращается, скорее всего, учась в академии. «Каким холодным и далеким, каким безбожным и чёрствым кажется мне то время моей жизни, когда я считал антиномии религии – разрешимыми, но ещё не разрешёнными, когда я в своём гордом безумии утверждал логический монизм религии»208. С. М. Половинкин считает, что здесь речь идёт о студенческой работе Флоренского 1906 г. «Понятие Церкви в Священном Писании»209, однако в данной работе Павел Александрович указывает на антиномию Божественного и человеческого как двуединого начала Церкви210. Примером непринятия антиномизма является статья Флоренского 1904 г. «Об одной предпосылке мировоззрения»211, где он говорит о том, что не может одна истина исключать другую212. Однако в работе «Сочинение Оригена “Περὶ ἀρχῶν” как опыт метафизики», датированной П.А. Флоренским 3 ноября 1904 г.213, он использует антиномию конечности и бесконечности мира214. Таким образом, можно заключить, что началом использования понятия антиномии П. А. Флоренским является 1904 г.
С работами Канта Флоренский был знаком ещё в 1900 г., о чём свидетельствуют его письма215. Отметим письмо от 6 октября 1902 г., в котором он сообщает о том, что берётся за перевод «Физической монадологии» Канта216. Однако оригинальная концепция антиномизма Флоренского складывается начиная с критики антиномий чистого разума.
В лекции обзор этих антиномий открывается противопоставлением «двух исполинов философии»217 Платона и Канта как носителей соответствующих принципов «истины от Бога» и «истины от человека». «Критика чистого разума» Канта, исследующая пределы человеческого разума, приходит к выводу об ограниченности рационального познания областью чувственного опыта, знание же за-опытное, метафизическое, является несостоятельным, «суетным притязанием разума»218. Трём метафизическим идеям – души, мира в целом и Бога – в «Критике» соответствуют рациональные психология, космология и теология. Применённые к этим предметам метафизики четыре категории качества, количества, отношения и модальности, составляют, по Канту, её основное содержание. Для подтверждения своей критики немецкий философ обращается к космологии. Рассматривая её по указанным категориям, он формулирует четыре тезиса с соответствующими и, как предполагалось Кантом, равноубедительными им антитезисами, что должно означать, по его замыслу, непреодолимую противоречивость попытки рассматривать мир в качестве целого.
I. Первая антиномия определяет мир по количественной характеристике, где тезису – у мира есть начало во времени и границы в пространстве – противостоит антитезис: у мира нет начала во времени и границ в пространстве – он бесконечен в отношении времени и пространства. Флоренский кратко излагает кантовские доказательства тезиса, которые сводятся к тому, что если бы у мира не было начала, то и настоящий момент был бы невозможен (бесконечность ряда состоит в том, что он никогда не может быть закончен последовательным присоединением конечных частей)219. В конечном же времени не может существовать бесконечного пространства: «Синтез бесконечного протяжения невозможен в конечном времени»220. Антитезис доказывается тем, что если время и пространство ограничены, то за их пределами находятся пустые время и пространство, которые ничем не отличаются от первых.
II. Вторая антиномия содержит тезис о том, что всё сложное состоит из простого, т. е. существует только простое и то, что из него составлено; и антитезис: сложное не состоит из простого – в мире вообще нет ничего простого221. Если предположить, что в мире существует только сложное, то мысленное удаление его сложений приводит к отрицанию бытия. Следовательно, либо эта абстракция невозможна (а значит, и сложность как состоящая из субстанций невозможна), либо после мысленных удалений должно остаться нечто простое. Обратное утверждение доказывается посредством того, что всякая простая вещь пребывает во времени и пространстве, что предполагает последовательность состояний, а это уже вносит в вещь усложнение.
III. Тезис третьей кантовской антиномии: в мире существует свободная причинность222. Антитезис: свободы не существует – мир живёт по законам природы223. Как и в первых двух антиномиях, доказывание тезиса и антитезиса ведётся от противного (апагогически). Предположим, что всё в мире совершается по законам природы, тогда последующая причина должна иметь предшествующую, т. е. возникает бесконечный ряд причин, сам не имеющий определённой причины. Получается, что закон абсолютной причинности сам себя отрицает. Следовательно, необходимо допустить такую самопроизвольную причину (трансцендентальную свободу), которая сама порождает явление, далее развивающееся согласно природной причинности.
При доказательстве антитезиса утверждается, что само понятие природы включает в себя признание полного господства причинности. Свободная причина разделяет природу на два состояния: первое – до бытия этой свободной причины, второе – после неё. Раз данная первопричина свободна, то последующее состояние никак не связано с предыдущим, что противоречит определению «последующего» и «предыдущего» как причинно-следственного ряда. Заметим, что антиномия свободы и необходимости будет рассматриваться Кантом и в двух последующих критиках: практического разума и способности суждения.
IV. И наконец, тезис четвёртой антиномии гласит: «К миру принадлежит, или как часть его, или как его причина, безусловно-необходимое существо»224. Ему противоположен антитезис, отрицающий необходимость абсолютного Существа в мире или вне мира как его причины.
Изменчивость чувственного мира всегда обусловлена, полный же ряд условий восходит, по логике, развиваемой Кантом, к абсолютно-безусловному, что доказывает правильность тезиса. Обратное доказательство не признаёт за началом возможности быть безусловным, т. к. всякое начало подразумевает предшествующий момент, что входит в противоречие с определением безусловного.
Итак, изложенная антитетика должна была служить дополнительным подтверждением кантовских утверждений об идеальности времени и пространства и необходимости различения явлений и вещей в себе, составляющих основу его трансцендентального идеализма. Обратим внимание, что тезисы этих четырёх антиномий выражают христианское мировоззрение: 1) у мира есть начало, 2) не всё в мире можно разложить на составляющие элементы, существуют и неделимые, простые вещи, например, душа человека, 3) человек обладает свободой воли, 4) у мира есть Творец.
Критику представленных антиномий П. А. Флоренский начинает с обличения ошибок в классификации антиномий. Так, первые три антиномии говорят о бесконечном и конечном в мире, четвёртая же вводит не космологическое, а онтологическое понятие абсолютно-необходимого Существа. Первая антиномия, напротив, сливает вместе вопросы о бесконечности пространства и бесконечности времени. Пространство, по Флоренскому, характеризуется понятием актуальной бесконечности, время же дано актуально лишь в прошлом, а в будущем оно – потенциально бесконечно. Относительно пространства Флоренский применяет понятия интеграла и дифференциала, а для характеристики количества материи вместо величины протяжения использует величину массы. В итоге три указанные космологические антиномии Флоренский распределяет по шести антиномиям, две из них математические; 1) мир в пространстве протяжён конечно или бесконечно; 2) мир во времени протенсивен конечно или бесконечно; и четыре динамические антиномии, попарно отнесённые к времени и пространству: 3) мир по массе конечен или бесконечен (прогрессивное, интегральное рассмотрение); 4) мир по массе можно рассмотреть до конечного предела или он беспределен (регрессивное, дифференциальное рассмотрение); 5) конец причинности события находится в конечном или бесконечно отдалённом будущем (прогрессивное рассмотрение); 6) начало причинности событий находится в конечном или бесконечном прошедшем (регрессивное рассмотрение).
А.Т. Казарян указывает, что критика антиномий основывается у Флоренского на двух аргументах: «традиционном, направленном против кантовского понимания вещей в себе, и относительно новом, предполагающем использование идеи актуальной бесконечности для анализа “математических” антиномий»225.
По поводу первого аргумента Флоренский указывает, что Кант, обозначая цель доказать антиномичность идеи мира, говорит лишь о пространстве и о времени, доказывая тем самым антиномичность форм созерцания: «Не свойства вещей – противоречивы, а – лишь свойства пространства и времени»226. Последние, согласно Канту, не даны нам в опыте, а являются только нашими представлениями о пространстве и времени. Но и в сфере трансцендентального П. А. Флоренский считает антиномии Канта недоказанными. Флоренский обращает внимание по поводу антиномий разума, что Кант утверждает в тезисах, о «немыслимости противоположного, а в антитезисах – онепредставимости противоположного»227. Это разные функции сознания, Кант же говорит о них как об одной, обнаруживающей свою самопротиворечивость. Флоренский приводит пример удаляющегося от наблюдателя предмета: для зрения размер предмета меняется, для рассудка такой предмет неизменен, что, естественно, не является антиномией.228
Однако при своём несогласии с Кантом Флоренский ставит ему в заслугу формулирование идеи о возможности антиномий разума, называя её «самой глубокой и самой плодотворной идеей Канта»229. Определение антиномии в этой лекции также даётся в соответствии с тем, как понимал их Кант в качестве противоречивых высказываний, к которым, однако, разум вынужден прибегать в силу своей организации230.
Дилемма конечного и бесконечного, к которым сводятся рассматриваемые космологические антиномии, выражает, согласно Флоренскому, коренную норму самого разума, который «дву-законен, дву-центрен, дву-осен»231. Конечное начало разума, его статика – это логический закон тождества, согласно которому, чтобы мыслить предмет (А), его нужно отграничить от других предметов (не-А), установить тождество предмета самому себе (А=А). Бесконечное начало разума, его динамика – это закон достаточного основания, согласно которому невозможно объяснить предмет через самого себя (тавтология), его объяснить можно только через другой (А=не-А). Декартовское требование мыслить ясно и отчётливо означает «под А разуметь именно А и ничего более»232. Объяснять – значит идти от А к не-А. Но чтобы «разуметь» предмет, нужно его понимать, т. е. чтобы установить А=А, нужно установить не-А, а для последнего нужно знать А. Таким образом, одна функция разума предполагает другую и одновременно исключает её. Причём каждое определение требует последующего и так до бесконечности. Первая норма требует остановки мысли, вторая – её бесконечного движения.
Итак, с критики И. Канта начинается построение уже собственного философского учения П. А. Флоренского об антиномии, которое будет развиваться в его последующих философских трудах.
2.2. Идея дихотомии как основа антиномичности
Несмотря на преобладание риторического содержания первого письма книги «Столп и утверждение Истины» и отсутствие какого бы то ни было упоминания о противоречиях, всё же это письмо представляет собой не вступление, которое было раньше («К читателю»), а основу исследования – перед нами открывшаяся завеса, обнаруживающая «Два мира». Творец и творение, мир горний и мир дольний, Небо и земля, невещественное и вещественное – и в то же время единый мир, не двусоставный, но двуединый. Мир един как находящийся в Боге. Нет мира вне Бога, «параллельного» абсолютному Богу; нет мира, не охваченного вездесущим Богом. В дальнейшем эта идея будет развита в Письме десятом «София».
Можно сравнить это базовое положение книги с учением преп. Максима Исповедника, согласно которому мир делится на умопостигаемый и чувственный, «при этом мир един и не разделяется <...> Путём возведения к своему единству и неделимости он упраздняет различие»233 своих частей. Здесь же святой излагает близкую творчеству Флоренского мысль: умопостигаемый мир отпечатлён в чувственном посредством символов; чувственный мир содержится в умопостигаемом посредством логосов234 (у Флоренского чаще – посредством идеи).
В первом письме излагается 43 зачало Евангелия от Матфея (Мф.11:23–30) о покое для труждающихся и обремененных и о бремени легком, что также звучит вполне антиномично. Вообще вся 11 глава Евангелия от Матфея, по мнению о. Павла, посвящена вопросу познания, а точнее о недостаточности познания рассудочного и необходимости познания духовного235. Здесь, в первом письме, отец Павел даёт символическое описание проблемы расколотости мира и задачи его соединения.
В Послесловии он вновь обратится к первому письму, и уже с высоты пройденного пути читатель может оглянуться на точку отправления, утверждающую о двуемирии, причём этот мир весь рассыпается в противоречиях, – если только не живет силами Того мира236. И уже конкретно о существе данного противоречия: «Антиномии раскалывают всё наше существо, всю тварную жизнь. Всюду и всегда противоречия!»237 Здесь же формулируется и выход из противоречия, он заключается в вере, препобеждающей антиномии сознания238.
Итак, в Письме первом «Два мира» о. Павел Флоренский символически указывает на причину антиномичности сознания (раздробленность мира), а также мы обнаруживаем для себя первую антиномию двуединости мира: мира два – мир един (2=1).
2.3. Антиномичность истины
«Истина есть антиномия»239. Об этом отец Павел говорит в шестом письме «Противоречие». Однако антиномическую природу истины он начинает открывать еще во втором письме «Сомнение».
Что есть истина по существу? Каково философское понимание истины? Для ответа на этот вопрос о. Павел ставит ряд других последовательных вопросов, начиная с условий достоверности истины.
Автор указывает на два вида суждений: I) непосредственное, суждение через себя, само-очевидность интуиции, конкретная данность; II) опосредованное, через другого, дискурсия, отвлеченно-логическое суждение.
I. Первое делится еще на три:
а) само-очевидность чувственного опыта: достоверен внешний опыт, восприятие чувств (чувственно-эмпирическая данность);
б) само-очевидность интеллектуального опыта: достоверен внутренний опыт, всё то, что приводится к аксиоматическим положениям рассудка (трансцендентально-рационалистическая данность);
в) само-очевидность мистической интуиции: достоверно лишь восприятие субъект-объекта, в котором нет разделения на субъект и объект (подсознательно-мистическая данность).
Таким образом, сама действительность является критерием истины, что означает: действительность является критерием действительности (раз я вижу вещь, значит, она есть). Основное положение самоочевидности утверждает, что вообще всякая данность есть она сама: всякое А есть А. Так формулируется логический закон тождества, статическое начало разума.
А=А. Эту тавтологическую формулу Флоренский называет безжизненной, безмысленной и поэтому бессмысленной240. Закон тождества не способен к объяснению, так как «объяснить А это значит привести А “к другому”, к не-А, к тому, что не есть А и что, следовательно, есть не-А»241, т. е. установить А=не-А.
II. А=не-А устанавливается вторым видом суждения – опосредованным суждением, дискурсией. Доказать суждение – значит показать, как одно суждение образует следствие другого. Однако, здесь проявляется недостаток дискурсии – бесконечность этих логических цепочек.
Сравнение интуиции и дискурсии демонстрирует их противоположность. Отец Павел использует следующие характеристики интуиции – дискурсии: конкретное – отвлеченное;
актуальное – потенциальное;
действительное – возможное; реальное – ирреальное; условное – безусловное.
Ни один из этих двух критериев, делает вывод П. А. Флоренский, не дает достоверности. Попытка подняться над этими критериями, прибегнуть к скепсису, приводит, по мысли философа, к состоянию ἐποχή – воздержанию от всякого высказывания, опять же по причине «властного противоречия»242, в данном случае противоречия между доказательностью и очевидностью истины, аподиктичностью и ассерторичностью суждения.
В обобщенном виде ἐποχή сводится к двух-составному тезису: Я ничего не утверждаю; не утверждаю и того, что ничего не утверждаю. Оба суждения можно представить следующим образом:
А есть А;
А не есть А.
Такова формула абсолютного сомнения, где рассудок доходит до собственного отрицания243.
Отчаявшись в рассудочном поиске достоверности, философ вступает на новую почву – пробабилизма (пробы, опыта) – с надеждой, что он окажется достоверным. Предполагается, что умозрительные искания с этого момента переносятся в область опыта, соединяющего в себе внешнее восприятие, фактичность, с внутренней. В последующей за «Столпом» антроподицее эти две стороны будут представлены в синтезе вещи и мысли, а также instrumenta и notiones. Здесь же предлагается следующее построение:
1) абсолютная Истина существует, т. е. представляет собой реальность;
2) абсолютная Истина познаваема, т. е. представляет собой разумность;
3) она дана как факт, доступный интуитивному схватыванию, и она же имеет строение бесконечной дискурсии.
Общим выводом становится: «Истина есть интуиция-дискурсия»244.
Истина предстаёт здесь в качестве реальной разумности и разумной реальности, конечной бесконечности и бесконечной конечности, что соответствует понятию актуальной бесконечности: «Безконечное, мыслимое как целокупное Единство, как единый, в себе законченный Субъект»245. Также Истина предстаёт в этих рассуждениях как движение неподвижное и неподвижность движущаяся. И наконец, «Она – единство противоположного. Она – coincidentia oppositorum»246. Приводим данную цитату с целью показать, что Флоренский близок к построениям Николая Кузанского, впоследствии развитым С. Франком. Но в шестом письме Флоренский однозначно укажет, что не применяет противоположность к осмыслению Самой Божественной реальности, а только Откровению о Ней. Здесь же возможно интерпретировать единство противоположного как относящееся к нашим представлениям о Боге, как к Богу-для-нас.
Отец Павел ещё не называет истину антиномией, постоянно подбирая ей новые имена, тем самым давая новые характеристики и самой антиномии. Говоря об ἐποχή (воздержание от суждения), отец Павел установил следующую формулу абсолютного скепсиса: А есть А и вместе с тем А не есть А. Когда же речь пошла об установлении истины как интуиции-дискурсии путем пробабилизма, то итог этого рассуждения есть формула А есть А (интуиция) и А не есть А (дискурсия). Только если для скептического рассудка такой вывод представляет собой непреодолимое противоречие (абсолютное сомнение), то для опыта, первоначально принявшего на веру возможность существования этого противоречия, эта формула является определением истины, а равно антиномии: А=А и одновременно А=не-А:
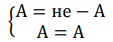
Каково значение этого установления? В первую очередь, это касается оправдания закона тождества: «Тождество мертвое в качестве факта, может быть и непременно будет живым в качестве акта»247. Мертвенность самотождества «А=А», в силу которого А эгоистически исключает всякое не-А, сменяется содержательным реальным самотождеством А, «вечно отвергающегося себя и в своем само-отвержении вечно получающего себя»248. Вот смысл и значение антиномии: А есть А через утверждение себя как не-А.
На основании этих выводов о. Павел переходит к обоснованию само- доказательного Субъекта. Как выявляет себя А? Через не-А, его можно обозначить как Б, которое также преодолевает самотождество в не-Б. Последнее не сводится к А, это бы означало, что А и Б тождественны. Чтобы Б было реальностью, не-Б обозначается через В. «Другое» В, не-В, открывает А: в не-В А находит себя, как А249.
Таким образом, пользуясь установленным «А есть А, ибо А есть не-А», отец Павел обосновывает существование А через Б, но чтобы обосновать реальность Б («Б есть Б, ибо Б есть не-Б»), он вводит дополнительное В, которое также обосновывает и А. Каждый субъект этого троичного отношения обосновывает (оправдывает, выявляет, устанавливает, выводит из самотождества) два других. Такой путь рассуждений сопоставѝм с апофатическими рассуждениями свт. Григория Богослова: «Сын не Отец, потому что Отец один, но то же, что Отец. Дух не Сын, хотя и от Бога, потому что Единородный один, но то же, что Сын. И Три – едино по Божеству, и Единое – три по личным свойствам»250.
Флоренский объясняет откровение Святой Троицы с точки зрения дискурсивного мышления: «Через Ты субъективное Я делается объективным Он, и в последнем имеет своё утверждение, свою предметность как Я. Истина созерцает Себя чрез Себя в Себе. <...> Истина – созерцание Себя через Другого в Третьем: Отец, Сын, Дух»251.
Таким образом отец Павел формулирует сущность (οὐσία) как отношение Трёх, но отношение, являющееся субстанцией. Ключевым моментом этого открытия, зерном этого философского метода является синтез противоречий – антиномия.
Изложенное обоснование истины состоит из двух блоков. Первый – определение истины как сочетания двух противоположных познавательных подходов: интуиции (закона тождества) и дискурсии (закон достаточного основания)252. Второй блок рассуждений – это обоснование Божественной Истины как Субъекта.
Если в Письме втором: «Сомнение» о. Павел основной упор делает на логической несовместимости интуиции и дискурсии, то возвращаясь в «Послесловии» к данной теме, он уже подчеркивает необходимость их друг для друга, т.е. синтетическую часть их антиномии: «Одна функция разума предполагает другую; но вместе, одна – исключает другую»253.
В отличие от первых глав книги, постепенно подводящих к её сердцевине – антиномичности истины – и не упоминающих о ней вначале, теперь, в «Послесловии», автор постоянно обращается к понятию «антиномия». Так, он говорит, что рассудок одинаково нуждается в обеих своих нормах (начале конечности, статичности и начале бесконечности, динамичности), которые, однако, несовместимы: «Нормы разсудка необходимы, но они – и невозможны. Разсудок оказывается насквозь-антиномическим, – в своей тончайшей структуре»254.
И наконец, основной вывод всей книги, ответ на её главный вопрос о том, как возможен рассудок? Он возможен тогда, когда мыслимая им конечность есть бесконечность, и наоборот, когда мыслимая в рассудке бесконечность есть конечность; или, наконец: «Разсудок возможен, если дана ему Абсолютная Актуальная Бесконечность»255, что можно понять как принятие рассудком Божественного Откровения. Здесь о. Павел и приходит к главному предмету своей теодицеи – оправдания, т. е. выявления, постижения Истины. Таким объектом мышления, делающим рассудок возможным, оказывается Триипостасное Единство – «предмет всего богословия, тема всего богослужения и, наконец, заповедь всей жизни»256.
Обратимся к критике изложенной концепции. Она представлена, в частности, работой П. П. Гайденко, в которой утверждается в качестве основного тезиса, что троичный догмат отменяет, согласно отцу Павлу, закон тождества257. Этот закон логики, как мы убедились, вовсе не отменяется концепцией отца Павла; а напротив – он составляет тезис антиномии истины. Об этом отец Павел говорит на протяжении всего Письма второго «Сомнение» и повторяет в «Послесловии». Однако, в отрыве от своего антитезиса (закона достаточного основания, дискурсии) закон тождества является самозамкнутым и безжизненным. В дальнейших рассуждениях «Столпа» (также и других работ) ему будет противопоставляться состояние любви и самоотречения. «Любовь к другому, согласно Флоренскому, требует отказа от закона тождества, отмены его»258, – пишет Пиама Павловна. Преодоление закона тождества, отказ от следования закону совсем не означает отрицание самого существования закона259.
Однако если говорить о законе тождества не в гносеологическом, а в метафизическом смысле, исповедовать его в качестве бытийного начала (например, в кантовской этике автономного «Я»), то отец Павел, действительно, его опровергает. Более того, вместо А=А (закона тождества) своей последовательной философией утверждает А=не-А (противоречие) именно в качестве онтологического принципа. Что также находит свою критику П. П. Гайденко, которая в антиномической диалектике Флоренского видит «непреодолимую двусмысленность»260: несовершенство рассудка здесь сталкивается с утверждением, что «антиномична именно божественная реальность»261. По Флоренскому, Божественная реальность не антиномична, в Боге противоречий нет. Об этом говорится в Письме шестом «Противоречие» о том, что Божественная Истина, возвещённая твари, «делается знанием об Истине. Знание же об Истине есть истина»262. Истина-Господь не антиномична, истина же о Господе есть антиномия. П. П. Гайденко сама приводит цитату из «Столпа»: «Есть два мира, и мир этот весь рассыпается в противоречиях, – если только не живет силами того мира»263. Здесь антиномии, Там антиномий нет. Мнение П. П. Гайденко повторяют, ссылаясь на неё, Н. К. Гаврюшин264 и С. Б. Егорова265. Данная критика опирается также на рецензию Е. Н. Трубецкого «Свет Фаворский и преображение ума». Рассмотрим более подробно указанную работу.
Исходные вопросы рецензента касаются преображения ума человека: верит ли автор «Столпа» в это преображение, признаёт ли он в нём нравственную необходимость, или же ум просто устраняется?266 Преображение человека должно начинаться ещё на земле, в том числе и преображение человеческого ума. Антиномизм Флоренского, по мнению Трубецкого, противоречит этому положению. В чём именно?
Преображённый ум – это цельный, а не раздвоенный ум. Таким он был до грехопадения, и таким он должен стать в обόженном состоянии. В этом оба философа согласны. Разногласия начинаются тогда, когда речь заходит о нынешнем земном бытии человека. Е. Н. Трубецкой признает существование антиномий, но они для него свойство греховности человека. Это же понимание антиномизма он видит и у Флоренского, когда тот, говоря о внутренней противоречивости рассудочной деятельности, обнаруживает её греховное состояние267. И если бы отец Павел оставался на данной точке зрения, это устроило бы Е. Н. Трубецкого, никаких расхождений с истиной он здесь не видел бы. Но в том и заключается особенность антиномизма Флоренского, что антиномию он признает нормой человеческого рассудка.
С положением, что антиномична сама истина, «истина с маленькой буквы, а не с большой, истина об Истине»268, и не соглашается Е. Н. Трубецкой. Утверждения об антиномичности догмата, о том, что противоречие вообще составляет печать истинного, встречают его отпор269.
В такой интерпретации учения Флоренского оно действительно видится внутренне противоречивым. Грех не может быть нормой. Антиномия же есть свойство греховности, следовательно, истина не может быть определяема через антиномию. Символично, что этот главный богословский вопрос, заданный антиномизму, находит твёрдое основание в высказывании именно Аристотеля: «Трудно говорить хорошо на основании нехорошего»270.
Является ли антиномия свойством греховности человека? Чтобы разобраться в этом вопросе, требуется предварительно ответить, из чего следует, что антиномизм заражен грехом? Из того, что грехопадение нарушило целостность мира, внесло в него дробность, сами внутренние силы человека вступили в противоречие. Но из этого положения можно заключить только то, что раздвоенность бытия есть последствие грехопадения. Точно таким же последствием является человеческое тело (с его болезненностью и смертностью), человеческая душа (с разладом своих сил), само земное бытие (наличие в нём зла). Раздвоенность не означает греховности. Быть последствием грехопадения, иметь на себе печать греховности не означает быть греховным.
Вывод: антиномия не есть свойство греховности. Антиномия есть свойство бытия. Это один из принципов, формулируемых Флоренским. Грех не имеет бытия, он лишь искажает его, паразитирует на нем (следовательно, грех неантиномичен, в чём также есть расхождение с Трубецким271).
Однако прямо о не-греховности антиномии отец Павел не пишет, поэтому и создается впечатление противоречивости его утверждений об антиномии как об истине и греховности. Как видно, этот вопрос в «Столпе» им только обозначен, но не выяснен. Последующие работы уже дадут ясный ответ о природе антиномизма.
Итак, для Е. Н. Трубецкого антиномия свойственна греховности; для П. А. Флоренского антиномия свойственна бытию, однако её связанность с греховностью однозначно Флоренским не выяснена. Последнее обстоятельство естественно влечет за собой такой взгляд на антиномизм Флоренского как на «непреодолённый скептицизм»272.
В вопросе о допустимости противоречивости религиозной истины
заслуживает внимание следующее рассуждение Д. Андерсона. Он говорит о том, что мы могли бы уверенно утверждать, что наш ноэтический аппарат достаточен для того, чтобы систематизировать самораскрытие Бога способом, свободным от всех противоречий, только в том случае, если бы этот факт был зафиксирован в Божественном откровении. Но у нас нет такого откровения. Поэтому там, где мы способны выражать христианские доктрины, не порождая логических странностей, мы можем заключать, что наш разум приспособлен для этой цели; там, где мы не в состоянии этого сделать, мы должны остановиться на парадоксе273.
Подводя итог рассмотрению письма второго «Сомнение», ещё раз отметим его методологическое значение, выраженное формулой А=не-А. Всякая вещь тождественна сама себе, оформлена и отличается от других вещей, А=А. Но само оформление вещи, её определение, обнаружение, раскрытие происходит посредством других вещей: изолированность вещи возможна только благодаря другим вещам, то есть всякая вещь определяется через другую, отличающуюся от неё вещь, через выход из самотождества, А=не-А. Таким образом, всякое понятие о вещи можно представить в виде бинарной структуры (двойственности, парности): она и не-она. Причём эта бинарная структура имеет вид противоречия. Это важно отметить, так как в письме шестом «Противоречие», излагающем теорию антиномии, основным тезисом будет «истина есть противоречие». С точки зрения письма второго истина имеет бинарную логическую структуру, что не исключает иные вѝдения истины, например, троичное.
2.4. Антиномичность идеи единосущия
Ни разу не назвав в письме «Сомнение» синтез противоречий антиномией, в следующем письме «Триединство» о. Павел Флоренский тут же ставит её в центр внимания:
«Термин ὁμοούσιος и выражает собою это антиномическое зерно христианского жизне-понимания, это единое имя (“во имя Отца и Сына и Св. Духа”, а не “во имена”) Трёх ипостасей»274.
Если кратко сформулировать эту антиномию, то она представляет собой «Троицу во Едѝнице»: 3=1275. Однако, чтобы поставить знак равенства, нужно показать, что οὐσία и ὑπόστασις обозначают одно и то же. Отец Павел обосновывает свою позицию историческими и философскими аргументами; особенно здесь важен богословский аргумент, согласно которому, любые попытки провести логическое разграничение οὐσία и ὑπόστασις ведут к рационализированию догмата, к «сечению Несекомого», к так называемому, тритеизму276.
Отец Павел приходит к следующему выводу: терминологически ὑπόστασις и οὐσία различны, первый отражает особенное, второй – общее в Святой Троице, но их содержание тождественно: всё, чем обладает Отец, есть и у Сына; рождённость Сына ничего не вносит в Его природу в сравнении с исходящим от Отца Духом. Развитию этого положения посвящены работы В. Н. Лосского, указывавшего, что тринитарное святоотеческое богословие сумело сохранить в различении природы и Ипостасей их таинственную равнозначимость277. Владимир Николаевич отмечал в этом вопросе заслугу священника Павла Флоренского: «По мысли современного русского богослова отца Павла Флоренского, для того, чтобы человеческая мысль обрела абсолютную устойчивость, нет для неё другого выхода, как принять троичную антиномию»278.
Приводимые отцом Павлом в рассматриваемом письме цитаты святых отцов по поводу единосущия являются также обоснованием и антиномизма: Характерно в этом контексте утверждение свт. Афанасия о том, что ипостась есть сущность279. В этой неоднократно встречающейся у александрийского епископа формуле Флоренский видит абсолютное равновесие тринитарного догмата, одинаково удалённого от ересей модализма и тритеизма. Флоренским приводятся слова свт. Василия Великого: «Не удивляйся, если говорим, что одно и то же и соединено и разделено, и если представляем мысленно, как бы в гадании, некое новое и необычайное разделение соединённое, и единение разделённое»280. В этом высказывании обращает на себя внимание одновременное использование противоположных терминов разделения и соединения, что подчёркивает сверхразумную природу догмата.
Не менее антиномичны слова свт. Григория Нисского, подчёркивающие эту сверхразумность, невозможность «уяснить словом этой неизреченной глубины таинства: как одно и то же исчислимо и избегает исчисления, и разделённо зримо и заключается в единице, и различаемо в ипостаси и не делимо в подлежащем»281. Также здесь встречаем у Флоренского лаконичную строку канона преп. Андрея Критского: «Троице Едѝнице, помилуй мя!»282
Архиеп. Василий (Кривошеин) применяет термин «антиномия» при объяснении слов свт. Григория Нисского о Боге, «“Кто един и не един”283. И он объясняет, как следует понимать это антиномическое единство-неединство: “По сущности Он – един, вот почему Владыка заповедал нам взирать на единое имя. Но по свойствам <...> имя разделено верой во Отца и Сына и Святого Духа, разделено без отделения и едино без смешения”284»285. Владыка Василий заключает, что для свт. Григория «простота Божественной природы совместима с ипостасными различиями, реально, хоть и антиномично, существующими в Боге, и что они не вносят сложности в Его природу»286.
Наряду со святителями Афанасием Великим, Василием Великим и Григорием Нисским укажем имена святителей Григория Богослова287 и Евлогия Александрийского288, блаженного Августина289, преподобных Максима Исповедника290, Иоанна Дамаскина291, Симеона Нового Богослова292 у которых понимание догмата Святой Троицы изложено в схеме тождества троичности и единства.
Обратим внимание на концептуальные взгляды отца Софрония (Сахарова): «Главная антиномия догмата о Троице состоит в том, что Лицо-Ипостась и Сущность – абсолютно тождественны, а вместе и совершенно различимы»293. Сущность и Ипостась едины, «между ними нет ни малейшего противоположения»294. Это единство отец Софроний видит в данном на Синае откровении Аз есмь сый (Исх. 3:14)295. Аз выражает Ипостась, сый – Сущность, и между ними установлено тождество. Концептуальность этой позиции усматривается в том, что троичный, а также халкидонский, догматы автор связывает с аскетикой: «Вне этого видения, вне этого “равновесия” и в подвижничестве мы теряем, как мне кажется, настоящий корректив всего, настоящее “направление”, ту линию, по которой мы, как по компасу, направляем корабль нашей жизни»296. Последняя фраза, содержащаяся в письме к отцу Георгию Флоровскому, сопровождается просьбой к нему утвердить в правоте или удержать от заблуждения. Ответ о. Георгия: «C тем, что Вы говорите об антиномии Троического Бытия, я вполне согласен...»297.
В решении этого вопроса предшественником архим. Софрония был Флоренский. Понятие единосущия – центральное в триадологии и христологии – отец Павел Флоренский распространяет на человека и на тварное бытие в целом, делает его термином онтологии. Об этом писал Николай Онуфриевич Лосский о заслуге отца Павла, которая заключается в том, что он «ввёл принцип единосущности в метафизику тварного бытия, благодаря чему было положено начало его сознательному использованию во всех сферах современного богословия и философии»298. Дальнейшие главы дают возможность убедиться в этом выводе.
Отец Павел многие понятия богословия использовал в философском смысле. Это относится к понятиям: единосущие и подобосущие, усия и ипостась, сущность и энергия, неслитное и нераздельное соединение, пресуществление и другим. В монографии о П. А. Флоренском этот метод назван отцом Андроником (Трубачёвым) аналогическим продогматизмом299. Однако эти богословские термины каждый в своё время были заимствованы из философии, Флоренский же возвращает их обратно, но уже наполненных церковным смыслом.
И ещё один вывод, который мы можем сделать из рассмотрения пары οὐσία и ὑπόστασις как антиномии. Невозможно обойти вниманием исторический факт сохранения староникейской терминологии (ὑπόστασις οὐσία ἐστί), которую не вытеснило окончательно новоникейское словоупотребление (например, в высказывании свт. Кирилла Александрийского о единой природе Бога Слова300 и в приведённой выше цитате преп. Иоанна Дамаскина). С точки зрения антиномического подхода староникейская терминология отражает единство, новоникейская – различие в догмате. Такой вывод делается исходя из методологии Флоренского: интуиция (А=А) заботится об установлении самотождества вещи, а дискурсия (А=не-А), выводит её из самотождества, объясняя, раскрывая вещь через другую, при этом вещь должна оставаться сама собой. Таким образом, обе стороны нуждаются друг в друге. Староникейское отождествление усии и ипостаси позволяет выдержать баланс, уловить отклонение от него, развитием одной стороны уравновесить отклонение другой. Новоникейское терминологическое различение позволяет избегать произвольности выражений и проясняет смысл троичного догмата с позиции сущности и существования.
2.5. Антиномичность любви
В Письме четвертом «Свет Истины» познание рассматривается с онтологической позиции и выражается в единении познающего и познаваемого, где познание есть выхождение познающего из себя и вхождение познаваемого в познающего301.
Применительно к познанию Истины, к познанию Бога, оно будет означать приобщение Богу, обόжение человека через стяжание любви302. Так божественные имена Истина (Ин.14:6) и Любовь (1Ин. 4:16) открываются в домостроительстве Святой Троицы, в Боге-для-нас, в возможности Богопознания.
Отец Павел следующим образом описывает действие Бога в человеке, обозначенное им как «вхождение» Бога в человека: «Рассматриваемое внутри меня (по модусу “Я”) “в себе” или, точнее, “о себе” это вхождение есть познание; “для другого” (по модусу “Ты”) оно – любовь; и, наконец, “для меня”, как объективировавшееся и предметное (т. е. рассматриваемое по модусу “Он”), оно есть красота»303.
На языке философии для субъекта онтологического познания это единение есть истина, для объекта познания – любовь к нему, а для созерцающего познание – красота. То есть тот, кому открылся Бог – познал Бога и любовь Божию на себе, и этот человек как приобщившийся Богу свидетельствует об истинности своего состояния духовной красотой.
Для учения об антиномии здесь важен переход к обожению, выражающийся в выхождении из себя, «пресуществлении» человека. То, что в философии и психологии получило название экзистенциальной вины304 – ощущение несоответствия самому себе, – в христианстве объясняется целью жизни человека: «Для Себя Ты создал нас, Господи, и не успокоится сердце наше, пока не найдет Тебя»305 (блаженный Августин). В любви, раскрывающей человека, он и находит самого себя. Под Любовью в данном письме «Столпа» понимается в первую очередь Бог.
Данная схема трёх модусов человеческого существования (Я – Ты – Он) применяется не только к отношениям Бога и человека, но и к отношениям между людьми: тот, кто приобщился любви Божией, любит и человека, и вообще всё творение. Любовь преодолевает замкнутость самотождества, делает Я другим – не-Я. Через это преодоление происходит утверждение «ипостасной само- бытности»306 человека, человек обретает себя через другого. Более того, диада любящего и любимого дополняется третьим – созерцающим. Итак, первое Я: любящий и любимый; второе Я: любимый и любящий, которое существует по модусу «Ты»; третье Я, созерцающее красоту осуществлённой заповеди любви, возвращает первым двум Я их изначальное самотождество, вместе с тем третье Я (Он) приобщается единосущию двух первых Я и становится началом новой троицы, из которых образуется церковный организм.
Преодоление закона тождества отец Павел называет взаимным само- преданием, само-истощанием, само-уничижением, опустошением, κένωσις (Флп. 2:7); а данное метафизическое построение – схемой само-обоснования личностей. Методологией здесь выступает выведенная в предшествующих письмах антиномия, в данном случае Я=Я и Я=не-Я.
Отец Павел сравнивает древнее реалистическое жизнепонимание и новое, иллюзионистическое, со свойственным ему психологическим (в противоположность онтологическому) трактованием любви. Для последнего любовь есть то же, что и вожделение. Такое смешение, объясняет П. А. Флоренский, является естественным следствием рационалистического жизнепонимания, которое не различает лицо и вещь307. Важно отметить тенденции двух этих миропониманий: западная философия, вещная, плотская, омиусианская, рационализм – имеет тенденцию к индивидуализму, а в своём пределе – к геенне огненной. Философия христианская, философия личности, духовная, омоусианская – ориентирована на райский идеал. Так, свойства христианской любви представлены жертвенностью, самоотречением; любовь-вожделение, напротив, стремится к обладанию и самонасыщению.
Таковы выводы онтологической гносеологии отца Павла Флоренского, онтологического понимания познания-любви-красоты, суть которого заключается в отказе от своего эгоистического бытия, когда «познание становится любовью»308. Процесс перехода ветхого человека в нового посредством любви – антиномичен.
Рассмотренное письмо четвёртое «Свет Истины» находится между третьим, посвящённым триадологии, и пятым, посвящённым пневматологии. Естественным будет выяснить отношение к христологии четвёртого письма, своим названием, отсылающим к этой теме: Свет истинный (Ин.1:9). Если в триадологическом письме понятие единосущия вполне традиционно используется для понимания троичного догмата, то в данном четвёртом письме посредством единосущия раскрывается понятие любви и отношения между личностями, т. е. затрагивается антропологическая тема. Этот переход требует христологической темы, хотя бы для того, чтобы объяснить возможность стяжания любви, «пресуществления» человека и вообще познания Бога. Это требование выражает принцип, сформулированный свт. Григорием Богословом, согласно которому мы познаём Бога насколько сами Им познаны309. Только воплощение Сына Божия открыло возможность онтологического Богопознания, о котором пишет отец Павел. Во вступительном слове к защите магистерской диссертации «О духовной истине. Опыт православной феодицеи. Столп и утверждение Истины» он указывал, что оставляет «более трудную анфроподицею до лет более зрелых и опытности более испытанной»310. Антроподицея у Флоренского предполагает рассмотрение церковных вопросов, которые являются «обрамлением центрального вопроса анфроподицеи – христологического»311. К нему мы обратимся при изучении «Философии культа», здесь же укажем на логическую необходимость присутствия христологии, более того, именно в своём антиномическом изложении, о котором отец Павел упомянёт в таблице антиномий письма шестого: два естества во Христе соединены неслитно (ἀσυγχύτως) и нераздельно (ἀδιαιρέτως)312. Антиномический подход в изложении предполагающейся в письме четвёртом связки триадологии-христологии- антропологии отмечен в работах В. Н. Лосского313, архим. Софрония (Сахарова)314, митр. Каллиста (Уэра)315. Обратим внимание на выражение свт. Григория Паламы, приводимое о. Иоанном Мейендорфом, о том, что святые «нетварны по благодати»316. Эти слова можно воспринять как заключение христологического силлогизма: Христос единосущен Святой Троице; Христос единосущен человеку; человек имеет возможность войти в единство со Христом. Святые осуществили эту возможность в стяжании Святого Духа.
2.6. Антиномия познания Святого Духа
Тезисом, выносимым для доказательства в пятом письме «Утешитель», является утверждение, что учение о Святом Духе в Церкви развито не столь отчетливо, как учение об Отце и Сыне. Исключениями являются избранники Божии. Полное же вѐдение – всеобщая духоносность – согласно о. Павлу, завершило бы земную историю.
Основной вопрос, которым он задаётся: почему подвижники, познавшие Святого Духа, не излагают пневматологию точно так же, как и в отношении первых двух Ипостасей, отчётливо и решительно?317
Среди приводимых аргументов в пользу указанного тезиса особенно контрастен пример Троицына дня с коленопреклоненными молитвами вечерни (а значит, относящимися к дню Святого Духа): из трёх молитв одна обращена к Богу Отцу и две – к Сыну. На эту несимметричность службы о. Павлу, как он сам сообщает, указал проф. МДА мч. Иоанн Попов318.
Следуя рассуждениям отца Павла, мы обнаруживаем антиномию: Церковь в полноте открывает учение о Святом Духе и вместе с тем Церковь не в полноте открывает учение о Святом Духе.
Церковь открывает учение о Святом Духе: в Церкви собрано богатое знание о Третьей Ипостаси, существует пневматология, Церковь сама является носителем Святого Духа (открывает Его в таинствах, других духовных источниках).
Церковь не открывает учение о Святом Духе в той мере, в какой это делает в отношении двух других Ипостасей: сведения о Духе не так отчетливо, не так заострённо и масштабно изложены; для церковного большинства учение о Святом Духе является прикровенным.
Почему учение об Ипостаси Святого Духа излагается в иной мере и ином качестве?
Можно предложить следующее объяснение. В Православии познание Духа Святого открыто практически. С этого и начинает свою книгу отец Павел: «Для всякого, желающего понять православие, есть только один способ, – прямой опыт православный»319. И если возможно стать католиком или протестантом по книгам, даже не соприкасаясь с жизнью, то чтобы стать православным нужно «окунуться в самую стихию православия, зажить православно, – и нет иного пути»320.
Значение указанной антиномии можно изложить в таком виде: Церковь только приоткрывает для Своих чад теорию о Святом Духе, чтобы не закрыть для них Его практического постижения.
Данный вывод вполне согласуется с начальным тезисом «Столпа» об опытном религиозном познании: «“Живой религиозный опыт, как единственный законный способ познания догматов” – так мне хотелось бы выразить общее стремление моей книги»321.
Данное объяснение можно дополнить. Познающий Святого Духа получает Божественное утешение, радость о Святом Духе. Прикровенное свидетельство о Нём целомудренно оберегает личный опыт знания, которое становится любовью. Также прикровенное свидетельство есть забота о том, чтобы прочитавший об этом опыте не увлекся мечтами о собственном благодатном состоянии – это не что иное, как оберегание от прельщения (к этому понятию Флоренский часто обращается).
Итак, в пользу утверждения Флоренского говорят аргументы о практическом познании Святого Духа; об индивидуальности и неоднородности этого опыта; об исключительно личном характере этого знания и сложности в его передаче.
Подобную точку зрения можно увидеть у митр. Антония: «Положение Святого Духа сложное в нашем понимании и в нашем богословии. Он неуловим. <...> O Нём и Спаситель сказал: Дух дышит, где хочет... откуда Он приходит и куда Он идет, никто не знает (Ср.: Ин.3:8). Единственное, что мы можем о Нём знать, это что Он нас коснулся как ветер»322. Также и В. Н. Лосский пишет о том, что в Своём личном сошествии Дух Святой Своего Лица не являет, Он приходит во имя Сына и остаётся сокровенным323.
В отличие от предыдущей главы в письме «Утешитель» не встречается прямых противопоставлений, только в лирическом вступлении упоминается слово «антиномия»: «Дух Святой и религиозные антиномии, – вот что, кажется, интересовало нас более всего. <...> Несказанно-ликующая тайна нарастала в душе, но мы безмолвствовали о ней, говоря друг другу молчанием»324.
Вступления Флоренского – это не просто психологизм, не просто создание созерцательного настроения для соответствующей мысли. Эти вступления суть направления мысли. В данном случае это мысли об антиномии богословского молчания.
Данная глава важна ещё и своим утверждением необходимости Святого Духа в деле обόжения325 человека в противоположность трактованию взглядов Флоренского как исходящих из концепции изначально обоженных идеальных основаниях твари326. Идеальные основания, а в отношении человека – его сотворённость по образу и подобию Божию, являются именно основаниями, данностью, которые призваны стать началом усвоения Божественной благодати. Наличие идеальных оснований не исключает необходимости стяжания Святого Духа, а, напротив, становятся отправным пунктом в духовном возрастании и Богоуподоблении. Пользуясь терминологией преп. Максима Исповедника, можно назвать эти идеальные основания логосами, а пути обожения тропосами, способами их существования и движения к той заданности, когда Бог будет всяческая во всех (1Кор.15:28). При этом путь обожения представляет собой личные усилия, которые мы можем видеть в жизнеописаниях святых людей. Флоренский предлагал системно изучать их опыт, вплоть до введения кафедры агиологии (с включением агиографии)327.
2.7. Антиномичность догмата
Об антиномичности догмата о. Павел говорит исходя из антиномичности истины, именно такой она представляется рассудку с точки зрения своей логической структуры. Флоренский предъявляет к истине требования независимости от человека, её безусловности – требование абсолютности.
Абсолютная Истина открывается человеку Духом Святым, «Провозвещающий Истину и Провозвещаемая Истина всячески совпадают»328. Совпадают форма и содержание Истины. Однако это сохраняется в моменте Откровения Истины, в Свете Фаворском. Когда же Истина становится достоянием твари, усвояется ею, то единство формы и содержания разрушается, и знание Истины становится знанием об Истине; а последнее есть истина329.
Только благодатный разум, обόженный, находящийся в Боге, просвещаемый Богом, сохраняет знание Истины. Но поскольку существует тварь, постольку и существует истина: «Существование истины есть лишь иное выражение самого факта существования твари»330. А значит, истина будет облекаться в формы, свойственные человеческой природе – в рассудочные формы – подвергающиеся изменчивости и многообразию личного и общественного характера. При этом: «Жизнь бесконечно полнее разсудочных определений, и потому ни одна формула не может вместить всей полноты жизни»331.
Далее отец Павел Флоренский делает заключение, составляющее основу учения об антиномичности истины: рассудочная форма истины может быть адекватна объективной реальности, если эта форма полностью охватывает всё многообразие реальности. Другими словами, рассудочная истина возможна если она предусматривает все возражения на себя и отвечает на них. «Но, чтобы предусмотреть все возражения, – надо взять не их именно конкретно, а предел их»332. Следовательно, истина, содержащая утверждения, должна содержать и все их отрицания, другими словами, «истина есть суждение само- противоречивое»333.
Мы подошли к тому выводу, что – антиномичность лежит в основе истины, той истины, которая была Божественной Истиною, Богоявлением, но стала знанием об Истине, и, следовательно, – истиной. Последняя самопротиворечивостью своей сохраняет себя от опровержения, заранее предусматривая своё отрицание: «Истина потому и истина, что не боится никаких оспариваний; а не боится их потому, что сама говорит против себя более, чем может сказать какое угодно отрицание; но это само-отрицание своё истина сочетает с утверждением»334.
Отец Павел прямо утверждает, что истина есть антиномия335. Познание же религиозной истины требует духовной жизни, требует подвига. Для рассудочной деятельности подвигом самопреодоления, самоотрешения, становится вера. Антиномия побуждает к вере ещё и тем, что является вне-рассудочным объектом и тем самым дает точку опоры для веры. Эта точка опоры – догмат336.
Итак, согласно П.А. Флоренскому, догмат антиномичен: он является суждением и принимается верой, т. е. он требует работы разума337 и духовной жизни.
Предположим, рассуждает Флоренский «от обратного», что догмат не содержит в себе антиномии, тогда его утверждение – цельно. Следовательно, это уже не догмат, а научное положение. «Верить тут нечему, очищать себя и творить подвиг – не для чего. Но мне кажется великим кощунством думать, что религиозная истина, – “святыня”, – постижима при всяком внутреннем состоянии, без подвига»338.
Отец Павел указывает на такое свойство рассудка как его аналитичность: он не охватывает объект в целом, а рассматривает его с различных сторон, разлагает его. По отношению к религиозному познанию аналитический подход может обернуться такой односторонностью, как впадение в ересь: «Ограничение одною стороною – таков, именно, смысл ереси»339.
Итак, если догмат не является антиномией, тогда он, по Флоренскому, – или 1) научное положение, или 2) ересь.
Ересь (αἵρεσις) отец Павел определяет в качестве рассудочной односторонности, выбора, идеи «прямолинейного сосредоточения на одном из многих возможных утверждений»340.
Если антиномия преодолевает плотской разум подвигом веры и благодаря духоносным личностям и Церкви в целом совершает примирение разрозненного, то ересь самовольно, опираясь на собственную логику, останавливается на том, что ей кажется истинным. В конкретно-образной передаче Флоренского это выглядит так: «Объект религии, падая с неба духовного переживания в плотяность рассудка, неминуемо раскалывается тут на аспекты, исключающие друг друга. Дело православного, соборного рассудка собрать все осколки, полноту их, а еретического, сектантского – выбрать осколки, какие приглянутся»341. Понимание ереси как уклонения от антиномии встречается у Жана-Клода Ларше: все ереси пали в один из обрывов, расположенных по обе стороны антиномического пути342. Прот. Геннадий Фаст метафорично излагает эту идею посредством библейского сюжета о разделении иорданских вод пророком Елисеем милотью Илии (4Цар. 2:14): «Ударь плащом своей мысли, и если расступятся воды туда и сюда, если соблюдено равновесие противоположностей (антиномии), то пройдёшь посуху, не утонешь»343. В противном случае – уклонения в сторону от этого пути – неминуемо падение в ересь.
Утверждение отца Павла о том, что все истины религии облекаются в слово не иначе, как в виде противоречия, закономерно встречает свою критику. Одна из первых работ здесь принадлежит Е. Н. Трубецкому. Евгений Николаевич обращает внимание на чрезмерно общий характер утверждения Флоренского: если признать, что всякое вероучение одновременно и «да» и «нет», следовательно, одинаково верным должно считаться «и то, что есть Бог, и то, что Его нет, и то, что Христос воскрес, и то, что Он не воскресал вовсе»344. Этот довод против антиномичности всякого догмата встречается также у С.С. Хоружего345.
С.С. Хоружий подвергает критике утверждение отца Павла о том, что всякий догмат антиномичен, усматривая в этом покушение предписать догмату «вид его сверх-рассудочности и установить самочинный, да к тому же ещё ложный догмат: догмат о необходимой антиномичности любого догмата»346.
Рассуждениям отца Павла Сергей Сергеевич противопоставляет простую очевидность, согласно которой совсем не трудно отыскать среди вероучительных истин не-антиномические положения347.
Утверждению отца Павла о необходимой антиномичности истины мы противопоставляем утверждение о возможной антиномичности истины. Если всякая истина есть антиномия, тогда это утверждение также должно быть антиномичным, поэтому истина есть как антиномия, так и не-антиномия. Истина есть непротиворечие, но она также может иметь вид логического противоречия. Можно назвать парадоксом антиномии заявление о том, что истина есть антиномия: если это так, то истина должна быть одновременно и антиномией и не-антиномией.
В связи с этим вызывает несогласие экстраполяция отцом Павлом Флоренским антиномизма на всякую истину. Так, высказывания «я сегодня выходил на улицу» и «я сегодня не выходил на улицу» должны быть равно истинными, что, естественно, оказывается абсурдом. Религиозной же истине свойственны сверхрассудочность и стремление сохранять равновесие между её тезисом и антитезисом.
Таблица антиномий в письме шестом «Противоречие»
Цель исследования указанной таблицы – убедиться в наличии признаков антиномии в представленных примерах и прояснить их содержание. Особенностью антиномии является наличие в ней: 1) противоречия между двумя истинами; 2) синтеза этого противоречия.
Наличие синтеза в приведённых отцом Павлом примерах обосновывается тем, что одни из них являются догматами веры, другие являются словами Священного Писания, т. е. для церковного сознания они постулируются непротиворечивыми. Действительно, все эти высказывания примирены в разуме, просвещённом христианской верой. Таким образом, синтетическая часть антиномии, объединяющая разрозненные тезис и антитезис, в нашем исследовании не требует доказательства.
Чтобы показать антиномичность этих примеров, остаётся установить их логическое взаимоисключение – противоречие. Чаще всего перед защитниками веры стоит обратная задача, задача внутреннего согласования церковного учения. Для этого, в частности, раскрывается широкий контекст высказываний. В нашем случае рассматриваются только сами словесные формулы.
Последние три примера из таблицы были изучены специалистом в области логики и теории аргументации проф. И. А. Герасимовой, которая не находит в них противоречия. Опровержение её мнения будет дополнительным подтверждением антиномической структуры догмата. Если же наши аргументы окажутся неубедительными, то и тогда церковная истина не пострадает, оказавшись непротиворечивой. Этот вывод согласуется с утверждением отца Павла Флоренского о том, что догмат заранее предусматривает все свои опровержения348.
1. Об антиномии единосущия и триипостасности Бога говорилось в § 2.4. «Антиномичность идеи единосущия». Богословие своей главной задачей ставит выражение истины о Боге. В каком логическом отношении находятся высказанные истины, в консистентном, или парадоксальном, или антиномичном – этот вопрос стоит на втором месте и может даже не подниматься в откровении Истины. Данный способ изложения догматов присутствует в отечественной учебной литературе, где доктрина о Святой Троице сводится к положениям: 1) Бог троичен; 2) каждое Лицо Троицы есть Бог, но Они – не три бога, а один Бог349.
Какое наиболее существенное препятствие стоит на пути признания противоречия между единством и троичностью? Тезис «единство» вполне выражает христианский монотеизм: Бог един. Противоречивым этому тезису было бы утверждение политеизма. Такова ли троичность? Бог Отец, Бог Сын, Бог Святой Дух – именовать Бога тремя Богами не позволяет именно предшествующий тезис о единстве. Примечательно, что в молитвах ко Святой Троице обращение строится не только в единственном числе, но и в мужском роде, например: «Благодарю Тя, Святая Троице, яко не прогневался еси на мя, <...> ниже погубил мя еси, <...> но человеколюбствовал еси»350. Напомним рассуждения митр. Каллиста351. Три лица Пётр, Иаков и Иоанн – это трое людей: 1+1+1=3. Три Лица Отец, Сын и Святой Дух являют собой нумерическое единство: 1+1+1=1. Троица, пишет преп. Максим, есть не сложение единиц, а существование триипостасной Единицы352.
Пред глазами разворачивается, казалось бы, самое ясное противоречие. Но формально-логический подход не позволяет говорить об однозначном противоречии, т. к. христианство не утверждает о трёх богах353. Если бы в качестве антитезиса стояла именно такая формулировка, то, безусловно, речь шла бы о противоречии. На последующих примерах мы также убедимся, что церковные формулировки оставляют некий зазор, формально не дающий сказать, что этот догмат есть противоречие. Этот зазор-средостение, не вытесненный абсолютной рассудочностью, и предполагает место как для веры, так и для рационализирования. С другой стороны, этот зазор не представляет собой ничего третьего, среднего, между тезисом и антитезисом.
Это особенно контрастно выделяется во втором примере:
2. Неслитное и нераздельное соединение природ во Христе также не является противоречием (с точки зрения формальной логики, но не диалектики). Противоречием было бы неслитное и слитное (или нераздельное и раздельное)354. В виде примера можно привести образ кирпичной кладки. Он хорошо отражает понятие неслитности: кирпичи составляют одну стену, но не смешиваются между собой. Однако нераздельность этот образ уже не может так безукоризненно передать: кирпич вполне доступен для отделения от остальных. Именно это разделение присутствует в высказываниях о Христе, Который воскрешает Лазаря как Бог и плачет о нём как человек. Может возникнуть соблазн продолжить эту логику: а изгоняет торгующих из храма – как Бог или как человек? А произносит заповеди – как Бог или как человек? Новозаветное слово Божие в такой интерпретации теряет статус абсолютной истины.
Принцип неслитного и нераздельного соединения Божественной и тварной природ (в Богородице, в святом человеке, в материи, в мире) рассматриваемый не антиномически, т. е. не как «и то, и другое», а как нечто третье, «не то и не другое», как раз и составляет гностическое заблуждение о посредствующей субстанции (не Бог и не тварь, плирома, эоны), которое мы видим в учении о Софии Премудрости Божией постольку, поскольку оно отклоняется от антиномии тварного и нетварного в третье355.
Подобная субстанция (из гностических учений) как раз и возникает на месте этого шва, зазора, расстояния между неслитностью и нераздельностью, грани тварного и нетварного356, если эту грань рассматривать не антиномически, а субстанциально. Эта грань есть, она мыслится, но содержательно она равна нулю, в противном случае её гипостазирования, она становится гностическим «не Бог и не тварь». Таким образом, антиномия есть идеальная (мыслимая) модель равновесия.
Отметим ключевое значение халкидонской терминологии для учения об антиномии в богословии. Как показывает обзор вероучительных антиномий, их основным антиномическим принципом является диада неслитного и нераздельного соединения: 1) Ипостасей в Святой Троице; 2) Божественной и человеческой природ во Христе; 3) Божественных сущности и энергий; 4) Божественной и человеческой природ в человеке (учение об обожении); 5) мирского, «в мире сем», и духовного, «не от мира сего», внутри Церкви; 6) тварного и нетварного в освящении вещества таинств357, или иных сакральных предметов, или мира в целом; 7) ума и души в человеке358; 8) имени и его носителя359.
Да, логически, как разные понятия, неслитность и нераздельность, не исключают друг друга. Точно также не противоречат друг другу предикаты «горит» и «не сгорает», говорящие о неопалимой купине (Исх. 3:2)360: противоречиями будут «горит» и «не горит», «сгорает» и «не сгорает». Но если выяснить диалектический смысл этих понятий, что конкретно они означают, какую предметную реальность они именуют, как они представляются церковному сознанию, то противоречие становится очевидным. Другими словами, значение (экстенсионал) пары неслитности и нераздельности есть противоположность, а смысл (интенсионал) приведённых высказываний с использованием этой пары – противоречие.
Что значит неслитно? Построим смысловой ряд: порознь, отдельно, не вместе, не едино.
Что значит нераздельно? Также построим смысловой ряд: сплочённо, совокупно, цело, вместе, едино. Данный смысловой ряд наглядно демонстрирует, что он противоположен, а местами прямо противоречит первому ряду. Именно в этом смысле данные термины используются в вероучительных формулировках.
Свт. Григорий Богослов подчёркивает взаимоисключающий характер этой пары, когда говорит о единстве Святой Троицы, «соединительно разделяемом и разделительно сочетаваемом, что выше разумения»361. Подобные выражения свт. Григория объясняются исследователями как преднамеренное использование парадокса362.
У преп. Симеона Нового Богослова прямо используется их противоречие: «Единое есть Три по Ипостасям, однородным друг другу по естеству, равномощным и совершенно единосущным, с одной стороны, неслитно превыше ума соединенным, с другой, наоборот, нераздельно разделяемым, в едином Три, и в Трёх едино»363.
Диалектика этих понятий показывает, что граница между одновременно неслитным и нераздельным соединением природ во Христе существует, но равняется нулю. Свт. Григорий Палама, о Богоматери говорит словами «грань тварного и нетварного»364. Применимо к Пресвятой Богородице грань эта так же, как и по отношению к Спасителю, одновременно ничтожна и неуничтожима, поскольку Божия Матерь по естеству есть человек, а не Бог (хотя и ставшая богом по благодати). Если предположить, что эта грань не равна нулю, то возникает третье существо, но уже не тварно-нетварное, не тварь и не Бог, а третье, о котором учили гностические ереси.
Свт. Григорий Палама называет святых «нетварными по благодати»365. И это не метафора, а сама реальность обожения, выражающая соединение двух природ, не смешавшихся, а значит, неслитно существующих в соединении, и не разделяющихся – согласно этому выражению святителя. Провокативность его слов в том и заключается, что они требуют уравновешивания уточнением: «но святые, разумеется, тварны».
Логический метод, который мы видим у свт. Григория – импликация (включение) – неоднократно применяется и отцом Павлом Флоренским в важнейших его концепциях: Божественные энергии есть Бог, но Бог не есть только Его энергии; имя Божие есть Бог, но Бог не есть имя; символ есть символизируемое, но символизируемое не исчерпывается символом; истина есть противоречие, но противоречие не есть истина (иначе исключается понятие лжи).
Исключение антиномичного понимания неслитного и нераздельного соединения природ во Христе, с одной стороны, представляет удобство. Так, по толкованию Евфимия Зигабена: Христос воскрешает Лазаря как Бог, но плачет о нём как человек366. С другой стороны, как уже отмечалось, такой подход имеет серьёзные недостатки, т. к. может возникнуть вопрос, все ли слова Христа сказаны им как Богом, или где-то можно увидеть только человеческое? В итоге поиск верного ответа приводит к антиномии: «Решение вопроса о незнании Христа в святоотеческом Предании часто представляется антиномичным» (А.И. Сидоров)367.
К одновременному утверждению двух истин о Христе оказывается неспособным протестантское кенотическое богословие. Д. Андерсон называет идею кенотистов368 об оставлении Логосом своих божественных атрибутов немыслимой ни для александрийской, ни для антиохийской богословских школ, отстаивавших принцип неизменности Бога369. У отца Павла Флоренского также находим критику данной теории, однако без привлечения антиномической методологии370.
Рассмотрим вопрос нераздельного и неслитного между собой существования Лиц Святой Троицы. Отрицание антиномии между неслитностью и нераздельностью, как уже говорилось, означает некую границу. Если в христологическом догмате эту гипостазируемую границу (зазор) составляет гностический посредник, искажающий христианское вероучение, то в троичном догмате эту границу заполняет доктрина filioque. Между неслитным и нераздельным существованием Отца и Святого Духа это учение ставит Сына в качестве посредника в изведении Духа.
Две стороны Церкви: не от мира сего и от мира сего, Божественное и человеческое в ней, также нераздельны и неслитны. Если допустить, что образ такого соединения не является противоречием и существует нечто третье (не то и не другое), то в этом третьем как раз может мыслиться учение о непогрешимости римского епископа.
И наконец, нераздельное и неслитное соединение в человеке души и ума371. Отдельное их существование будет означать следующее: душа без ума есть то, что превратно передаётся понятием астрального тела; ум без субстанциональной души есть платоновская идея. Слитное же их состояние, смешение, есть тот образ, против которого выступал свт. Игнатий (Брянчанинов) в полемике со свт. Феофаном Затворником. Понимание души как исключительно умной сущности наносит ущерб её субстанциональной определённости и размывает границу с единственно духовной – в собственном смысле слова – Божественной природой. Третий вариант, исключающий неслитность и нераздельность, вариант «не то и не другое», представляет собой случай материалистической психологии: учения о душе без самой души.
Итак, несмотря на то, что неслитное и нераздельное соединение не является формально-логическим противоречием, по отношению к догматам мы должны его мыслить как антиномичное.
На примере неслитности и нераздельности особенно заметна познавательная функция антиномии: она излагает догмат как равновесие двух сторон. Такая логическая структура высказывания – названная в работе бинарной – позволяет увидеть две полярных составляющих догмата. А когда определено равновесие, то и отклонение от этого равновесия, и привидение к нему становится более очевидным. Такую схему можно распространить не только на догматы, но и на выяснение крайностей в аскетике372 для осуществления принципа мерности и на земное бытие в целом.
3. Отношение человека к Богу: предопределение и свободная воля.
И та, и другая часть антиномии «предопределение и свобода» являются предметами веры. Всеведение Бога предполагает знание Им всего человеческого пути, всех вариантов и пределов жизни человека, в этом смысле она предопределена в Боге. Проходя в материальном мире, жизнь человека подчинена закону причинности, детерминирована духовными, социальными и природными условиями, которые, по сути, исключают свободный выбор – этот выбор всегда чем-то предопределён. Таким образом, предопределение можно рассматривать в двух значениях: как Божественное всеведение и как закон причинности.
Утверждение о свободной воле человека – предмет веры, исключение которого разрушает фундамент понятия ответственности, а за ним и праведного воздаяния. Отрицание свободы в целом искажает христианское учение о человеке, лишая его личности, делая его звеном природной цепи или механизмом.
Что представляет собой свобода? Она не есть предопределение, она предполагает возможность нарушить закон, поступить по-иному, сделать выбор. Итак, предопределение как закон причинности исключает свободу, а свобода исключает закон причинности. Но с Божиим всеведением свобода не вступает в конфликт.
Флоренский предлагает увидеть обозначенную антиномию в посланиях апостола Павла:
1) Для чего израильский народ отвержен Богом? Чтобы явить богатство славы Своей над ...нами, которых Он призвал не только из Иудеев, но и из язычников (Рим.9:23). Следовательно, отлучение Израиля не могло не произойти, таков промысл Божий.
2) По какой причине отвержен Израиль? Потому что искали не в вере, а в делах закона (Рим.9:32). Отсюда следует, что отлучение Израиля, могло не произойти, если бы этот народ был верен и послушен Богу.
Таким образом, единственный вариант предопределения (Израиль не мог не быть отлучён) вступает в противоречие со свободой, которая подразумевает, что данный вариант не-единственный (Израиль мог быть не отлучён).
4. Антиномия «Грех».
Отец Павел сопоставляет высказывания из апостольских посланий: 1) тезис, согласно которому грехопадение Адама является случайным, 2) антитезис, согласно которому грех существует «через конечность плоти, т. е. как необходимо присущий ей»373.
1) Одним человеком грех вошел в мир... смерть перешла во всех человеков (Рим.5:12). По толкованию А. П. Лопухина смерть «разошлась», «распространилась» (διῆλθεν), разлилась в человеческом роде подобно тому, как небольшая доза яда отравляет весь организм374. Это означает, что плоть человека могла и не оказаться заражённой грехом, и грехопадение является случайным явлением.
2) Плоть и кровь не могут наследовать Царствия Божия (1Кор.15:50). Тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие (1Кор.15:52). Вероятно, отец Павел полагает, что эти апостольские слова говорят о том, что плоть не могла не быть отравленной грехом.
Тезис можно выразить следующим образом: грех не присущ человеческой плоти, это временное, случайное, поверхностное явление.
Антитезис: грех присущ плоти, вкоренился в неё так, что она даже не может наследовать Царство Божие, не изменившись по существу.
Такая формулировка антитезиса не находит подтверждения в святоотеческой экзегезе 1Кор. 15:50. Согласно свт. Иоанну Златоусту, плоть в данном случае означает злые дела375. Преп. Максим Исповедник указывает, что плоть – это вожделение, а кровь – это гнев376. Признание греха сущностным (а не акцидентальным) свойством плоти приводит к её платоно-оригеновскому пониманию как греховной по своей сути, что противоречит православному взгляду.
Таким образом, данная антиномия не может быть признана удовлетворительной вследствие её ложного антитезиса.
5. Антиномия «Суд».
Флоренский выбирает целый ряд цитат, говорящих о Спасителе как судии христиан при втором пришествии (Рим.2:16, 14:10; 1Кор.3:13; 2Кор.5:10):
Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа (Рим.2:16);
Все мы предстанем на суд Христов (Рим.14:10);
Огонь испытает дело каждого, каково оно есть (1Кор.3:13);
Всем нам должно явиться пред судилище Христово (2Кор.5:10).
Две другие цитаты, по мнению отца Павла, вероятно, должны вступать в противоречие с предыдущими в отношении Того, Кто будет совершать Страшный суд. Флоренский указывает: «Бог, как окончательно судящий всех людей чрез Христа (1Кор.4:5, 15:24–25)»377.
Посему не суди́те никак прежде времени, пока не придет Господь, Который и осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога (1Кор.4:5) – данные слова прямо не подтверждают антитезис, заявленный отцом Павлом. Скорее, их можно истолковать в пользу тезиса.
А затем конец, когда Он предаст Царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу. Ибо Ему надлежит царствовать, 1Кор.15:24–25). Здесь не идёт речи о Страшном суде. В итоге следует признать, что антиномия «Суд» в том виде, как она изложена Флоренским в рассматриваемой таблице, не согласуется с понятием антиномии.
6. Антиномия «Воздаяние».
Автор «Столпа» находит противоречие в Павловых посланиях относительно
того, с чем апостол связывает воздаяние на Божием суде. Тезисом здесь выступает утверждение о зависимости воздаяния от дел человека (Рим.2:6–10; 2Кор.5:10):
Ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровения праведного суда от Бога, Который воздаст каждому по делам его (Рим.2:5–8).
Всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле (2Кор.5:10).
Антитезис представлен пониманием искупления как прощения (Рим.4:4, 9:11, 11:6):
Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу. А не делающему, но верующему в Того, Кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность (Рим.4:3–5).
Ибо, когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого (дабы изволение Божие в избрании происходило не от дел, но от Призывающего) (Рим.9:11–12).
Но если по благодати, то не по делам; иначе благодать не была бы уже благодатью. А если по делам, то это уже не благодать; иначе дело не есть уже дело (Рим.11:6).
В итоге предполагается антиномия: воздаяние будет по делам и воздаяние будет не по делам. Однако, возникает вопрос, насколько соответствуют приведённые цитаты антитезиса теме воздаяния? Разве вера Авраама, которую Бог вменил ему в праведность, не засвидетельствована подвигами дел, в том числе и тем, что он не полагался на дела свои? В последнем и видится смысл апостольских слов: не ставить себе в заслугу свои дела. Но это не значит, что Божий суд их не учтёт.
В Рим.9:11 речь идёт о свободном выборе Бога (между Иаковом и Исавом), не зависящего от человеческих дел, т. е. текст не относится к теме воздаяния.
В Рим.11:6 утверждается, что благодать Божия не зависит от дел, она дар, а не награда. Также остаётся вопрос, о каких делах говорит апостол: об исполнении предписаний закона и обрядов или о делах в широком значении как усилиях по достижению праведности?378 Но даже если речь идёт о делах в широком смысле слова, требуется выяснить, как это учение относится к Суду. Пока же точными выражениями апостола Павла о воздаянии на Страшном суде остаются цитаты тезиса.
7. Антиномия «Конечная судьба».
Подробному рассмотрению противоречия между всеобщим восстановлением и возможностью вечных мучений Флоренский посвящает восьмое письмо «Геенна» (см. в данной работе §. 2.9. «Антиномия геенны»). Здесь же обратим внимание на приводимые им слова апостола Павла, подтверждающие, во-первых, тезис «все спасутся».
Сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих (Рим.8:19–23).
Всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать. <...> Ибо все из Него, Им и к Нему. Ему слава вовеки, аминь (Рим.11:30–36).
В письме «Геенна» особое внимание уделяется: впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня (1Кор.3:13–15)
Во-вторых, утверждается антитезис, предполагающий как двоякий конец (Рим.2:5–12), так и гибель (2Кор.2:15):
Тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, – ярость и гнев. <...> Те, которые, не имея закона, согрешили, вне закона и погибнут; а те, которые под законом согрешили, по закону осудятся (Рим.2:5–12).
Ибо мы – Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих (2Кор.2:15).
Действительно, формулировка данной антиномии очевидно противоречива, упрощённо её можно выразить: все спасутся – не все спасутся. Приводимые тексты представляются также убедительным подтверждением наличия вполне оправданной антиномии.
Признание справедливым «все спасутся» ведёт к расхождению с церковной традицией, открывает пространный и гибельный путь вседозволенности. Утверждение «не все спасутся» ставит под сомнение Божии милосердие и благость.
Из всех встречающихся у о. Павла антиномий данная – наиболее чётко сформулирована и обоснована. Однако, есть ли в церковной жизни примеры того, как данная дилемма сохраняется без каких-либо уклонов? Наиболее близким к антиномическому балансу видится пример александрийского сапожника, ответившего преп. Антонию Великому на вопрос об особенности его подвижничества: «Все спасутся – один я погибну»379 Укажем на откровение того же смысла, что и аскетическое упражнение сапожника, данное преп. Силуану Афонскому: «Держи ум твой во аде и не отчаивайся»380. В своих объяснениях этого духовного делания отец Софроний (Сахаров) пользуется методом баланса между мыслью об адских муках, на которые обрекает греховность, что способствует покаянию, и мыслью о любви Божией, которая не даёт отчаиваться381. Посредством понятия антиномии Г. У. Бальтазар интерпретирует богословие преп. Максима Исповедника по согласованию наличия вечных мук и возвращению мира в Бога382. При этом Бальтазар предлагает подборку цитат из разных произведений святого отца, где в равной мере отражены как тезис, так и антитезис апокатастасиса, синтезом которого оказывается признание необходимости почтить конечный исход молчанием383.
8. Антиномия «Заслуга».
Отличие данной антиномии от предыдущей «Воздаяние» заключается в том, что понятие воздаяния, взятое в указанном выше контексте, подчёркивает возможность наказания. «Заслуга» же говорит о получении награды. Тезисом для обоснования здесь указывается необходимость человеческого подвига:
Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить (1Кор.9:24).
Антитезисом взяты слова апостола, которые должны были бы подтвердить недействительность человеческого подвига:
Помилование зависит не от желающего и не от подвизающегося, но от Бога милующего (Рим.9:16).
Опять же не видно, чтобы цитата антитезиса прямо отрицала нужность подвига. Приведённые слова Писания говорят только о свободе Бога в раздаянии Своей милости, ни от кого не зависящей.
В этом же пункте Флоренский приводит следующую фразу: «Со страхом и трепетом свершайте свое спасение, /
Потому чтоБог производит в вас и хотение и действие» (Флп.2:12–13).
Здесь можно согласиться с присутствием антиномии в самом субъекте, действующем лице спасения. С одной стороны, вы сами совершайте подвиг, а с другой стороны, Бог его совершает. Бог спасает, но с участием человека – таков православный синтез антиномии нужности-ненужности подвига, называемый соработничеством (συνέργεια).
Как смещается антиномический баланс синэргии, можно увидеть на примере переводов чина пострижения в монашество. Церковно-славянский текст содержит ответ на вопросы о желании принять иночество и его уставы: «Ей, Богу содействующу, честный отче»384. Русский перевод: «Желаю, с Божией помощью, святой отец»385. В первом случае инок видится Божиим соработником, во втором – соработником спасения становится Бог.
Флоренский обращается к словам преп. Иоанна Дамаскина: «Душа Господа хотела свободно; но хотела свободно того, / что должна была хотеть по изволению воли Его Божества»386.
Отец Павел замечает противоречие между формулировками свободного желания и «должна была хотеть». Можно предположить, что Флоренский в долженствовании видит исключение свободы. С ним допустимо было бы согласиться, однако в этой цитате на греческом и латинском языках долженствование отсутствует: ἡ θεία αὐτοῦ θέλησις ἤθελε θέλειν αὐτήν (quae divina ipsius voluntas velle eam volebat)387. Преп. Иоанн неоднократно388 высказывает мысль о свободном следовании человеческой воли Спасителя воле Божественной, и рассматриваемый отрывок соответствует этой мысли: душа Господа свободно желала того, чего Божественная Его воля желала389.
По мнению проф. Ярослава Пеликана, соотношение свободы и благодати представляет собой антиномию390, от которой уклоняются как пелагианство (свобода воли не ограничена грехопадением), так и учение блаженного Августина о предопределении.
9. Антиномия «Благодать»
Флоренский сопоставляет два высказывания из Послания к Римлянам: Когда умножился грех, стала преизобиловать благодать (Рим.5:20) и Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак (Рим.6:10, 6:15).
На первый взгляд, как считает И.А. Герасимова, меду этими фрагментами послания просматривается противоречие, но «это не логическое противоречие»391. Исследователь предлагает следующее объяснение: «Если грех беспредельно возрастает, то вступает в действие высшая сила, восстанавливающая справедливость. <...> На богословском языке это означает приход времени мирового очищения от безмерно распространившегося нравственного разложения (например, всемирный потоп)»392. С этим толкованием нельзя согласиться ни применительно к данным словам апостола Павла, ни с самой формулировкой духовной закономерности. Вмешательство Бога ничем в мире не обусловливается, Бог Сам решает, когда явить Свою благодать, иначе происходит подчинение Бога чему-то внешнему.
Точка зрения Флоренского здесь вполне приемлема, слова апостола Павла в своём сопоставлении противоречивы: грех умножает благодать – грех не умножает благодать. Выясним положения тезиса, исходя из их контекста: Закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление. А когда умножился грех, стала преизобиловать благодать (Рим.5:20–21).
Благодать умножилась после умножения греха, умножению же греха предшествует появление закона. Значение религиозных, правовых или иных норм заключается в установлении меры свободы, т. е. ограничении круга должного и недолжного поведения. Так, ветхозаветный закон назвал грехом то, что только могло им ощущаться, но не имело объективного правила, эталона, для своей оценки. Осознание греха приходит, таким образом, с появлением закона393. Осознание греховности и необходимости изменения, т. е. покаяния, должны вызывать потребность в благодати.
Однако не грех, а понимание беззаконности греха располагает к получению помощи от Бога, поэтому на вопрос, оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? апостол дает ответ: никак (Рим.6:15).
Здесь же Флоренский помещает ещё одну пару апостольских цитат.
Всякий, пребывающий в Нем (Христе) не согрешает (1Ин.3:6). Всякий рожденный от Бога, не делает греха – и он не может грешить (1Ин.3:9).
Контрарным им является высказывание: Если говорим, что не имеем греха, – обманываем себя, и истины нет в нас (1Ин.1:3).
Схема этих выражений имеет следующий вид: христианин не совершает грех – христианин совершает грех.
Жития святых служат примером соединения указанного противопоставления: тех, кто одержал победу над грехом, и в то же время жил с сознанием своей греховности. «Одновременно с тезисом оказывается верным и антитезис об обманчивости собственной негреховности»394, – соглашается с Флоренским проф. Герасимова.
10. Антиномия «Вера».
Священник Павел Флоренский указывает в таблице: «Свободна и зависит от доброй воли человека (Ин.3:16–18).
Дар Божий и не находится в воле человеческой, но – в воле привлекающего ко Христу Отца (Ин.6:44)»395.
Таким образом, согласно Флоренскому, вера зависит от человека – вера не зависит от человека. Увидим эту антиномию в текстах, предложенных отцом Павлом:
Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия (Ин.3:16–18).
Осужден, потому что не уверовал подтверждает, что уверовать в Бога зависит от человека.
Рассмотрим антитезис: Никто не может прийти ко Мне, если не привлечет его Отец, пославший Меня (Ин.6:44). Исполняя своё предназначение, человек ищет Бога, но найти Его сможет, только если сначала, как говорит старец Иосиф Исихаст, его найдёт Бог396. Добродетель веры можно сопоставить с добродетелью молитвы, которая является подвижничеством, к которому себя понуждают, но истинная, благодатная молитва есть действие Божие в человеке. Так, мы читаем в ежедневной молитве свт. Филарета Московского: «Научи меня молиться. Сам во мне молись»397. Кронштадтский пастырь пишет, что без Духа Святого мы не можем сказать ни одного слова молитвы от всего сердца398.
Смысл приведённых цитат тезиса и антитезиса будет понятным, если соотнести их «с духовным развитием человека»399, – поясняет И. А. Герасимова в том значении, что веру нужно заслужить, к ней нужно приготовить себя. Найденный синтез обоих высказываний, однако, не означает, что они не противоречат друг другу. «Видимая классичность логической ситуации при вдумчивом чтении оказывается поверхностной. Контекст тезиса и антитезиса явно неклассичен»400, т. е. на формально-логическом уровне противоречие сохраняется, но с учётом контекста о духовном развитии («неклассичность») оба выражения приобретают смысл взаимодополняющих.
11. Антиномия «Пришествие Христово».
Спаситель приходит судить мир: на суд пришел Я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы (Ин.9:39).
И далее читаем о том, что Христос приходит не судить мир: Я пришел не судить мир, но спасти мир (Ин.12:47).
«Логик отметит: люди видящие и невидящие делятся по разным основаниям. Здесь нет противоречия, но задействован риторический эффект»401, – пишет И. А. Герасимова. Не согласимся с её утверждением, т. к. основание деления на видеть и не видеть (Ин.9:39) здесь одно – это чистота сердца. Чистые сердцем видят – не чистые сердцем не видят Бога в Иисусе Назарянине. Невидящие и видящие (Ин.9:39) делятся здесь по основанию просвещённости в Писании: несведующие, (некнижные пастухи и рыбаки) и сведующие (книжники и фарисеи). «Профессиональные» верующие не узнали Христа, в отличие от простых людей.
«Форма антиномии, представленная внешне как логическое противоречие, призвана создать сильнейший риторический эффект, эмоциональному переживанию»402, – по мнению Герасимовой.
В первом предложении исследователь отрицает формально-логическое противоречие, во втором говорит о форме антиномии. Вероятно, имеется в виду, что тезис и антитезис только кажутся противоречивыми. Но именно своими формулировками они и отрицают друг друга: пришёл судить и пришёл не судить. И для формально-логического подхода, в отличие от диалектического или контекстуального, не принципиально, о каком пришествии и о каком суде идёт речь.
Риторический эффект тоже имеет место, но он вторичен по отношению к дискурсивному элементу, является его следствием. Более того, потому он и «сильнейший риторический эффект», что в основании его лежит логика, а не софистика. Выяснение этих текстов оказались доступными Ирине Алексеевне благодаря обращению к широкому контексту и духовному опыту: «К богопониманию и вере каждый человек идёт сам»403. Общий вывод у неё также изложен в согласии с Флоренским: «Ограниченный ум человека может выразить Божественную Истину, но в рациональном познании она выразима в форме антиномии»404.
Итак, по нашему мнению, 4, 5, 6 и 8 примеры не соответствуют понятию антиномии вследствие своей непротиворечивости. Исследование остальных богословских антиномий позволяет подвести следующий итог: антиномия представляет собой идеальную (мыслимую) модель равновесия тезиса и антитезиса, в условиях материальной реальности не находящего конкретного образа для выражения.
2.8. Антиномичность греха
Митр. Сурожский Антоний в своих трудах несколько раз упоминает имя отца Павла Флоренского – и все эти несколько раз по поводу понимания им истины. Митр. Антоний не соглашается с отцом Павлом, когда он определяет истину как то, что есть405.
Хотя о. Павел говорит об этом «есть» как только об одной из сторон истины, причём как стороне этимологической, причём только русской этимологии, однако, это «есть» представляет собой важнейший аспект истины. Именно в этом аспекте истина противополагается греху. «Ведь Бог – Сущий, ὁ Ὤν, Ягве, יהוה; и, значит, Сатана, Грех – совсем иное, – т. е...– невольно подсказывается ответ, что греховность хотя и есть, но есть не-сущая»406.
Антиномичность греха заключается в том, что он при всей своей реальности не имеет собственного бытия407 – это возможно выразить в двух суждениях: грех существует и грех не существует. Грех прародителей привёл к катастрофе всего земного мироздания, личные грехи во временной жизни грозят потерей жизни вечной – грех, таким образом, обладает смертоносной силой, и в действительности греха невозможно сомневаться. Вместе с тем, своей сущности у греха нет.
Грех не создаёт новое бытие, а только искажает существующее. И несмотря на масштабность и серьёзность разрушительной силы греха, мы не признаём за ним собственной силы, а только уклонение этой Богом данной силы с истинного пути. Сама смерть существует только за счёт жизни: «То, что есть у Смерти – это лишь испоганенная ею жизнь же»408.
Флоренский противопоставляет грех истине, а также противопоставляет его любви: «Грех есть то, что закрывает от Я всю реальность, ибо видеть реальность – это именно и значит выйти из себя и перенести своё Я в не-Я, в другое, в зримое, – т. е. полюбить»409.
Можно сделать вывод, что данное свойство не даёт греху самому быть антиномией. Об этом говорилось в конце §.1.3. «Разграничение антиномии и смежных понятий»: допущение антиномии греха приводит к нравственной относительности. Антиномично понимание греха как не-сущего, но сам грех не антиномичен: во-первых, по причине отсутствия у него бытия, а во-вторых, по причине самотождества, заключённости на себе.
Последний аспект – это ещё и мысль о самоуничтожении греха (также выраженный в вензеле, предпосланном рассматриваемому письму: «Своё же угрызает»).
2.9. Антиномия геенны
Письмо восьмое «Геенна» посвящено одному из острейших вопросов богословия – о посмертной участи человека, а точнее, вопросу о возможности его второй смерти, вечной смерти души. Важно отметить, что о. Павел начинает главу с повествования о своём личном опыте и опыте других людей, конкретном опыте переживания ада. Заканчивается письмо также изложением личного религиозного опыта, но уже опыта получения благодати. Это важный факт для понимания антиномии, так как, по утверждению о. Павла, для того, чтобы привести антиномичные суждения к единству нужен именно благодатный опыт410. В этой главе о. Павел непосредственно формулирует антиномичные суждения и пробует привести их к синтезу.
В нескольких словах он передаёт смысл одного из самых болезненных переживаний верующего человека, задумывающегося о Боге как Любви, Которая не может сотворить человека, зная о его гибели. Любви совершенно не свойственна идея возмездия, тем более с позиции вечности.
В наше время этот тезис о всеобщем спасении стал ещё более чувствительным. Как обоснования его, так и возражения ему сводятся к поиску авторитетных святоотеческих высказываний, противопоставлению цитат из Священного Писания. Контраргумент всеобщему спасению можно передать следующим образом. Бог любит человека и прощает его, но не принуждает его к ответной любви, а без неё спасение не мыслится. Свобода человека становится камнем преткновения: спасая человека без его соизволения, Господь нарушит его свободу, а без свободы нет любви. Любовь к Богу должна быть свободной, иначе это не любовь, значит, без собственной воли человек не спасается.
Отец Павел приходит к следующей формулировке: «Тезис – “невозможна невозможность всеобщего спасения” – и антитезис – “возможна невозможность всеобщего спасения” – явно антиномичны»411. И разрешение этой антиномии возможно только опытным путём духовной жизни.
Т.Н. Резвых пишет, что отец Павел Флоренский был первым, кто поставил проблему спасения человека на твёрдую почву антиномии и вывел обсуждение этой проблемы из моральной сферы в онтологическую412.
Отец Павел предлагает следующий путь осмысления возможности и невозможности второй смерти. Человек – это, с одной стороны, он сам, образ Божий, а с другой – его дела и его характер. Божественное, истинное в человеке, «сам» человек при испытании судом Божиим спасается, а его грех гибнет. Это ясная и распространенная мысль, однако, не так проста: ведь грех не только поверхностен, но и составляет человеческую личность.
Само же разделение происходит посредством огня. Отцом Павлом выясняется, что Священное Писание многократно использует этот образ. Особенно выразительно учение об огненном испытании изложено у апостола Павла: Огонь испытает дело каждого <...> у кого дело сгорит, тот потерпит урон; впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня (1Кор.3:13–15).
Флоренский постоянно возвращает мысль к антиномичности такого разделения: невозможно отделить грех от человека, не затрагивая его внутренней сути, но в то же время невозможно представить себе человека абсолютно испорченного – образ Божий не может погибнуть. В связи с этим автор «Столпа» в заключении повторяет: «Если, поэтому, ты спросишь меня: “Что же, будут ли вечные муки?”, то я скажу: “Да”. Но если ты ещё спросишь меня: “Будет ли всеобщее восстановление в блаженстве?”, то опять-таки скажу: “Да”»413.
Иг. Андроник (Трубачёв) считает, что отцу Павлу удалось показать антиномичность геенны относительно вечности мучений; здесь, по его мнению, автор «Столпа» соблюдает изложенное им в письме «Противоречие» методологическое указание на то, что все рассудочные операции над догматом должны производиться так, чтобы в них всегда сохранялась основная антиномия догмата414.
Однако, кроме антиномии вечности геенны, необходимо установить антиномию действительности геенны. О. Андроник говорит о том, что о. П. Флоренский в данном случае устранил антиномию: «Там, где отец Павел касается вопроса о действительности мучений, антиномия распадается дважды: в отношении Бога и в отношении человека»415. Относительно Бога: «Такова геенна – единственная реальность в собственном сознании и ничто в сознании Бога и праведников»416, – пишет о. Павел Флоренский. Также об извержении и огне – они «не существуют и только самости видятся в мечтании»417. Здесь отец Павел высказывается о субъективном существовании геенны и несуществовании её объективно.
«Но характерно, – отмечает о. Андроник, – что эти мысли отец Павел не подтверждает ни одним свидетельством святых отцов»418. И далее о. Андроник приводит слова преп. Макария Великого, по мысли которого «из неукорененности зла и геенны в Боге вовсе не следует, что они существуют лишь субъективно: объективность зла и геенны следует из того, что они объемлются Богом»419. Чтобы сохранить антиномию, необходимо двигаться в направлении мысли преп. Макария: тезис – для Истинной Объективности, Бога, нет самостоятельного зла и геенны; антитезис – зло и геенна существуют объективно, объемлются Богом420. Утверждение об объективности геенны – это, действительно, необходимость, внутренняя потребность принципа антиномичности догмата; кроме того, церковная традиция имеет богатые свидетельства переживаний реальности адских мук. Но ведь именно с этого отец Павел и начинает свое восьмое письмо (пример Мотовилова и свой личный). И наконец, уместно ли обвинение о. Павла в последовании Оригену, когда именно против его заблуждения и направлено письмо в своём исходном тезисе, который обозначен Флоренским в качестве вульгарного оригенизма421?
Что же касается действительности мучений в отношении человека, то, как считает о. Андроник, разделение человека на образ Божий («сам» человек) и его характер («самость» человека) и допущение того, что «сам» спасается, геенна же – для «самости», устраняет антиномию геенны, так как не остаётся кого оправдывать422. Чтобы сохранить антиномию отец Андроник предлагает формулировку: тезис – для образа Божия, по которому создан человек, не существует геенны, или образ Божий не существует для геенны; антитезис – для человека, созданного по образу Божию, существует геенна, или человек существует для геенны423.
Действительно, без последнего утверждения о том, что для человека существует возможность геенны, все предыдущие рассуждения не имеют смысла. Переход со святоотеческой богословской почвы на философскую424 в данном вопросе приводит необходимое различение человека и его поступков425 к их разделению; «сам» и «самость» в итоге также требуют сохранения антиномичной нераздельности и неслитности (что обеспечивает простоту личности426). Невозможное человекам возможно Богу (Лк.18:27), отделяющего в таинстве покаяния грех от человека.
Можно ещё раз подчеркнуть проблемность данной темы и её открытость для выяснения. Учение отца Павла о разделении человека на его образ Божий и его характер, на самого и самость устраняет антиномию, так как утверждает один только тезис «сам спасётся». Отец Павел пишет о возможности вечных мучений, но, по его мнению, они возможны только для самости человека, его характера, феноменологической составляющей. Если же задать вопрос, к какой части человека относится его душа как субстанция, а также и сознание человека, то невозможно представить разделение образа Божия, «самого» человека и его души. Следовательно, душа и сознание человека относится к его «сам», который спасётся.
Можно ли обвинить отца Павла в проповеди всеобщего спасения, в проповеди оригенизма? Нет. Рассуждения письма «Геенна» начинаются с критики оригенизма. Главное же, что отец Павел прямо утверждает истинность тезиса «возможна невозможность всеобщего спасения». И только когда он отклоняется от установленной им антиномии, тогда появляется диссонанс в его рассуждениях. Однако, что же он произнес здесь от себя? Сам спасется (1Кор.3:15) – слова апостола Павла, попытку истолкования которых даёт Флоренский427.
Следует признать, что слова 1Кор. 3:15, обосновывающие тезис Флоренского о всеобщем спасении, в сравнении с библейскими цитатами, которые можно привести в пользу антитезиса о реальности вечных мук428, представляются довольно хрупким фундаментом. Необходимо обратить внимание на неоднозначность святоотеческих толкований слов сам спасется. Свт. Иоанн Златоуст, преп. Анастасий Синаит, блаж. Феофилакт Болгарский и свт. Марк Ефесский понимают «спасется» в качестве противопоставления уничтожению: грешник не исчезнет, но спасётся, т. е. сохранится, для вечных мук429. Однако остаётся неясным, почему тогда Апостол использует именно слово «спасется» (σωθήσεται). Преп. Максим Исповедник, разъясняя его слова, говорит, что, пройдя через огонь Суда, греховные дела уходят в небытие, а «естество получает обратно свои силы здравыми»430.
Огонь испытания и огонь очищения – этими идеями пронизано христианское богословие и богослужение. Иг. Андроник отмечает указание Флоренского на то, что «учение об очистительном огне у обоих Григориев – Богослова и Нисского» стоит в гораздо более тесной связи с учением Оригена, чем у него431.
Таким образом, отец Павел Флоренский еще раз подтвердил своё открытие принципа антиномичности догмата, подтвердил, но уже методом от противного, и сам того вряд ли желая. Желанием же его в данном вопросе является открытие церковной истины об аде, и самые авторитетные источники, использованные отцом Павлом с его искренним стремлением опереться на апостольские слова, выяснить их, приводят его к невозможности неантиномичного взгляда на истину об адских мучениях.
2.10. Антиномия твари
Приступая к философскому и богословскому осмыслению тварного мира, а также отношения человека к остальному творению Божию, о. Павел Флоренский противопоставляет политеизм и монотеизм в их познавательном импульсе, в их желании познавать мир.
Политеизм и пантеизм признают существование за каждой вещью своей мистической причины, своего божества, точнее, демона. «Эти многочисленные демонические существа были для античного человечества прежде всего страшны»432, – пишет о. Павел. Боязнь встречи с недоброжелательным демоном останавливало погружение в глубины познания.
Противоположность политеизму составляет монотеизм, утверждающий реальность твари и её единство: мир един и существует по одним законам, открытым к их познанию. О. Павел следующим образом формулирует мировоззренческую предпосылку возникновения науки – это необходимость для сознания двух догматов: догмат о провидении Единого Бога и догмат о творении мира Благим Богом, т. е. о даровании твари собственного и самостоятельного бытия. «Провидение Божие и свобода твари составляют, в своей антиномии, один догмат, – догмат о любви Божией к твари, имеющий свою основу в идее о Боге- Любви, т.е. о Триединстве Божества. Эта антиномия, во всей своей решительности, является основою современной науки; вне её – нет науки»433.
Утверждение о том, что Бог любит Своё творение, обосновывается свободою Божиих созданий (в том числе свободой развиваться по собственным законам). Давая свободу, Бог ограничивает себя, при этом оставаясь Безграничным. В этом заключается антиномия.
Ответная любовь человека к Богу проявляется в познании творения и любви к нему. Любовь к Богу – через любовь к твари. Но разве не является любовь к твари препятствием любви к Богу? Оба утверждения верны. Основная и самая яркая часть этого письма как раз и посвящена выявлению этой антиномии, точнее того, как она приводится в единство в жизни святых людей. Все они оставляли мир, до крови боролись с привязанностью к мирским утешениям – и они же, и только они, видели красоту всего творения, красоту плоти, вразумляли тех, кто гнушался плотью.
В рассуждениях письма восьмого встречается высказывание: «Бог и мир, дух и плоть, девство и брак – в антиномии между собою, относясь друг к другу, как тезис к антитезису»434. Возникает вопрос: справедливо ли указанные пары считать антиномиями? Девство и брак действительно исключают друг друга, но как они сочетаются? Если имеется в виду брак с сохранением девства, то это не вполне брак. Если речь идёт о девстве как целомудрии, сохраняющемся в брачном общении, то оно не отвечает понятию физического девства. Эту пару Флоренский использует в рассуждениях о святости брака в противоположность гнушению им и смотрению на него как на «полу-блуд»435. Однако целомудрие супружеской жизни не создаёт синтеза девства и брака, антиномии здесь нет.
Что касается плоти и духа, то синтез здесь очевиден, наличие же противоречия требует обоснования. Противопоставление плоти и духа в аскетике, духовная борьба, не сводится к устранению плоти. Умерщвление плоти означает в аскетике её подчинение духу, а не исключение одним другого. Однако если взять это противостояние в его логическом пределе, то такое исключение видится теоретически возможным. По слову свт. Василия Великого, человек есть тварь, которой дано повеление стать богом436. Исключение духовности означает животное состояние. Можно ли допустить абсолютное исключение плоти? Вероятно, о совершенной бесплотности возможно говорить только по отношению к душе, разлучившейся с телом, при том в состоянии такой степени обожения, когда всё плотское в душе исключено. При соблюдении этих идеальных условий допустимо утверждать об антиномии плоти и духа. В дальнейшем отец Павел будет обращаться к этой паре под разными наименованиями: усийного и ипостасного начал в человеке, его природы и личности, энтропии и эктропии в материальном мире, где противоречие также будет выражаться не строго логическими формулами, а скорее, векторами сил, стремлениями к логическим пределам.
Третья пара «Бог и мир» рассматривается Флоренским как раз в последующем письме «София».
2.11. Антиномия Софии
Одной из самых полемичных тем «Столпа» является софиология. Антиномический подход помогает разобраться в философских глубинах софийного вопроса. С другой стороны, само понятие антиномии в рассматриваемом десятом письме приобретает новый вид. Как уже отмечалось, целостный религиозный объект при рассудочном восприятии дробится на множество аспектов. Читаем в этом письме: «Сейчас речь будет о таких осколках, которые не находятся в явной антиномии друг с другом, потому что представляют не противоположное друг другу, а просто разное»437. Если раньше мы обращали внимание в первую очередь на противоречие, то теперь – на синтетическую часть антиномии. Это указание на антиномию и последующее раскрытие идеи Софии в русле её антиномичных составляющих не замечает отец Георгий Флоровский: «Странным образом, говоря о Софии и софийности, Флоренский никогда не вспоминает об антиномиях...»438.
Какие же аспекты составляют это «много-единое существо»439, Софию?
1. Рассмотрим первый аспект Софии как идеи твари или как Божественной мысли о творении – и через это – существование твари в Боге.
Тезис Флоренского относительного данного аспекта Софии звучит следующим образом: «София есть Великий корень цело-купной твари»440. Этим корнем тварь, по мысли о. П. Флоренского, соединена с Богом и получает от Него вечную жизнь: нашедший Меня нашел жизнь (Притч. 8:35).
Тема божественности творения может рассматриваться с двух сторон как: 1) мир в Боге и 2) Бог в мире. Сейчас мы говорим о первой стороне, о миротворческих мыслях Бога, в которых творение существовало вечно.
Отец Павел даёт следующую характеристику этой стороне: «Идея о пред- существующей миру Софии-Премудрости <...> в изобилии разсеяна по всему Писанию и в творениях отеческих»441. Предсуществование творения в православном понимании – это его существование в Божественном Промысле, до появления во времени, до своего осуществления. Эта идея важна для уяснения природы твари, укоренённой в Боге, – игнорирование этой идеи ведёт, по мысли Флоренского, к абсолютизации твари, дуализму Божественной и небожественной реальности, далее – к манихейству, гнушению плотью, аскетизму не ради Бога, а на почве отвращения к телу, непроницаемости мира для Бога442 и другим искажениям. Уничижение плоти также характеризует платоно-оригеновское заблуждение в объективировании мира идей, отделение мира идей от Бога.
Необходимо обратить внимание на следующую трактовку отца Павла, где София представляет собой всё творение, обращённое к своему Творцу, творение как единую ипостась443: «София участвует в жизни Триипостасного Божества, входит в Троичные недра и приобщается Божественной Любви. Но, будучи четвёртым, тварным и, значит, не едино-сущным Лицом, она не “образует” Божественное Единство, она не “есть” Любовь, но лишь входит в общение Любви, допускается войти в это общение...»444. Н. Н. Павлюченков справедливо замечает, что обвинение В. Н. Лосского в отношении поздней софиологии прот. Сергия Булгакова (касающееся искажения христианской триадологии в связи с введением понятия четвертой божественной ипостаси) к о. П. Флоренскому отнесено быть не может445. В понятии четвёртой ипостаси Флоренским подчёркнута её тварность, отличительность от Трёх Лиц, её неединосущие с Богом.
2. Второй аспект понятия Софии рассматривается в десятом письме как осуществленная Мудрость Божия. Если первый аспект представляет собой Божественную мысль (замысел, идею) Творца о твари, то второй аспект – осуществление этого замысла, творческий, зиждительный аспект Софии.
Отец Павел раскрывает указанную софийную сторону с помощью толкований свт. Афанасия Великого выражения Книги Притчей, где Премудрость говорит о Себе: Господь создал Меня – ἔκτισέ με – началом путей Своих в дела Свои (Притч. 8:22)446. Флоренский указывает, что свт. Афанасий понимает в различных местах своих творений под Премудростью, кроме Ипостаси Сына Божия, весьма разное. К таким пониманиям, согласно отцу Павлу, относятся следующие: человеческое естество Христа, Его Тело, Церковь, сторона тварного мира, обращенная к вечности447. В этом о. Павел видит синтез разных сторон одного существа: Премудрость, понимаемая разными способами, «на деле суть всё одна и та же София, как Бого-зданное единство идеальных определений твари, – одна и та же София, но под разными аспектами воспринимаемая, – цельное естество твари»448.
Таким образом, признавая, что София Премудрость Божия есть Ипостась Сына449, Флоренский выясняет и другие аспекты этого понятия, дающие увидеть мир в его единстве и мир, заключённый в Боге. Несмотря на то, что утверждения о тварной Софии обосновываются автором «Столпа» текстами свт. Афанасия, необходимо отметить, что преобладающее понимание этим святителем Премудрости выражается в Её отнесении ко Второй Ипостаси. Тварная Премудрость из Притч. 8:22 также принадлежит, согласно свт. Афанасию, Ипостаси Сына в Её воплощении. Характерной чертой обоих рассмотренных аспектов (мир в Боге и Бог в мире) в рассуждениях о. П. Флоренского является их множественность и неопределённость.
3. Ещё один аспект софиологии П. А. Флоренского – эстетический: «София есть Красота»450. Созидательная Премудрость оставляет на творении Свой образ. Этот образ проявляется в виде духовной красоты, т. е. целомудрия. Типом действительной чистоты, живым источником мировой чистоты, красотой тварного, началом духовной твари называет автор Пресвятую Богородицу451 – значительная часть письма посвящена именно Богоматери.
Чистота и целомудрие являются, по Флоренскому, аспектом Софии, а также необходимым условием для созерцания Софии. Здесь о. Павел указывает на антиномию (где антитезис не вполне определённый): «Не должно удивляться этому противоречию между тезисом и антитезисом, т. е. между положениями: “Девство – источник созерцания Софии” и “Созерцание Софии – источник девства”. Это – лишь частный случай великой антиномии между Божией благодатью и человеческим подвигом...»452. Это противопоставление, вероятно, можно понять следующим образом: чтобы жить с Богом и в Боге, нужно открыть для себя эту жизнь, войти в неё. Но чтобы войти в эту духовную жизнь, нужно уже быть ей причастным, т. е. обладать духовным началом.
Итак, если первые два аспекта Софии (мир в Боге и Бог в мире) относятся к онтологическому пониманию Премудрости, то третий аспект позволительно назвать феноменологическим (явление Премудрости).
Три софийных аспекта находят свое выражение в трёх иконографических типах Софии: 1) Новгородский – Ангела; 2) Киевский – Богородицы и 3) Ярославский – Церкви453. Однако последовательность этих типов не совпадает с изложенной выше логикой повествования десятого письма. Речь о Богоматери ведётся только в конце письма.
Неопределённость свойственна и заключительным строкам «Софии», где отец Павел подводит итог своему опыту восприятия многообразия в его единстве. Три указанных аспекта, три типа понимания Премудрости Божией распределены Флоренским по хронологическому принципу их появления в религиозной мысли (а не согласно структуре письма): 1) парение богословского созерцания, 2) подвиг внутренней чистоты и 3) радость всеобщего единства – «эта тройственная жизнь веры, надежды и любви, – она дробится человеческим сознанием на раздельные моменты жизни и только в Утешителе получает своё единство»454.
Учение о Софии, предполагающее объединение всех её смыслов: ветхозаветных прозрений и античных предчувствий, философских и мистических интуиций, – это учение, по мнению Флоренского, выразилось в очищенном виде в Церкви455. Однако такой всеобъемлющий смысл не находит церковного подтверждения, последующая полемика вокруг учения о. Сергия Булгакова выявила традиционное понимание Софии как Ипостаси Сына, закрепив за иными трактовками характеристику, как минимум, частных мнений.
Использование понятия Софии всегда требует уточнения, о чём идёт речь: об ипостасной ли Премудрости – Сыне Божием, о Божественных ли энергиях, об отпечатлении ли их в творении, о самом ли творении как совокупной ипостаси, о несубстанциональной ли премудрости-разумности, или иных смыслах. Уточнение означает, что существуют более точные термины, в связи с этим можно согласиться с прот. Василием Зеньковским: термин «софиология», скорее, мешает, чем помогает в понимании её проблематики456, также и с отцом Александром Шмеманом, говорящим о ненужности этого термина в богословии457. Вместе с тем, учение о Софии даёт уникальную возможность проследить непрерывную историю человеческой мысли, с самой древности до наших дней, в её поиске принципа соотнесения Небесного и земного458.
Что же касается исследования антиномического метода, то письмо «София» говорит о следующей особенности антиномии: она может быть не только двумя противоположными суждениями, а ещё представлять собою единство разных феноменов459. Сам подход, которым пользуется о. Павел, может быть назван интуитивным. Им он будет обширно применяться при истолковании имён в своих опытах по ономатологии. В книге «Имена» он назовёт его ономатологическим анализом460, однако, сейчас мы можем заключать о духовной основе подобной интуиции.
Сложно согласиться с отцом Павлом, когда он говорит об антиномии как о синтезе разного461. Тем более, он не даёт обоснования, почему антиномия может быть не только взаимоисключением тезиса и антитезиса. И всё же София в предложенном подходе о. П. Флоренского антиномична. И здесь находит место строгая антиномия: София есть Христос – Божия Сила и Божия Премудрость (1Кор.1:24). Тезисом этой антиномии является утверждение о Христе как истинном Боге, антитезисом её выступает утверждение о Христе как истинном человеке.
Флоренский распространяет это принцип на всё творение как относящееся к Богу, Божие творение, имеющее на себе отпечаток Творца462. «Если София есть вся Тварь, то душа и совесть Твари, – Человечество, – София по преимуществу. Если София есть все человечество, то душа и совесть человечества, – Церковь, – есть София по преимуществу. Если София есть Церковь, то душа и совесть Церкви, – Церковь Святых, – есть София по преимуществу. Если София есть Церковь Святых, то душа и совесть Церкви Святых, – <...> Матерь Божия, – опять-таки есть София по преимуществу»463.
Софийность у о. П. Флоренского, таким образом, отражает связь творения со своим Творцом. И связь эта носит тот же антиномический характер, что и в догмате о Боговоплощении: иноприродные тварь и Творец находятся в неслитном единстве. Примеры антиномичного изложения этого единства можно увидеть в работах архиеп. Василия (Кривошеина). Так, в основе учения свт. Григория Паламы патролог видит «антиномичное утверждение полной неприступности, трансцендентности и “внемирности” Бога и вместе с тем Его самооткровения миру, имманентности ему и реального Его в нём присутствия»464.
Антиномичное понимание Софии как синтеза тварно-нетварного позволяет опознать отклоняющиеся от его равновесия концепции В. С. Соловьёва (то в сторону чувственно-материального465, то в сторону признания за ней субстанции Троицы466) и прот. Сергия Булгакова, в поздних работах приравнявшего Софию к Божественной сущности («концепция Софии как не-ипостасной усии»467). Софиология, таким образом, является сложным и вовсе не единым течением русской религиозной мысли468. Стремление основываться на церковных источниках (на взглядах свт. Афанасия Великого, иконографии и богослужебных текстах) составляет особенность учения священника Павла Флоренского. В отношении же антиномии рассуждения письма «София» выдвигают на первый план её интегральное свойство (тождество противоречия).
2.12. Антиномия агапической и филической любви
Одним русским глаголом «любить» переводятся четыре греческих глагола: ἐράω (чувственная любовь, страсть), στέργω (родовая привязанность), φιλέω (приязнь, душевная близость), ἀγαπάω (уважение, ценность). В Священном Писании используются последние два слова: φιλέω, ἀγαπάω469. О. Павел Флоренский поясняет данное словоупотребление. Если в античном обществе «двумя скрепами»470 и «метафизческим устоем»471 были личная сила (ἔρως) и родовое начало (στοργή), то для христианского общества «естественною почвою»472 стали φιλία, в области личной, и ἀγάπη – в общественной.
Агапическая любовь, ἀγάπη – это братская любовь, свойственная отношениям между членами христианской общины, прихода или монастыря, это любовь ко всякому ближнему. В литургической жизни первенствующей Церкви образом этой любви являлись агапы, вечери любви, кульминацией которых было общее Причастие Тела и Крови Спасителя. Для φιλία соответственным чинопоследованием, как сообщает письмо «Дружба», является обряд братотворения473.
Филическая любовь – ей и посвящено одиннадцатое письмо – это дружба. Для христианина всякий человек является ближним (Евангелие установило «геометрическое» понимание ближнего как того, кто близко474), но не всякий может быть другом. Точнее, он может быть только один, безусловно принимаемый, а значит, требующий тщательного избрания475. Отец Павел дружбу определяет через понятие единосущия: в дружбе сливаются два раздельных потока жизни476. Автор подчеркивает онтологическое и мистическое единосущное (в противоположность подобосущному) единство дружбы477, здесь главную роль играет не моральное и психологическое отношение к дружбе, а духовная реальность этого единства.
Там же, где присутствует единосущие (тема третьего письма), там находится и антиномия. Истинная дружба антиномична: две души становятся одной душой478. «В дружбе – не со-радование и со-страдание, а созвучное радование и созвучное страдание <...> Это собственная радость и собственное страдание»479. Вместе с тем единство дружбы не растворяет уникальность человека, а наоборот, выявляет незаменимую ценность и своеобразие личности, открывает её задатки.
Явно антиномичным в свете данных рассуждений предстаёт приводимое отцом Павлом высказывание свт. Иоанна Златоуста: «Имеющий друга имеет другого себя»480. Антиномия позволяет увидеть глубокое духовное содержание дружбы как обретение нового самого себя, поскольку «в дружбе начинается выявление личности»481. Через друга происходит проверка, не заблуждаюсь ли я относительно своей греховности и добродетельности. Та проверка, которая совершится в конце времён Судом Божиим, в какой-то мере происходит и в отношениях дружбы.
О. Павел приходит к следующему выводу: «Что же есть дружба? – Созерцание Себя через Друга в Боге»482. Относительно же антиномии: «Друг – это Я, которое не-Я: друг – contradictio, и в самом понятии о нём завита антиномия»483.
Согласно рассуждениям «Столпа», антиномична христианская любовь сама по себе (как выводящая из состояния самотождественности), антиномична дружба («антиномия личности-двоицы»484), но также антиномичны соединённые в жизни Церкви и в жизни конкретного христианина любовь и дружба, братство и дружество.
Только ещё намеченная в Ветхом завете пара ἀγάπη-φιλία полностью открылась «в той Книге, в которой безумно-ясно и спасительно-остро выявились антиномии духовной жизни, – в Евангелии»485. Далее о. Павел перечисляет евангельские темы («антиномичные двоицы Благой Вести»486), которые составляют антиномию ἀγάπη-φιλία:
· равно-мерная любовь ко всем и к каждому в их единстве – сосредоточенная в один фокус любовь к некоторым, даже к одному в его выделении из общего единства;
· явность пред всеми, открытость со всеми – эзотеризм, тайна некоторых (ср.: Мф.13:11, Мк.4:11, Лк.8:10);
· величайший демократизм – строжайший аристократизм;
· безусловно все являются избранными – из избранных избранные;
· проповедуйте Евангелие всей твари (Мк.16:15, ср. Кол.1:23) – не мечите бисера пред свиньями (Мф.7:6).
Отец Павел обнаруживает совершенно ясную логическую противоположность евангельских истин, которые знакомы христианину, но которые, однако, в церковной жизни не вступают в противоборство, и каждая по- своему используется христианином в конкретном жизненном случае. При всей своей доступности и простоте каждое слово Евангелия толкуется, и без церковных толкований не может быть правильно понятым: «Книга, прозрачная как хрусталь, есть в то же время Книга за семью печатями»487. То же относится и к самой Церкви: «Все равны в христианской общине, и, в то же время, вся структура общины иерархична»488. Отец Павел указывает на концентрические слои около Христа: внешние «толпы народа»; затем идут «окружавшие» Христа; затем – тайные ученики и сторонники вроде Никодима, Иосифа Аримафейского, Лазаря с сёстрами; далее – избранные: «семьдесят», за ними – «двенадцать», еще за ними – «трое» (Петр, Иаков, Иоанн), и наконец, из последних трёх – «один», которого любил Господь (Ин.13:23)489.
Вывод, который делает о. Павел относительно антиномии ἀγάπη-φιλία в церковной общине, уже встречался на страницах «Столпа», когда речь шла о сверхрассудочности догмата: «Эксотеризм и эсотеризм не совместимы рассудочно и примиряются лишь в самой таинственной жизни христианской, а не в разсудочных формах и рациональных схемах»490.
Что же касается ἀγάπη-φιλία в жизни отдельного члена общины, то согласно «Столпу», чтобы любить всех, нужно сначала получить этот опыт по отношению к одному человеку; чтобы относиться ко всем, как к самому себе, надо хоть в одном человеке видеть себя и осуществить единичную победу над самостью491. По о. Павлу Флоренскому φιλία есть «закваска» личности (три меры муки́ (Мф.13:33) – личность), ἀγάπη – предохраняющая от разложения «соль» человеческих отношений492: первая открывает любовь ко всем через опыт любви к одному, вторая распространяет этот опыт, не позволяет ему оставаться единичным.
Итак, письмо «Дружба» знакомит нас с антиномией агапической и филической любви в общинной и личной жизни христианина. Любовь вселенская и любовь к брату, как показывает о. Павел, – разные, но это любовь, исходящая от одного человека, любящего всех рáвно (ἀγάπη) и одновременно не рáвно (φιλία). И та, и другая взаимно обусловлены и нуждаются друг в друге.
2.13. Антиномия ревности
Ревность защищает любовь: подчеркивает ценность любви, незаменимость приобретенного другого Я; выявляет жизненность и силу любви; оформляет, разграничивает, изолирует конкретные отношения любви – таковы положения последнего письма «Столпа». Автор сравнивает любовь с центробежной силой, выводящей за границу отдельного существования, а ревность – с центростремительной силой, удерживающей любовь от расплывчатости и безличности493.
Именно через понятие силы о. Павел характеризует ревность: она совсем не зависть к удачливому сопернику или ненависть к нему и общему объекту любви, ревность – это «необходимая сторона сильной любви»494, ограждение и оберегание своей любви, решительная готовность пострадать за её сохранение. Автор ссылается на преп. Исаака Сирина, согласно которому ревность есть необходимая сторона всего доброго, что ни есть в человеке, сила, осуществляющая добрые желания, «уподобляющаяся огненным углям», ограждающая «душу от расслабления или от боязни, при устремлении на неё всякого рода стеснительных обстоятельств»; «некто, облеченный во Христа, ревность сию в словах своих назвал псом – и хранителем закона Божия»495.
Если ревность представляется необходимым элементом любви, то в чём же заключается антиномия ревности? Для объяснения этой антиномии о. Павел использует наставления Спасителя о неосуждении ближнего: Вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучек из глаза брата твоего (Мф.6:5). И антитетически противопоставляет это наставление против другого: Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего пред свиньями (Мф.7:6). С одной стороны, действует заповедь о неосуждении ближнего, с другой стороны, этот же ближний может оказаться недостойным духовного посвящения. Отец Павел комментирует условие посвящения в тайны веры: «Открывай их лишь некоторым, избранным, выделенным из стада свиного. Это – антиномия, и антиномия эта приблизительно равносильна антиномии любви-ревности»496.
Итак, ревность выражается в требовании ответной любви. А значит, во- первых, происходит сочетание требования и свободного отклика, что составляют антиномию ревности. Во-вторых, если любовь есть выхождение из самости, из себялюбия, то ревность есть забота о взаимности любви, т. е. направленность на себя самого. Здесь противоположна именно направленность векторов сил любви и ревности, сила одной и той же личности.
Таким образом, в ревности можно увидеть две антиномии: во-первых, настойчивое требование ответной любви входит в противоречие с добровольностью любви (антиномия в объекте любви), во-вторых, «отречению от Я» любви противопоставляется «забота о Я» ревности (антиномия в субъекте любви). Усиливается антиномичность ревности указанием на принадлежность её Богу и подчеркиванием, что даже для любви Божией есть непреодолимый предел – безответность любви человека: «Сам Спаситель мира избранному Богом народу, – когда подошел к этой границе, с которой ясно была видна невозможность пронять его любовью. – Сам Он повернул вспять. <...> Се оставляется вам дом ваш пуст (Мф.23:38)»497.
2.14. Математическая логика на службе у богословия (в Разъяснении к «Столпу и утверждению Истины»)
П.А. Флоренский пользуется в своих трудах математической логикой (иногда называя её логистикой), в том числе, и для обоснования антиномии. Значительное пространство книги «Столп и утверждение Истины» занимают логико-математические выкладки. Их встречаем в шестом письме и разъяснениях XVI, XVII, XIX, XXX (приложение к «Столпу», которые Флоренский назвал: Разъяснение и доказательство некоторых частностей, в тексте предполагавшихся уже доказанными).
Так, в указанном письме Флоренский применяет «логистический алгоритм»498 для строго формального выражения своего утверждения, что истина есть антиномия. По его словам, это позволяет составить логическую теорию антиномии499 или логическую схему антиномии500. В итоге автор предлагает следующую формулу антиномии: Р = (р ∩ –р) ∩ V, где Р – знак антиномии, V – знак истины, ∩ – оператор логического умножения (совместности), р – знак суждения501. Переводится эта формула следующим образом: «Антиномия есть такое предложение, которое, будучи истинным, содержит в себе совместно тезис и антитезис, так что недоступно никакому возражению»502. Однако если это утверждение отца Павла истинно, то истина должна быть также доступной возражению (по определению истины как противоречия: истина недоступна возражению (тезис) – истина недоступна возражению (антитезис)). В отличие от этого парадоксального утверждения, церковному взгляду привычно понимание того, что неуязвимость истине сообщает её премирный характер, превосходящий рассудочность. Здесь же отец Павел стремиться доказать это положение на универсальном языке логики.
Исследователи отмечают, что логические построения Флоренского служат ему в первую очередь для доказательства недостаточности рассудочных схем в деле постижения истин Православия503, для демонстрации ограниченности рассудка504; математика у отца Павла связана с религиозным опытом505.
Основная дискуссия среди логиков разворачивается по поводу решения Флоренским задачи Льюиса Кэрролла506. Отец Павел рассматривает эту задачу в изложении Луи Кутюра («Основания математики»). Условия задачи: q включает r; р включает, что q включает не-r. Что следует из сопоставления двух этих выражений? Флоренский не соглашается с Кэрроллом, для которого данное сопоставление абсурдно.
Основной причиной этого несогласия как раз и являются взгляды отца Павла на антиномию, развитые в богословском контексте. Характерен приводимый им пример совместных утверждений о противоречивости и одновременно Боговдохновенности Священного Предания. Он вполне вписывается в схему задачи Кэрролла: q означает противоречивость Писания и догматов, r означает не-божественное их происхождение; р означает состояние духовного просветления, не-r – божественность Священного Писания и догматов. Формула q ⸧ r: ∩: p. ⸧ q. ⸧ –r переводится таким образом: противоречия в Священном Писании и догматах ведут к признанию их не- божественного происхождения (позиция рационалиста); в состоянии же духовной просвещённости (позиция мистика) противоречия «доказывают божественность Священного Писания и догматов»507.
Дискуссию по поводу решения Флоренского открыли работы Е. А. Сидоренко. Евгений Александрович в целом положительно оценивает рассуждения философа, поддерживает вывод Флоренского, отмечает важность обращения мыслителя к символической логике, что, по его мнению, делает более ясной постановку задачи и более чёткой её понимание508. Основная критика Е. А. Сидоренко направлена на беспредпосылочность формулировки p. ⸧ q. ⸧ – r: духовное просветление ведёт к признанию, что противоречивость Писания означает его божественность. Отсутствие запрета переходить от q к не-r открывает возможность, по словам проф. Сидоренко, тривиальной интерпретации: в рамках данной логики можно вывести всё что угодно509.
Действительно, трудно принять это высказывание – противоречивость доказывает божественность – в чистом виде. Повторим ранее оговорённое: истина есть противоречие, а не противоречие есть истина. Именно этого ограничения и требует формула p. ⸧ q. ⸧ –r.
Представляется вполне правомерным ещё один вывод исследователя, что указанная формула делает необоснованным q ⸧ r, т. е. необоснованным, что из противоречивости Писания следует его не-божественность510. Эта программа- минимум вполне согласуется с позицией отца Павла.
Проф. И. А. Герасимова солидарна с оценками Е. А. Сидоренко, считая, что он наиболее близко подошел к пониманию логики Флоренского511.
Проф. Б. В. Бирюков, напротив, не находит в разъяснениях Флоренского немонотонной и паранепротиворечивой логик512, а также не соглашается с Е. А. Сидоренко, что Флоренский своей гносеолого-теологической цели не достиг513. «Пусть – не достиг. Но и считать, что он просто ошибался, вряд ли стоит»514, – пишет Бирюков и приводит формулы Флоренского – «математико- логическое облачение»515 его умственного процесса – в современный вид. Итогом этого перевода становится следующее заключение; «Священное Писание и догматы христианства непротиворечивы (что, правда, усматривается именно в состоянии духовного просветления)»516.
Действительно, эта мысль принадлежит Флоренскому, в духовном свете противоречия становятся единством517, т. е. непротиворечием. Но всё же в рассматриваемой задаче Священное Писание и догматы берутся как противоречия (по условиям примера q есть противоречие Писания и догматов). И основное стремление этого примера заключается в том, чтобы доказать: истине свойственно противоречие, что является атрибутом её неотмирности.
Свою позицию Б. В. Бирюков повторно озвучивает в совместной с И. П. Прядко статье, указывая, что классическая логика используется Флоренским «для опровержения того, будто Священное Писание и православная догматика противоречивы»518. Не опровержением, а как раз доказательством этого положения занят автор «Столпа».
Логический анализ Б. В. Бирюкова подвергнут критике проф. В. А. Бочаровым519, который возмущается оценкой логической компетентности Флоренского. В. А. Бочаров, которому, в частности, принадлежит авторство статьи «Методологический атеизм научен»520, занимает крайне негативную позицию по отношению к Флоренскому. Также и А. Бронников отказывает Флоренскому в звании математика и даже учёного521.
Укажем также и мнение современника Флоренского, математика Д. Ф. Егорова: «Достал я себе диссертацию Флоренского и нашёл в ней много интересного. В частности, мысль о неизбежности антиномичности догматов, может быть не нова, но хорошо выставлена и проведена»522. Наш современник В. И. Моисеев считает, что предложенную Флоренским формулу антиномии нельзя считать правильной523.
Ряд иностранных авторов, опираясь на работы упомянутых в данном параграфе отечественных авторов, также придерживаются критического отношения к данным логико-математическим обоснованиям Флоренского. Так, Г. Мур пишет, что указанная логическая теория в настоящее время широко дискредитирована524. П. Роек, придерживаясь умеренной точки зрения, указывает, что логическая аргументация Флоренского устарела и является «тавтологией исчисления высказываний»525, однако для религиозного дискурса теологический аргумент может быть приемлемым526. Некритический подход к логике Флоренского наблюдается у М. Родса527, который, в частности, указывает на усложняющее проблему наличие опечатки «p ∪ –q» вместо правильного «p ⸧ –q» в издании «Столпа» 1914 г. (С. 501)528.
Таким образом, мы ознакомились с мнением специалистов, которые рассматривают применение Флоренским аппарата математической логики. Никто из них не говорит о безупречности его построений, и в то же время данные исследователи не имеют общего мнения относительно ошибок отца Павла. Вновь мы сталкиваемся с поляризованностью оценок его творчества. Отметим также мнение Е. И. Сидоренко – первого логика, занявшегося исследованием взглядов Флоренского529, – о необходимости ограничительных норм для работы с противоречивыми посылками.
Выводы
Итак, мы совершили обзор книги «Столп и утверждение Истины»; выяснили, каким образом в ней раскрывается понятие антиномии, как антиномия используется в ней в качестве метода выяснения истины и решения богословских проблем; убедились в значимости этого метода для богословия и философии. Ряд случаев (в частности, в таблице антиномий и письме девятом), характеризуемых Флоренским в качестве антиномий, в главе находит критическое отношение.
Отметим двойственность оценки антиномии в книге отца Павла: она – болезнь разума, она же – истина. Можно назвать эту двойственность основным богословским вопросом антиномии. Он заострён в рассуждениях Е. Н. Трубецкого, о. Георгия Флоровского, П. П. Гайденко, Н. К. Гаврюшина. Данная двойственность наблюдается в употреблении понятия антиномии преп. Иустином (Поповичем). Из 18 раз его употребления в русских переводах половина случаев подчёркивает негативную оценку антиномии, «убийственной для человеческого разума»530, другая половина отражает положительную оценку, в том числе, связывая антиномию со спасением531. Более 30 раз «антиномия» встречается у А. И. Сидорова в семи томах «Святоотеческого наследия и церковных древностей», причём с той же двойственностью. Для верующего разума антиномия примирена, но её логическая структура (рассудочное восприятие) остаётся противоречивой, в чём и заключается причина чередования положительных и отрицательных оценок антиномизма.
Отношение к двойственности антиномизма позволяет проследить и другую линию преемственности: о. П. Флоренский – о. И. Мейендорф – митр. Каллист (Уэр). Прот. Иоанн Мейендорф был знаком с работами Флоренского, вышедшими после «Столпа»532, в которых антиномизм не находит отрицательной оценки, что можно увидеть и в употреблении понятия антиномии отцом Иоанном, и ссылающимся на него митр. Каллистом. Ещё одна предположительная линия: П.А. Флоренский – В.Н. Лосский – Ж.-К. Ларше. Можно предположить преемственный интерес к антиномии и среди представителей русской академической философии: А.Ф. Лосев – С.С. Аверинцев – В.В. Бибихин – А.В. Ахутин.
Во всех двенадцати письмах «Столпа» имеет место антиномическая методология, которую можно назвать одним из ключей к их пониманию. Шестое письмо, в особенности, даёт право согласиться с применением к концепции Флоренского понятия радикализма (прот. Сергий Булгаков533). Под радикализмом здесь понимается не расширение самого понятия антиномии, а масштабность его использования, в том числе для определения истины, при этом формулировка Флоренского категоричная и предельно обобщённая: истина есть антиномия.
Также и теодицея Флоренского по своему смыслу масштабнее привычного понимания данного термина богооправдания как согласования теологических противоречий и как выяснения проблемы зла. Теодицея этих двенадцати писем представляется нам ответом на вопрос о возможности мыслить о Боге. Как возможно мыслить о Боге? – Не иначе как о Святой Троице. Вопрос же об инструменте этого осмысления, поставленный в лекции «Космологические антиномии И. Канта» – «Как возможен разум?» – находит свой ответ: как верующий разум.
Если теодицея говорит, как возможен Бог для человека, то антроподицея говорит о том, как возможен человек для Бога. Антроподицея призвана указать на Божественный замысел о человеке, каким может и должен быть человек: посвящённым Богу, обόженным.
3. Антиномия как философско-богословский метод антроподицеи священника Павла Флоренского
«Это и есть та междоусобная война,
которую Творец премудро изобрёл»534.
Понятие антроподицеи (ἄνθρωπος – человек и δίκη – справедливость), исходя из его буквального значения, можно передать как оправдание человека. Отец Андроник считает, что этот термин был впервые введен в историю христианской философии и богословия П. Флоренским в 1905 году в статье «Догматизм и догматика», и в широком смысле слова под ним можно понимать «всякое религиозно-философское учение, стремящееся согласовать идею совершенства и разумности человека с его наличным несовершенством»535.
Антропология священника Павла Флоренского отличается многообразием подходов к пониманию человека. Человек в философии Флоренского рассматривается со следующих ракурсов: генеалогически (человек в лице своих предков и потомков), физиологически (телесная составляющая человека), психологически (его душевные свойства и проявления), биографически (фиксация событий его жизни), социологически (другие личности и сообщества в жизни конкретного человека), в его мировоззренчески-познавательном аспекте (какие идеи его питали и какие он сам воплощал), экономически (плодотворность и созидательность человека; человек как потребитель материальных благ), литургически (homo liturgus, человек литургисающий, раскрывающийся в культовой деятельности), агиологически (человек, достигший святости, или в более широком смысле: как носитель Святого Духа). В перечисленных параметрах и их взаимосвязях можно обнаружить антиномическую составляющую.
Особенностью творчества Флоренского также является противопоставление механическому подходу к изучению действительности – органического и онтологического видения мира, обнаружение живого там, где застывшие формы стали привычными (противопоставление Средневековья и Возрождения, Платона и Канта, буквы и духа). Одним из элементов такого отношения к миру является распознание и принятие его антиномичности.
Иг. Андроник (Трубачёв) обоснованно замечает, что аналогично теодицее, антроподицея по форме будет учением философским, а по содержанию – религиозным536. В связи с этим антиномию и здесь уместно рассматривать как философско-богословский метод.
3.1. Антиномия объекта и субъекта познания (согласно лекциям П. А. Флоренского по истории мировоззрений)
Одновременно с работой над опытами православной теодицеи и православной антроподицеи отец Павел читал лекции в Московской духовной академии вплоть до её закрытия, а затем продолжил преподавательскую деятельность, в том числе как лектор и в советских образовательных учреждениях, несмотря на множество трудностей, связанных с его священством. Характерен взгляд отца Павла на природу лекционной формы изложения мыслей (последующие работы «Философия культа» и «У водоразделов мысли» будут написаны им также в форме лекций). Он задаёт вопрос об особенности лекции: чем отличается чтение лекции, например, от чтения с кафедры учебника? «Отношение учебника к курсу лекций можно приравнять с отношением механизма к организму»537. В этом сравнении лекция выявляет такие свои черты, как непринужденность и свобода своего построения; творческий рост; род собеседования в среде духовно близких людей538.
Такое понимание лекции вызывает ассоциации с древними учителями мудрости и их учеников-последователей. Именно их взгляды и рассматривались П.А. Флоренским на лекциях по истории древней философии. Фрагмент курса 1908–1909 гг. был напечатан в виде статьи «Пределы гносеологии. Основная антиномия теории знания»539 в редактируемом им «Богословском вестнике» в 1913 г540, однако эта публикация представляла собой только первую часть статьи. В настоящее время изданы лекции П. А. Флоренского, которые легли в основу этой статьи и должны были послужить материалом для её завершения541. На основе данных материалов (статьи и лекций) попытаемся воспроизвести взгляды Флоренского относительно антиномии в теории познания.
Общим началом знания П. А. Флоренский называет раздвоенность акта знания на субъект и объект. Эта первичная двойственность и составляет предмет гносеологии. В зависимости от того, что берется началом познания, субъект или объект, различаются типы теоретического познания.
1. Первый теоретико-познавательный путь исходит из объективного момента знания542. Субъект знания становится «дедуцированным» (выводится, доказывается) из объекта знания. Познающий постольку обладает знанием, поскольку ему позволяет объект познания. Каждый акт познания есть субъект, который становится объектом для последующего акта познания. Этот тип, по Флоренскому, носит названия сенсуализма, позитивизма, феноменализма, реализма, эмпириокритицизма, имманентизма, интуитивизма.
2. Второй теоретико-познавательный путь обратен предыдущему, ибо исходит из субъективного момента знания543. Здесь объект дедуцируется из субъекта, так как сам объект есть то, что охватывается субъектом познания. Этот путь представлен идеализмом, рационализмом, панлогизмом, панметодизмом. По-видимому, во втором случае П. Флоренский вступает в полемику именно с критическим идеализмом И. Канта. Учение немецкого философа о познании В. С. Соловьев характеризует следующим образом: «Мир познается умом, лишь поскольку он создается им же; строго говоря, ум познает только свои собственные акты»544. Кантовской концепции Флоренский противопоставляет онтологическое познание, где как раз имеет место субъект-объектный переход. Флоренский сопоставляет два типа познания – реалистический и рационалистический – «две параллельные линии, ограничивающие область той теории знания, которая желает оставаться в пределах человеческой данности и исключает возможность новых опытов и откровений иных миров»545. Поясняя эту мысль П. А. Флоренского, Л. Г. Антипенко указывает, что о. Павел понял, какие ограничения накладывает на духовную деятельность эмпирическое мировоззрение, но его не устраивал и изобретённый на Западе рационалистический способ познания546. «Человеческая данность», а точнее вера только в эту данность, приписывание действительности только лишь ей, которая познавательно исчерпывается разделением на субъект и объект, на веру в Я и в не-Я, и составляет пределы гносеологии.
В этих границах, отделивших «человеческую данность» от области мистической, материальное от духовного – познание в двух своих началах (субъективном и объективном), согласно отцу Павлу, антиномично: «Равно- возможность субъективных и объективных построений в области теории знания – это основная антиномия науки о знании»547. Всякое знание одинаково субъективно (зависит от сознания) и одинаково объективно (не зависит от сознания, поскольку сознание само становится объектом). Вместе с тем субъект и объект знания являются противоположными началами.
Для лучшего понимания этой антиномии П.А. Флоренский задаётся целью разъяснить суть обоих познавательных направлений, однако в статье нашел отражение только один из них – рациональный, которому и посвящены последующие 24 страницы статьи.
Павел Александрович в итоге выясняет, что всякое знание есть рефлексия на предыдущее, знание (субъект) предыдущего знания (объект). Последующее знание есть опознание предыдущего, обращение на него. В своих пределах эта цепочка знания представляет собой трансцендентальный субъект: «всё знание (познающее) в его целокупности»548 и трансцендентный объект: «всё знание (познаваемое) в его целокупности»549 (вещь в себе, которая «вещнее», глубже самой вещи). Для познающего они никогда не даны, но заданы, отсюда их трансцендентность (недоступны опыту) и трансцендентальность (предшествуют чувственному опыту), недоступность познанию, «но всё же они всегда содержатся в каждом акте знания»550. По своей сути это заключение антиномично. Фрагментарное знание, являясь частью всего возможного, но недоступного знания, делает последнее доступным. Кроме того, само познание, приобретая часть знания, соприкасается с этим всеобщим знанием, познаёт это всеобщее. Флоренский подытоживает это рассуждение: «Каждый акт знания включает в себя забытую вещь в себе и запамятованного трансцендентального субъекта»551.
Здесь у отца Павла как раз и проявляется связь Канта и Платона: платоновское учение о знании как припоминании (ἀνάμνησις) мира идей. «Каждое научное произведение содержится в предыдущем, и наоборот; одно можно найти в другом»552. Эта теория познания, основанная на явлении парамнезии, в свою очередь, связана с антиномическим учением о символе как части равной целому, о чём будет сказано ниже.
Выясним теперь: «реализм или – его чистейшая форма – интуитивизм не ответит по-своему на те же вопросы знания»553?
Если рациональный путь познания, разобранный в статье «Пределы гносеологии. Основная антиномия знания», был предметом лекции 1908 г. под заглавием «Знание как система актов различения (потенции сознания)», то познавательный реализм и интуитивизм рассматриваются в этой же лекции с заголовком «Знание как суждение о действительности».
Если в первом случае знание представлялось как акт различения знания, то теперь «знание есть процесс дифференцирования действительности путем сравнения»554 или «переживание, сравненное с другими переживаниями»555. То есть мы знаем отдельный фрагмент действительности, когда сравниваем его с другими, из которых он выделен, «тогда мы говорим, что знаем его и знаем до известной степени саму действительность»556, в целом остающуюся «темной, неисчерпаемой, неизвестной»557.
Далее Флоренский цитирует диссертацию проф. Санкт-Петербургской духовной академии М. И. Каринского: несмотря на расхождения в понимании терминов, мы хорошо понимаем друг друга «при взаимной передаче мнений о предметах»558, обозначенных этими терминами. Выводом из этого наблюдения является то, что если бы мы познавали не реальность, а свои ощущения от этой реальности или свои понятия об этой реальности, то взаимное понимание сделалось бы абсолютною нелепостью559.
Общий итог рассуждений о знании с объективной стороны таков: «В акте познания я делаюсь причастным и всякому другому переживающему ту же реальность. Следовательно, познавая, я познаю не чрез себя только, а чрез всечеловеческий разум, – приобщаюсь надындивидуальной разумной сущности»560.
Если сравнить выводы об 1) идеальном (рационализм) и 2) реальном (интуитивизм) путях познания, то можно заметить, что как пути они различаются, но сходятся в своих конечных целях: 1) «Каждый акт знания ... включает в себя все обоюдо-бесконечное множество актов знания» и 2) приобщение в познании «всечеловеческому разуму», «надындивидуальной разумной сущности» – по сути, утверждение одной и той же мысли о «равно- возможности субъективных и объективных построений в области теории знания – основной антиномии науки о знании»561.
Вернемся теперь к началу статьи о познании, где говорилось о трёх путях гносеологии. Третий путь связан с требованием новой действительности, выходящей за рамки только человеческой, Флоренский называет его «путём к преображению действительности»562. В лекции 1908 г. этот третий вариант пути носит название: «Религиозно-метафизический момент познания». Основные положения, относящиеся к этому пути, следующие:
1. Познание есть экстаз, ἔκστασις, выхождение из себя, со-пребывание с познавательным объектом, имманентное познание, а не отделённое от познаваемого и потому – не дающее знания563.
2. Мистический и метафизический характер этого выхождения.
3. Существование надвременной и надпространственной области. Восприятие времени необходимо для познания, так как «невозможно было
бы различение одного состояния сознания от другого»564. Причем время должно быть дано сознанию не в своих моментах, а в их последовательности, а чтобы воспринимать эту последовательность, надо иметь точку опоры и быть выше времени: «Надо стать вне времени и смотреть на него не вдоль, а поперёк»565.
Далее П. А. Флоренский приводит примеры особых форм времени: в сновидении, под воздействием наркотических средств, гипноза, при творческом вдохновении, при «духовном подъеме»566, угрозе смерти567, при ударе электрическим током568, при интенсивной работе и вообще событийно насыщенной жизни. Особые формы времени в этих состояниях, ускоренное течение времени, его стянутость, сжатость, схематично переданы автором лекции следующим образом: «За весьма короткий промежуток времени в сознании проходит весьма содержательный поток переживаний»569.
В одном из приводимых примеров также есть указание на антиномию, когда причина (стук в дверь в комнату к спящему человеку) возникает после своего следствия (совершенно последовательное шумное событие в сновидении): «Таким образом, оба высказанные допущения – существования и отсутствия причинной связи между стуком в дверь и имевшим место в сновидении шумом, – с одной стороны, неизбежны, с другой – противоречат друг другу. Значит, здесь мы имеем дело с антиномией»570. Логически здесь, действительно, угадывается антиномия, однако описанное явление может объясняться обратным течением времени, рассуждения о котором также встречаются у Флоренского.
Данное указание на антиномию не должно заслонять от нас главной антиномичности религиозного познания, а именно совпадение субъекта познания с его объектом. Существует субъект и объект познания – тезис. Существует единый субъект-объект познания – антитезис.
Таким образом, мы рассмотрели три пути познания, представленные П. А. Флоренским в лекции 1908 г. и статье 1913 г., убедились в наличии антиномического метода, причем понятие антиномии подразумевается уже разъясненным: в статье термин «антиномия» упоминается 3 раза (только в вступлении), в лекции же только 1 раз. Если два первых пути, имеющих своими началами соответственно субъект и объект познания, по словам отца Павла, вместе составляют антиномию, то третий, религиозный путь, внутренне антиномичен.
3.2. Антиномии в философском осмыслении культа священником Павлом Флоренским
Собственно антроподицеей назван отцом Павлом его труд «Философия культа (Опыт православной антроподицеи)», который также представлен собранием лекций. Сказанное выше о лекционной форме (в её противопоставлении форме застывшей и безжизненной) здесь ещё сильнее подчеркнуто автором, заявляющим не только об отсутствии у него окончательных теорий и системы, но и решительной враждебности системе как застывшей мысли571. Поэтому излагаемые им взгляды отец Павел называет не курсом лекций, а собранием тем для размышления и пробуждения мысли.
Данная установка на провокацию мыслительной деятельности естественно подразумевает использование противопоставлений, в том числе и антиномического свойства. Так, методом антиномии отец Павел определяет понятие культа, предварительно выяснив предпосылку понимания культа – Божественное присутствие.
1. Начальные страницы книги посвящены раскрытию «Страха Божиего»572 (название первой лекции) через описание Божественных явлений, через присутствие Бога в мире. «Нездешнее открылось – и текучим, шатким, зыблющимся почувствовался весь мир: бывающее померкло пред истинно-сущим»573. Божественное бытие, явленное в культе, открывает, что не человек мера вещей – в культе его бытие меркнет перед Вечносущим: «Сами мы оказались дрожащим пламенем среди ветреных пространств, – на границе н и ч т о, еле-еле не не-сущими»574. Однако утраченная опора в самом человеке заменяется опорой в Боге, поддерживаемая культом, который есть «постоянный двигатель нет и да нашему бытию»575. Культ говорит о духовном мире как истинно сущем и дающем бытие миру земному и зависимому от него; земное существует постольку, поскольку существует небесное. В осуществлении культа человек свидетельствует о своём бытии как дарованном и находит его смысл в посвящении Творцу – в приношении «Твоя от Твоих». Отказ от освящения- посвящения себя Богу находит в дальнейшем у Флоренского именования культоборчества и автономного бытия.
Богословие Креста Господня, представленное в первой лекции, а именно его антропологический аспект, раскрывает обозначенный тезис о смысле бытия человека.
Отец Павел приводит слова св. прав. Иоанна Кронштадтского о том, что Крест есть образ распятого Христа576. Далее выясняется следующая схема: Крест – образ Божий, также и в человеке есть этот Образ, точнее «Крест и есть образ Божий в человеке»577, другими словами это соответствие выражается так:
πρωτότυπος – τύπος – ἔκτυπος578
Пресвятая Троица – Крест – Человек
Это рассуждение раскрывает также и сотериологический смысл библейского указания на сотворенность человека по Образу Божиему (Быт. 1:26). Отец Павел пишет: «Человек сотворен как ноуменальный Крест»579. Автор сравнивает человека с бутоном цветка: человек, духовно возрастая и раскрываясь, расправляется, как этот бутон, в крестообразном распростертии. «Цветение человеческого вида – прекраснейшее, что есть в человеке, человечное в человеке, – когда он крестообразно простерт. Это даже внешне-зрительно. Но еще более это таинственно-духовно»580.
Подтвердим эту мысль отца Павла Священным Писанием. В Неделю Крестопоклонную читается ярко антиномичное евангельское зачало:
Иже хощет по Мне ити, да отвержется себе, и возмет крест свой, и по Мне грядет: иже бо аще хощет душу свою спасти, погубит ю: а иже погубит душу свою Мене ради и евангелиа, той спасет ю (Мк.8:34,35).
Для чего же религия, как не для спасения, а здесь мы читаем: желает спасти душу – погубит её. Жизнь для себя, замкнутость на себе, для-себя-бытие, «эмбриональное» состояние противопоставляется жизни не для себя, самоотвержению, принятию креста. Об этом говорилось в § 2.12 «Антиномия агапической и филической любви»: самораскрытие через выхождение из Я в не-Я.
Так, культовая деятельность, богослужение, какое-либо приношение Богу также становится преодолением автономного бытия. Дарованное человеку бытие не останавливается на самом себе, но снова становится даром через обратное возвращение его Богу, раскрывая, осуществляя свой смысл.
Обратим внимание на характеристику крестного знамения, которое есть «внутреннее противоречие» в связи с тем, что здесь целенаправленное движение руки, как только оно устремилось к своей цели, это устремление отрицает – «это внутренне-противоречивое движение в культе, как в дальнейшем увидим, господствует»581. Вновь повторяются понятия самоотрицания и внутреннего противоречия. В свете рассуждений о преодолении самотождества бытия символ Креста также может быть назван антиномией: Он орудие смерти и одномоментно – орудие жизни; так, смерть, объявшая Спасителя, сама погибает («смертию смерть поправ»).
2. Если в первой лекции культ рассматривается по своему существу, то во второй лекции «Культ, религия и культура» речь идёт о культе как о деятельности. Сам же человек предстаёт здесь как «человек-деятель – ζῶον τεχνικόν, как существо, строящее орудия»582.
Говоря об орудиях, автор имеет в виду всякое материальное орудие технической культуры, Instrumenta583. По сравнению с инструментами, «материально вескими» проявлениями орудие-строительной деятельности, словá – «воздушное ничто», однако не менее могучее орудие мысли, без которого мысль не раскрывается и не осуществляется584. Этот вид орудий назван отцом Павлом понятиями, Notiones.
Обе эти деятельности человеческого разума осмысливаются отцом Павлом в виде противоречия. Так, машины-инструменты даны нам в эмпирической реальности, их действительность вполне ощутима. «Палка, молот, пила... – суть. Но разумность их – их λόγος – выводится путем умозаключения»585. И наоборот, понятия-термины непосредственно явлены нам как человеческий λόγος, однако без своего воплощения: «Если машину мы склонны счесть за неразумную, но реальность, то слово, напротив, – за разумное ничто, за nihil audibile – за слышимое ничто»586.
Таким образом, творчество разума, согласно отцу Павлу, развивается в двух направлениях: в производстве вещей, смысл которых не нагляден; и в производстве смыслов, чистой умопостигаемой реальности, но реальности, вхождение которой в природу не очевидно. В итоге, «необходимо доказывать осмысленность вещей и овеществлённость смыслов»587.
Можно было бы назвать Instrumenta и Notiones просто разными деятельностями, обосновывающими друг друга, но отец Павел Флоренский, считает их составляющими антиномии орудие-строительной деятельности. Антиномичность этой пары, согласно ему, заключается в том, что вещь без обоснования её разумом и слово без его реального образа не могут существовать как разумные. Они не могут быть друг без друга, в то же время они отделены друг от друга; неслитны и нераздельны. Деятельность разума, гармонично сочетающая реальность вещи и осмысленность термина, названа отцом Павлом «антиномически-сопрягающей»588.
Установление этой антиномии необходимо для введения третьей, синтезирующей, деятельности, «трансцендентального условия»589 всех деятельностей разума. «Самый разум, чтобы быть, должен опираться на живую антиномию и в антиномии этой поддерживать свое равновесие. Иначе равновесие мгновенно теряется и разум – непостижимо, но несомненно – разлагается, гниет и горит в огне гееннском»590.
Это высказывание отца Павла содержит принципиально важные для нашей работы элементы: если до этого мы порой слышали от автора «Столпа» и первых лекций по истории философии отрицательные характеристики антиномии как последствия грехопадения (встречался эпитет «удушливый»591), то теперь она становится «живой».
«Антиномическая деятельность разума не только желанна сама по себе, но и безвыходно необходима как условие возможности в с е й жизни, во всём её составе...»592, – в рассуждениях о культе отец Павел делает принципиальные обобщения и для всего человеческого бытия. Этот вывод созвучен словам А.Ф. Лосева: «Противоречие есть жизнь и жизнь есть противоречие»593.
Целью же этих рассуждений в контексте лекции является обоснование культа, в том числе исторически. Одно из исторических имён культа – «искусство богоделания», «материнское лоно всех наук и всех искусств», теургия (феургия) – характеризуется Флоренским в качестве средоточной задачи человеческой жизни, задачи полного претворения действительности смыслом и полной реализации в действительности смысла594.
Культ, согласно П.А. Флоренскому, есть то основное зерно, из которого «развивается феургия; количественно меньшее феургии, оно качественно, по глубине своей антиномичной связанности, – не уступает ей»595. Культ есть литургическая деятельность, производящая святыни (Sacra). Здесь, в культе, в литургической деятельности – собственно человеческой деятельности, прямо выражающей человека в сокровенности его бытия, ибо человек, по П.А. Флоренскому, есть homo liturgus596 – и происходит оправдание человека. Таким образом, согласно автору, человек может служить Богу своей деятельностью (исполняя Его заповеди, посвящая Ему свою жизнь); также служение Богу может происходить посредством слова, т. е. молитвой. Сочетание деятельного и словесного начал по отношению к Богу и образуют того, кто назван отцом Павлом человеком литургисающим.
Эти антропологические построения становятся основой социально- исторических обобщений мыслителя. Так, теоретическая (Notiones), практическая (Instrumenta) и литургическая (Sacra) деятельности выражаются в мировоззрении, хозяйстве и культе и соответствуют трём теориям, различающимся по приоритетности одной из этих деятельностей:
– идеологизму XVIII в. («Террор завершил эту теорию, пожелав единичными мановениями перестроить всю жизнь, до дна, по выдуманным схемам»597),
– экономическому материализму XIX в.,
– конкретному идеализму XX в.
Конкретный идеализм (или сакральный материализм) противопоставляется отцом Павлом протестантствующему богословию в Церкви, которое отрицает культоцентризм и совершает подмен: ставит в центр религиозной жизни мысль, в чём опять же мы можем усмотреть выбор одной из сторон антиномии.
Сложное для обнаружения протестантствующее направление и настроение в Церкви обличается отцом Павлом с помощью также достаточно сложного выяснения антиномии Sacra, состоящей из Instrumenta и Notiones.
Рассмотрение католического и протестантского отношения к культу в полярной парадигме Instrumenta и Notiones позволяет выделить их характерные устремления, выраженные как «действие» (ex opera operatum) у католиков и «воспоминание» (интеллектуальное восприятие) у протестантов. Флоренский видел опасность в искажении восприятия культа в первую очередь со стороны протестантского направления598. Этим опасением можно объяснить его склонность в сторону «освятительного» богословия или, как может показаться, его «римско-магический уклон»599. Учение об антиномии помогает оценить позицию Флоренского в вопросе культа и магичности (о последнем подробнее будет сказано в следующем параграфе).
Внимание исследователей обращается к ещё одной оригинальной идее отца Павла о связи христианства и язычества, которая также передаётся с помощью антиномии: христианство исторически связано с язычеством и одновременно христианство совершенно уникально600. К. М. Антонов соглашается с выводом о. Андроника601, что здесь присутствует антиномия: христианство стоит в историческом ряду религий, и христианство единственное заслуживает быть названным религией602. Не Церковь заимствует нечто от предшествовавших культов, а языческие культы причастны Истине постольку, поскольку предощущали Её явление.
3. Выразителем «протестантского культо-борства»603, согласно Флоренскому, является И. Кант, «протестант до мозга костей»604. Третья лекция «Культ и философия» показывает появление философии Канта как отрицания культа605. Здесь же содержится характерное высказывание отца Павла относительно антиномии. Кантовскую систему Флоренский наделяет эпитетами «уклончиво-скользкой», «“лицемерной”, по апостолу Иакову», «“лукавой”, по слову Спасителя»: ход её мысли есть: ни да, ни нет. «Вся она соткана из противоречий – не из антиномий, не из мужественных совместных да и нет, в остроте своей утверждаемых, а из загадочных улыбок и двусмысленных пролезаний между да и нет»606. В чём, согласно Флоренскому, основной изъян критикуемой философии и отчего происходит это лукавство? От стремления к автономии, к онтологической самостоятельности, от воли быть одному. «“Нет разума вне меня”, – ибо если бы был, как внешний мне, то был бы принудительным для меня, лишил бы меня автономии – вот лозунг Канта. <...> Не разум от Истины, но истина от разума, – не я от Истины, но истина во мне»607, – кажется, это и есть центральный момент кантовской системы, вызывающий острое несогласие Флоренского.
Обратим внимание на данную характеристику антиномии как мужественных совместных да и нет, в остроте своей утверждаемых. На наш взгляд, это высказывание, наряду с другими примерами применения антиномии Флоренским, указывает на стремление его антиномизма к выдержанности и определенности. В связи с этим сложно согласиться с мнением Т.Н. Резвых о том, что идея стояния на антиномиях отличает учение С.Л. Франка от учения П.А. Флоренского, «тем самым Франк доводит до логического предела тот вариант гносеологии, который предложен Флоренским»608. Представляется, что отец Павел предложил вполне развитое и логически ясное учение антиномизма, избегающего неопределённого франковского понятия «витание»609. Последнее не согласуется с пониманием вероучительной истины как незыблемости, опоры, твердыни610.
Здесь вновь упомянем о такой возможной опасности искажённого антиномизма, как конформизм (приспособленчество): идея совмещения противоположностей в недобросовестных руках может стать орудием оправдания лицемерной модели поведения («и нашим, и вашим»). Устранить подобные опасности позволяет развитие строгого антиномизма, твёрдого и категорического утверждения тезиса и антитезиса. Более того, антиномическое мышление внимательно относится к противоречиям, замечая диссонанс там, где противоречие пытаются заретушировать.
Философия И. Канта возникает как отрицание культа; философия культа Павла Флоренского начинается как критика Канта и установление истинной ориентировки мысли на Христе. «Культ же – конкретное распространение этой ориентировки»611. Приведём основоположную мысль философии культа Флоренского, согласно которой термин «культ», cultus, происходит от collere – вращать, и, следовательно, означает обращение вокруг святой реальности. Средоточием этой реальности, Sacra sacrorum, является частица Святых Даров. «Сама же она, на руках носимая и переносимая, недвижна. Вот абсолютная точка мира! <...> Мое положение в мире определяется отношением моим к этой частице»612. Частым упрёком в адрес отца Павла звучит якобы отсутствующая у него христология, однако приведённое мировоззренчески показательное высказывание свидетельствует, что Флоренский ставит Христа в центр своей философии, но поясняет, что Христос вознёсся, а нам на земле в церковном таинстве оставлена Его Плоть, вокруг Неё совершается культ и вся культура. Это и мировоззренчески, и психологически характерно для о. Павла – посвящать себя конкретному, вещественно-осязаемому, земному, но открывающему Небесное. Отсюда основное его внимание уделяется Церкви – столпу и утверждению Истины, философии Её культа, культуре в её отнесённости к Церкви («У водоразделов мысли»), даже его естественно-научные и технические работы – и те призваны были составить славу Церкви, потому что совершались «служителем культа, не снявшим с себя сана», как значилось в его уголовных делах613.
4. «Таинства и обряды». Антиномию таинства отец Павел объясняет через единство усии и ипостаси человека (о. Павел часто использует эти термины в русской транслитерации). Как можно понять из данной лекции, человеческие οὐσία и ὑπόστασις – это источники противостоящих друг другу Instrumenta и Notiones (инструментов и понятий).
Отец Павел развивает следующие положения. Построение орудий, поскольку оно не осмыслено, соответствует стихийному началу человека. Орудиестроительная деятельность продолжает человеческое тело (молоток – продолжение руки; подзорная труба или микроскоп – продолжение глаз). По своей сути это та деятельность, что строила наше тело: «Она – прибой стихий. Это – слепая, напирающая мощь, не знающая никакого удержа... Это – начало расторжения. Его называли началом дионисическим»614. Флоренский предпочитает называть его началом титаническим, что указывает на происхождение этого начала из земли (титаны – чада Земли)615, а также началом родовым, родом, γένος, рождающей мощью рода, стихией ночи. Обратим внимание на важный момент, который показывает, что персоналистическая философия отца Павла избегает игнорирование природной составляющей в пользу личностной: согласно этой философии, без стихийности нет и деятельности; в исконной и непреодолимой правде Земли, титаническом, усийном начале заключается первая правда всякого бытия: «Бытийственность мощи уже есть первый камень Истины»616. Можно сказать, что личность в данной философии есть способ существования природы. И здесь опять наблюдаем метод, который применялся к паре «понятие-орудие» (когда одно раскрывает себя через другое): личность раскрывает природу, оформляет её, а природа раскрывает личность, составляет её природные данные, является её содержанием.
О форме, ограничивающей стихию и стихией существующей, говорит следующий пример: «Ревёт и бурлит величественным жерлом вода у мельницы: но, прорвавшись, разливается по заливным лугам мелкой лужей, оставляя вскоре комариное болото»617. Насколько ослабевает природное, титаническое – в терминологии Флоренского – начало в человеке, настолько ослабевает в нём «потенция всякой деятельности»618, мощь, творчество и сама жизнь, с титаническим умирает и сам человек. Мысль о том, что сама природа человека является содержанием его личности и его совершенства, свойственна православному богословию. Ж.-К. Ларше пишет (со многими ссылками на святоотеческую литературу), что в самой природе человека заключена способность к совершенству; Богоподобие не есть некое добавление к природе человека; человек совершенен по природе, хотя и потенциально619.
Итак, началу природному и стихийному противостоит умное начало: «Лицо, т. е. ипостасный смысл, разум, ум – разумею всё это в античном и святоотеческом смысле, – полагает меру безликой мощи человеческого естества, ибо деятельность лица – именно в мерности, в огранённости и в наложении определений и границ»620.
Флоренский продолжает развивать богословские термины οὐσία и ὑπόστασις на антропологической почве: если в Боге сущность и ипостась существуют гармонично, то в человеке (имеется в виду его падшее состояние) «антиномия полюсов не находится в гармонии»621. Возвращаясь к основной гносеологической теме «Столпа и утверждения Истины», отец Павел отмечает, что в теоретико-познавательном контексте «Столпа» эти полюса назывались требованием данности (интуиция) и требованием доказанности познания (дискурсия). Здесь же, в метафизическом рассмотрении культа, они именуются правдой бытия и правдой смысла, правдой усии и правдой ипостаси622.
Свойство их антиномичности, на которое указывает философ, говорит о том, что единство двух правд, цельность человека, достигается не через их взаимные уступки. Отклонения в односторонность оборачиваются искажением личности, в качестве примеров крайностей можно указать на победу плоти (плотской человек) и гнушение плотью (хлыстовство)623. Антиномическое единство заключается в признании равнозначимости обоих начал, природного и личного. Однако, «правда» природы и «правда» личности должны развиться: природные данные должны послужить духовному росту личности.
Пределами развития обоих человеческих начал, согласно Флоренскому, должны стать Божественные начала: Божественные бытийственность и осмысленность. Искание бытийственности, творческой реализации достигает окончательной Божественной бытийственности; искание осмысленности и понимания достигает окончательной Божественной осмысленности. Оба начала человека приходят к Одному, в Ком совмещена вся полнота реальности со всею полнотою смысла – в Боге – Смысле всех смыслов624. Отец Павел заключает: «В терминах гносеологических это будет: единство данности и доказанности, единство интуиции и дискурсии. В терминах онтологических – это будет Абсолютное Лицо. В терминах конкретно-религиозных – абсолютная точка религиозной жизни – абсолютная конкретность культа»625. Последняя есть Евхаристия, Ей и посвящена данная лекция, раскрывающая Евхаристию через антиномию οὐσία и ὑπόστασις в человеке.
Если в Самой Истине, во Христе, они едины, а нами только созерцаются, то в Евхаристии происходит переживание этой Истины. Человеку, согласно Флоренскому, недостаточно знать, что совершилось и вечно совершается в Небесной Скинии. Ему необходимо не столько знать о примирении с Богом, сколько примиряться с Ним: духовно и даже чувственно. Чувственное познание своей примирённости с Богом при этом должно происходить «не в своей исторической страшности, но в умеренности»626, без ужаса кровопролития, а символически.
Таким образом, в Евхаристии происходит практическое оправдание человека через приобщение его бытия к Божественному бытию, что и обозначено у Флоренского понятием антроподицеей.
Однако Евхаристия не ограничивается приобщением человека Плоти и Крови Спасителя, она пронизывает всю жизнь человека. Как это происходит, отец Павел разъясняет в пятой лекции «Семь таинств».
5. Отец Павел сравнивает «тайну Голгофы», распадающуюся на семь церковных таинств, с белым лучом, разлагающимся с помощью призмы на семь лучей, в совокупности равносильных ему627.
Применительно к учению об антиномии для нас представляет интерес обоснование этого седмичисленного состава таинств Церкви. Причиной множественности таинств является человек со своей множественною деятельностью. Это тезис антиномии. Антитезис говорит о том, что причиной множественности таинств является Христос, раз человек сотворён по образу Божию, или, как передаёт Флоренский выражение святого праведного Николая Кавáсилы, «по типу Христа – κατʼ ἰδέαν τοῦ Χριστοῦ»628 «Такова антиномия, – заключает отец Павел, – в разных видах постоянно встречающаяся в философии культа, – антиномия, которую было бы нельзя не ждать загодя, учтя основную антиномичность самого культа, как деятельности горне-дольней, Бого- человеческой, бесконечно-конечной, безусловно-условной»629.
Далее отец Павел раскрывает обозначенный тезис и показывает, как таинства соответствуют основным функциям человека. В итоге рассуждения Флоренского развивают положение Константинопольского Собора 1638 г.: «Мы не имеем в Церкви большего или меньшего седми числа таинств, и предположение не седмеричного числа таинств есть исчадие еретического безумия»630.
Специфическое учение отца Павла говорит о том, что семь церковных таинств соответствуют семи устоям человеческой личности631. Условно они обозначаются автором как омовение, одеяние, питание, слово, пол, лечение, власть632. Не смотря на обусловленность «устоями личности», таинства Церкви являются действием Бога, что выражает их единство. Таким образом, таинство освящает всего человека, но каждое таинство действует на человека со своей стороны. В итоге оба момента отражают богочеловеческий характер таинств – «осуществлённых антиномий»633, – которые «условны и безусловны зараз»634.
Что же касается представленного в данной лекции распределения таинств по схеме тетических-антитетческих-синтетических, то здесь в отношении антиномизма приходится наблюдать ту же неопределённость, что и в десятом письме «София» (т. н. синтез разного). Заметим, что к понятию антиномии в данных рассуждениях отец Павел не обращается (хотя использует для построения этой антитетики ранее установленную антиномическую пару усии-ипостаси); «тезис» и «антитезис» выполняют здесь функцию противопоставления, а не взаимоисключения. Причащение-Крещение-Миропомазание, Елеосвящение-Покаяние-Священство, Миропомазание-Священство-Брак – эти схемы «Философии культа» напоминают триадические конструкции Г. Гегеля (бытие-ничто-становление, качество-количество-мера, субъективность-объективность-идея и др.); если признать за ними антиномический характер, то антиномии окажутся объективно существующими. Последнее означает совпадение этих схем с антиномизмом Гегеля. Однако весь предыдущий материал показывает, что антиномии для Флоренского являются принадлежностью исключительно рассудка (а не материальной действительности, например). Предложенные схемы таинств можно оценить или в качестве исключения из общего понимания Флоренским антиномии, или примером неопределённости, отмеченной в рассмотрении десятого письма «Столпа». Сама же попытка отца Павла проследить взаимосвязь и упорядоченность таинств и на этой основе – объяснить необходимость их седмеричности, несомненно, заслуживает внимания.
6. Лекция шестая «Черты феноменологии культа» говорит об обряде. Таинство выделяет явление из окружающей его среды, но не выявляет его как особенное: вода, масло, вино, используемые в таинствах, для внешнего материального исследования никак не отличаются от обычных веществ635. Как же опознается таинство? Через свой обряд, которым оно явлено.
Обряд, выявляющий таинство, согласно о. П. Флоренскому, антиномичен. Он скрывает, «обряжает» таинство, однако он и обнаруживает таинство. Отец Павел говорит о присутствующем в храме принципе уединения и обособления. Так, устройство храма (притвор, центральная часть храма – наос, амвон, солея, иконостасная перегородка, алтарная часть), престол с его облачениями и принадлежностями (индитий, риза, ещё один покров, илитон, антиминс), и уже на них поставляемых дискоса и чаши, содержащих Святые Дары – представляют собой «ряды заграждений горнего от дольнего»636. Эти заграждения указывают на духовный мир, ими открывается горнее: «всякая одежда – тоже изолятор – столько же сокрывает, сколь и открывает – укутывает, чтобы тем выявить, облачает, чтобы разоблачить. Всякая одежда и есть явление, феномен»637. Удаление в таинстве оказывается приближением к нему, как ранее говорилось о страхе Божием, возникающем от присутствия Бога.
Антиномичное понимание обряда не позволяет согласиться с Н. Н. Павлюченковым, находящим отличие символической онтологии Флоренского от учения о символах у преп. Максима Исповедника и свт. Григория Паламы в том, что символ у Флоренского не столько скрывает, сколько, напротив, раскрывает невидимую, в том числе и Божественную, реальность638. Православное учение о символе не сводится к пониманию его только как скрывающего Бога. Библейские примеры видений (откровение апостола Иоанна Богослова или видения пророков) подтверждают его «раскрывающую» функцию. В последней цитате Флоренского об обряде мы видим указание и на «скрывающую» функцию символа. Это обстоятельство важно отметить, так как Н. Н. Павлюченков на его основании делает заключение об отрицании Флоренским непосредственного Богообщения, так как в его онтологии к духовному миру можно подойти только через духовно-чувственные символы639. Разумеется, священник Павел Флоренский учитывает возможность непосредственного тайнозрения, но потребность в символизме в том и состоит, что эта непосредственность исключительна даже для святых.
7. Самая обширная лекция «Освящение реальности» рассматривает восхождение человека к Богу, также и нисхождение Бога к человеку – в конкретных церковных чинопоследованиях, что, по слову о. Павла Флоренского, есть лествица освящений.
Прямо об антиномии отец Павел говорит в части, относящейся к царскому миропомазанию (нельзя не заметить, что написание лекции обозначено июнем 1918 г.640). Царь, по Флоренскому, – это священный сан, священное лицо, епископ внешних дел Церкви641: «По самому строению Православной Церкви в её глубочайших основах земные проявления власти, т. е. епископство и царство, антиномически сопряжены друг другу и взаимоподчинены, не сводясь на земле ни к какому видимому единству...»642. Развитие этой антиномии помогает разобраться в вопросах «цезарепапизма» и «папоцезаризма». Ответ отца Павла таков: «Не только в православии нет цезарепапизма, но и пресловутый папизм Западной Церкви есть полемическая выдумка...»643. Отец Павел поясняет, что речь идёт о нормах церковной организации, о собственных требованиях Церкви к самой себе, а не их исторических искажениях. Основные моменты теократического общества: а) духовное начало, б) мирское начало, в) монархизм, г) соборность. Устранение одного из начал в Церкви ведет к потере равновесия:
а) отказываясь от духовного, Церковь делается государственной организацией (социализм);
б) без мирского начала Церковь делается отвлеченной, отрывается от мира и признает свою неспособность воплотить духовное (направление буддистского типа, толстовство, духоборство);
в) удаление единовластия приводит к принципиальному субъективизму и утверждению «интимности» религиозного опыта (протестантизм);
г) при отрицании соборности церковная жизнь лишается творчества и стремится в качестве предела своего к бездушному формализму и бюрократии644. Сохранение антиномичности этих пар в организации древневосточных и западной Церквей (духовное – мирское и единовластие – соборность), а не предпочтение отдельных элементов и отвержение других, привело к тому, что они не выпали из идеи Церкви, почему и заслуживают, в той или другой степени, к тому же различной в разные времена их исторической жизни, имя Церкви645. При этом в работе «Иконостас» отец Павел много внимания уделит критике искажений в духовной жизни католиков.
8. Через двуединую антиномию объясняет отец Павел смысл «одного из первоустановочных понятий философии христианства»646, понятия свидетельства. В лекции восьмой «Свидетели» речь идет о необходимости подтверждения совершившегося таинства. Сказать о том, что это действительно Самая Святая Кровь, а не вино, что это истинно Вода Крещения, что это Святой Елей и Святое Миро, может тот, кто причастен Святому Духу. По утверждению отца Павла, всякий святой есть мученик647. Эти два смысла – мученичество и свидетельство – объединены греческим словом μάρτυρας. Однако, в христианской жизни, по мнению философа, оба смысла объединены и друг без друга не мыслимы: это не просто мученичество, но мученичество за Истину; и не просто утверждение Истины, но – своей жизнью и смертью; христианство, Жизнь для человека, возвещается через смерть человека-мученика.
Флоренский задаётся вопросом о том, почему свидетельства-мученичества нет вне христианства (и даже не может быть, помимо христианства)? – «Страдание за идею и даже смерть возможны всюду <...>. Но факт страданий и смерти везде, кроме христианства, был внешним в отношении убеждений, ибо не только не вытекал с необходимостью из их содержания, но, напротив, неизбежно противоречил таковому»648. Только в христианстве есть мученичество, т. к. только христианским мученикам была открыта духовная реальность, только они знали Бога.
Ещё одним выводом из этих слов отца Павла будет то, что жизнь христианина направлена к мученичеству, жизнь отца Павла подтверждает этот вывод649.
9. И наконец, последняя лекция «Словесное служение (молитва)». Таинство выявляется через обряды, они духовно засвидетельствованы. Но чтобы быть опознанными, они сначала должны быть названы словом, кроме самого священнодействия должно происходить его наименование. Отец Павел цитирует блаженного Августина: «Отыми от воды слово, и будет только вода; прибавите слово – и будет таинство»650.
В книге «У водоразделов мысли» отец Павел будет детально знакомить читателей с антиномией слова, здесь же он даёт слову следующую характеристику: «Рычаг, антиномически выводящий дольнее из сферы дольнего, есть слово, само антиномичное, как содержащее в себе двуединое отношение к дольнему и горнему»651.
В культе слово есть молитва. Отец Павел исследует её структуру и различает в ней следующие части:
1. Обращение к Богу (призыв Высшего; утверждение себя как бытия вторичного; отвержение самозамкнутости своей субъективности; бытийственное выхождение из себя);
2. Ссылка на типическую, в домостроительстве открывшуюся уже деятельность Божию, как онтологически характеризующую Источник всякой силы (метафизическая форма молитвы);
3. Самое прошение – материя молитвы (напор желания получить просимое; психологический импульс и внутренний мотив молитвы, который опирается на её типичность (п. 2), и через это получает объективность и уверенность: я настаиваю на своём желании не как на своём, а как на укоренённом в Истине);
4. Славословие Единого Бога (троичное славословие – полнота христианского ведения о Боге; аналитическое раскрытие абсолютности Пресвятой Троицы; доказательство действительности нашего знания о том, чему кланяемся);
5. Скрепа («Аминь»)652.
Призыв
Тип Форма Аминь Материя Просьба
Славословие
Эта схема молитвы представляет собою крест, где вертикаль, линия движения, выражает «отрешение от ориентировки на самом себе, от “самоистуканства”»653 и вместо этого – проявление духовной активности, устремление к вечному, «заполнение себя силою Божиею»654; горизонталь, линия условия, – «русло, по которому направляется <...> синергия – со-действие Божией благодати и человеческого устремления»; концы этой линии условия показывают, чтό именно требуется изменить и каким образом, т. е. «сообразно какому типу»655. Завершающее «Аминь» призвано скрепить оба направления синергии в один духовный акт656.
Отец Павел завершает логику своих лекций и одновременно полновесной книги о философии культа возвратом к Кресту. Слово – «самое существо человека, поскольку человек самораскрылся своей духовной энергией, – стал для других и для себя самого сущим»657. «Слово есть – сам человек, но в аспекте самообнаружения, в аспекте человеческой деятельности»658. Вместо «слόва» здесь также можно ставить «Крест». И то, и другое понятие, согласно священнику Павлу Флоренскому, являет собой антиномию659 и оба они обнаруживают себя в человеке, а через себя – и самого человека.
Таким образом, представленная антроподицея в своих ключевых элементах развивает центральную идею «Столпа и утверждения Истины» о преодолении самотождества. Однако философски-универсальная почва писем «Столпа», адресованных далёкому другу, сменяется церковным собеседованием с общиной духовно близких слушателей. Массив литургических источников, сама тема, стиль, исторические условия книги меняют интеллектуально-созерцательный подход теодицеи на специально-техническую, злободневную и настойчивую апологию церковной правды о человеке. Человек находит себя в Боге. Если в «Столпе» речь шла преимущественно о любви к Богу через любовь к ближнему, то «Философия культа» говорит об освящении человека в Церкви. Следующая рассматриваемая нами работа также объединена с предыдущими экклезиологической темой, но уже в осмыслении культуры – сквозь призму церковной культуры.
3.3. Антиномии «конкретной метафизики» священника Павла Флоренского
То, что отец Павел обозначил в философии культа как Instrumenta и Notiones, теперь предметно рассматриваются им в книге «У водоразделов мысли (Черты конкретной метафизики)». Остановимся на отдельных фрагментах книги, где наглядно используется антиномический подход.
«Проблема портрета есть проблема антиномии: пассивность-активность, объективность-субъективность, данность-заданность, глаз-рот»660. С этого, казалось бы, специального технического вопроса изображения глаз и рта в портрете, начинается осмысление отображения действительности. И сразу возникает вопрос, в чём же здесь взаимоисключение, и вообще может ли быть здесь противоречие? Причем сам автор, сказав об антиномии, не использует явных противопоставлений.
Согласно отцу Павлу, зрение человека убедительнее всего свидетельствуют об объективности мира, зримое воспринимается как внешнее, как откровение. Напротив, воспринимаемое слухом – по преимуществу субъективно, так как звук непосредственно «просачивается в нашу сокровенность, непосредственно ею всасывается и, не имея нужды в проработке, сам всегда воспринимается и осознается, как душа вещей. Из души прямо в душу глаголют нам вещи и существа»661.
Если здесь речь идёт о зрении и слухе, почему же Флоренский называет антиномией «глаз-рот»? Объясняется это тем, что восприятие нами света происходит пассивно, восприятие звука – активно. «В восприятии звука мы активны через соучастие в активности звучащего, непосредственно нами разделяемой. И потому, слушая – мы тем самым говорим, своею внутреннею активностью не отвечая на речь, но прежде всего её в себе воспроизводя»662. Восприятие и воспроизведение звука становится единым процессом: зазвучавшее во мне становится моим, но во мне оно именно звучит, т. е. воспроизводится, а внутренний отголосок уже относится к речевой сфере. Также и произнося слово, я уже слышу его. Несмотря на вполне логичное объяснение отца Павла его вывод звучит парадоксально: «Мы слушаем не ухом, а ртом»663. Однако, истинное слушание есть слышание, а оно происходит тогда, когда есть внутренний отклик на слышимое.
Эти рассуждения имеют прямое отношение к религиозной области: Там, где наибольшая важность придаётся внешнему, реальности и данности материального мира, основным в религиозной жизни признаётся зрение. Там, где первенство в свидетельстве о духовном отдаётся созерцанию, «там верховенство утверждается за слухом, – слухом и речью, ибо слух и речь – это одно, а не два»664.
Восприятие зрительное и звуковое используется отцом Павлом как два психологических типа «католиков» и «протестантов» (католичествующие и протестантствующие как два психологических устремления). В православии зрительное и слуховое начало гармонизированы, «и потому в православии пение столь же совершенно онтологично, как и искусство изобразительное – иконопись»665.
Теперь становится понятным употребление отцом Павлом понятия антиномии для характеристики зрительного и звукового восприятия: стремление к объективности (уклон в натурализм) и стремление к субъективной интимно- личной религиозности есть два противоположных направления, приоритет одного из которых нарушает общую гармонию.
Детальному рассмотрению зрительного восприятия посвящена глава «Обратная перспектива» – статья, написанная, по словам о. Павла, в октябре 1919 г. в качестве доклада Комиссии по охране памятников искусства и старины Троице-Сергиевой Лавры, но заслушанная не там, а на заседании Византийской секции МИXIМ666 год спустя. Флоренский отмечал: «Оживленность обсуждений ещё раз подтвердила мне, что вопрос о пространстве есть один из первоосновных в искусстве и, скажу более, в миропонимании вообще»667.
Термин «антиномия» в этой статье не используется. Однако важно указать то основное, против чего в ней выступает отец Павел Флоренский – это утверждение о прямой перспективе как единственно верно передающей реальность. Несостоятельность этого положения раскрывается отцом Павлом с исторических и теоретических позиций. В итоге он приходит к выводу, что изобразить пространство на плоскости возможно не иначе, как только разрушая натуралистическую форму изображаемого.
Тогда как возможно изображать реальность? Этому посвящены другие работы Флоренского – символу – антиномичному по своей природе. Здесь же обратим внимание на то, что прямая перспектива есть, по Флоренскому, художественный эквивалент кантовского (или возрожденческого) мировоззрения. Прямая перспектива понимает мир как единую, нерасторжимую и непроницаемую «сеть канто-эвклидовских отношений, имеющих средоточие в Я созерцателя мира, но так, чтобы это Я было само бездейственным и зеркальным, неким мнимым фокусом мира <...>, некоторая субъективность, сама лишённая реальности»668.
Отсюда видна противоположность такого искусственного мировосприятия – живому антиномичному. Так, обратная перспектива приглашает наблюдателя в само произведение, внутри которого и располагается центр, начальная точка перспективы, а не сам наблюдающий является центром.
Раскрывать учение о символе отец Павел начинает в главе «Наука как символическое описание». Причем для этого он обращается к физике, «по всеобщему признанию, образцу точности, естественной науке по преимуществу»669. И даже такая наука оказывается, как это демонстрирует отец Павел, символическим описанием действительности: «Всякий образ и всякий символ, как бы сложен и труден он ни был, мы называем, следовательно, уже по этому одному он есть слово»670. Всё сложное и таинственное в науке может быть выражено словесной речью. Задачей автора и являлось – показать, что всякая наука есть язык. Для нашей же работы важно отметить, что к этому заключению отец Павел приходит посредством антиномии: «Оба угла зрения на язык антиномически сопряжены: как бы далеко не шёл анализ языка, всегда он – и слово (даваемое предложением) и предложение (состоящее из слов)»671.
Профессор-славист Хольгер Куссе отмечает, что отношения философии и науки у Флоренского выясняются посредством антиномии; обе они оказываются её сторонами: первая обладает непрекращающейся текучестью, вторая – стремится к твёрдой оформленности. При этом философия и наука являются своими комплементарными, взаимодополняющими противоположностями672. Х. Куссе сближает философские подходы П. Флоренского и Л. Виттгенштейна к понимаю мышления как сочетающего устойчивость и подвижность, «не полностью управляемого процесса» (nicht vollständig beherrschbaren Prozeß)673.
Определение символа содержится в главе «Диалектика»: «Часть, равная целому, причём целое не равно части <...>. Символ есть символизируемое, воплощение есть воплощаемое, имя есть именуемое, – хотя нельзя сказать обратно, – и символизируемое не есть символ, воплощаемое не есть воплощение, именуемое не есть имя»674. (Отец Павел приводит пример розы: её лепестки есть роза, но роза не сводится к одним своим лепесткам). Вообще символ – центральное положение миропонимания и философии Флоренского, сам он так об этом рассказывает в «Воспоминаниях»: «Всю свою жизнь я думал, в сущности, об одном: об отношении явления к ноумену, об обнаружении ноумена в феноменах, о его выявлении, о его воплощении. Это вопрос – о символе. И всю свою жизнь я думал только об одной проблеме, о проблеме символа»675.
По поводу символизма Флоренского отец Андроник (Трубачёв) поясняет: «Критикуя “символистов” прежде всего за субъективизм и произвольность в построении символов, отец Павел устанавливает антиномичную природу символа, которая проявляется в том, что символ, с одной стороны, сверхчеловечен, а с другой – человечен»676.
Так, от установления понятия символа о. Павел Флоренский переходит к выяснению антиномии, его выражающей: «В слове, как таковом, заложена антиномия внутреннего и внешнего. Углубиться в эту антиномию – значит углубиться в первичную антиномию языка»677.
В следующей главе «Антиномия языка» отец Павел называет своих предшественников в разработке этого вопроса: «Корень же всех отраслей, именно взаимная необходимость, при взаимной же исключаемости, понятии ἔργον и ἐνέργεια678 открыт Вильгельмом фон Гумбольдтом»679. Также он добавляет имена Х. Штейнталя, А. А. Потебни и В. Анри.
Согласно первому автору тезис состоит из понимания языка как вечно живого, движущегося, изменчивого, человек – творец языка; антитезис гласит о монументальности языка, о его данности как готового и непреложного, человек пользуется языком, но не творит его.
Вещность и действенность языка, согласно Штейнталю и Потебне, можно увидеть в конкретных вариантах:
1) антиномия объективности и субъективности слова; 2) антиномия речи и понимания;
3) антиномия свободы и необходимости;
4) антиномия индивидуума и народа.
Благодаря своей антиномичности и возможен язык как «живое равновесие ἔργον и ἐνέργεια, “вещи” и “жизни”»680. Энергийности языка не учитывает безличностный структурализм, для которого значение имеет только сама знаковая система, раскрывающаяся посредством субъекта, а не сам субъект-автор681. Основное же внимание в этой главе отец Павел посвящает тому, что происходит при нарушении этой антиномической гармонии (как полярные примеры: искусственные языки (эсперанто) и бессмыслица футуризма). Моделью равновесия ἔργον и ἐνέργεια является отчётливость и устойчивость термина.
Монументальность слова, его данность, содержится в его фонеме (костяк слова, его формообразующее начало, звук) и морфеме (понятие); восприимчивость слова, тот смысл, который мы каждый по-своему вкладываем в него – свойство его семемы (значение слова, его идея). Наряду с трихотомической трактовкой слова (аналогично телу-душе-духу), отец Павел использует дихотомию внешнего (фонема и морфема как плоть слова) и внутреннего (семема как дух) строения слова. Эта антиномия монументальности и восприимчивости раскрывается отцом Павлом в главе «Строение слова»: «Если нельзя говорить языком своим, а не народа, то нельзя также говорить от народа, а не от себя: с в о ё мы высказываем общим языком»682. Также возможно интерпретировать эту пару ἔργον и ἐνέργεια, вещность и энергийность слова, через понятия οὐσία и ὑπόστασις, а также природы и лица, применяя к ним уже установленное антиномическое отношение.
И наконец, кульминацией философского осмысления слова является глава «Магичность слова». Почему именно такое название? Может быть, это провокация мысли, вызов критического взгляда или намеренное преувеличение, литературная гипербола, подчеркивание значимости силы слова? Отец Павел мог бы заменить это словосочетание, по крайней мере, в названии, но принципиально не захотел лишать названия его выразительности, что, впрочем, соотносится с определённой философской традицией683. По свидетельству А. Ф. Лосева, после доклада в религиозно-философском обществе отец Павел подтвердил сознательную намеренность данного словоупотребления. Сам А.Ф. Лосев (1893– 1988) с высоты своего философского опыта (в 1982 г.) высказывался по этому поводу: «Конечно, хотелось бы иметь общий, объединяющий единый термин – тем более нейтральный, менее раздражающий. Но его нет!»684.
Изложенная выше антиномия слова здесь приобретает конкретный вид. Слово веками накапливает в себе потаённые смыслы-энергии: «Всё, что известно нам о слове, побуждает утверждать высокую степень заряженности его оккультными энергиями нашего существа, в слове запасаемыми и отлагающимися вместе с каждым случаем его употребления»685. Но обнаруживает эти народные, всечеловеческие смыслы уже отдельный индивидуум в своей речи. И это вовсе не какая-то напряжённая, усиленная, волевая, харизматическая и т. д. речь, а именно филологически точное употребление терминов. Флоренский предлагает пример углей, которые нужно разжечь: если всю их массу подвергнуть пусть самому мощному нагреванию, но в кипящей воде, они не разожгутся; но если зажечь и раздуть уголёк хотя бы в одной точке, то для разжигания всей их кучи потребуются даже и не сильные дуновения686. Таким образом, дело обнаружения действенности и силы слова состоит в организации ἐνέργεια слова, в правильном нахождении самого слова-символа, открывающего реальность, и признание за ним этой реальности-вещности. Примечательно, что для выражения противоположной номиналистической позиции Флоренский использует понятие «шелуха»687 мысли, как и праведный Иоанн Кронштадтский, когда говорит о бездейственности слов молитвы, брошенных попусту, без веры и чувства их силы, «как шелуху без ядра»688.
Подтверждением устойчивости лингвистических идей отца Павла являются сопоставления, которыми оканчивается глава: слово – семя, говорение – мужское половое начало, слушание – женское. Об этом гомотипическом строении человека говорится и в приложении к «Столпу и утверждению Истины». Применительно к учению о языке это сравнение подчёркивает бессознательную мощь слова689. Учение Флоренского о слове вполне справедливо характеризуется с помощью понятия всеохватности, тотальности, «Intuition der Totalitӓt des Sprachlichen»690.
Характерной для творчества священника Павла Флоренского является часть, озаглавленная «Имеславие как философская предпосылка». Имяславие так же, как и «имеборчество» и иконоборчество, рассматривается отцом Павлом шире, чем богословские понятия, скорее это мировоззренческая установка, отношение к миру, «всечеловеческое ощущение и самоощущение»691.
Ещё одним источником для исследования имяславческой проблематики являются черновые замечания Флоренского по поводу статьи архиеп. Никона (Рождественского) «Великое искушение около святейшего Имени Божия». Среди заметок Флоренского встречается следующая (по поводу слов владыки Никона о том, что разум не принимает противоречия «имя есть Бог»): «А “совершенный человек” и “совершенный Бог”, “неслиянно” и “неразлучно” принять Никон может? А “вид” хлеба и “существо” Тела – может? И т.д.? [Дополнено карандашом: Дева и Матерь?]»692. Антиномия Дева и Матерь встречается и в работе свщмч. Илариона (Троицкого) в связи с объяснением слов акафиста Божией Матери о сочетании девства и рождества: «В этом сочетании противоположностей, в преодолении этой, скажу по-мудрёному, антиномии – тайна Пресвятой Девы, тайна, нам необходимая и нам любезная. Человеку дорого имя “мать”, а человечеству нужна “Дева”»693.
Для настоящей работы особый интерес представляет разбираемая Флоренским ключевая антиномическая пара: сущность и энергия как внутренняя и внешняя стороны бытия, «одно и то же бытие, хотя и по различным направлениям»694.
Для учения об антиномии и творчества П. А. Флоренского в целом мысль (отец Павел называет её онтологической аксиомой695) о том, что всякое бытие обладает своей энергией и что только у небытия её нет, имеет принципиальное значение: «всё подлинно существующее имеет в себе жизнь и проявляет эту жизнь, – свидетельствует о своем существовании – проявлением своей жизни, и притом свидетельствует не другим только, но и себе самому. Это проявление жизни и есть энергия существа»696.Такимобразом, жизненность проявляется тогда, когда проявляется энергия – бытие, отличающееся от бытия сущности, т.е. когда обнаруживается антиномия сущности и энергии. Также обратим внимание на связь высказанной отцом Павлом идеи о том, что всё подлинно существующее имеет в себе жизнь, с этимологическими исследованиями «Столпа», где истина (в русском языке) есть то, что существует697.
Согласно Флоренскому, учение о связи сущности и энергии подразумевается всякой жизненной мыслью. Характерными выразителями этой связи являются античный идеализм, неоплатонизм, средневековый реализм, богословский спор ХIV в. о Фаворском Свете698. В начале же ХХ в. это учение «прорвалось как жгучий протест против философского и богословского иллюзионизма и субъективизма в афонском споре об Имени Божием»699.
Отец Павел связывает два церковных течения (учение о нетварных энергиях и имяславие) с развитием общей для них идеи Богоявления. О специфически антиномичном учении фессалоникийского святителя о сущности и энергиях Божиих говорят многие авторы, например, В. Н. Лосский700, архиеп. Василий (Кривошеин)701, прот. Иоанн Мейендорф702.
Отец Томаш Шпидлик также обращает внимание на антиномизм в учении свт. Григория Паламы, который «говорит, что нужно уметь утверждать две вещи одновременно, сохраняя при этом их антиномичность как критерий благочестия»703. О. Томаш приводит ссылку на труд «Собеседование православного Феофана с возвратившимся от варлаамитов Феотимом»704, где речь идёт об одновременной причастности и непричастности (μεθεκτὴν καὶ ἀμέθεκτον; communicabilem et incommunicabilem) святых людей к Божественной сущности посредством Божественной энергии: «сущность просто причастна и непричастна, а не то, что она причастна одним и непричастна другим»705. Аналогичные утверждения свт. Григорий, в свою очередь, находит у святителей Афанасия Великого706, Григория Богослова707, Иоанна Златоустого708, преп. Максима Исповедника709, Псевдо- Дионисия Ареопагита710. Можно дополнить список именем свт. Григория Нисского, который «следующими словами вкратце излагает антиномию видимого и невидимого в Боге: “Невидимое по природе становится видимым чрез энергии, созерцается в некоторых вещах около Него”711»712.
О различиях в понимании сущности и энергии у свт. Григория Паламы и у священника Павла Флоренского говорится в статье Д. С. Бирюкова713: согласно свт. Григорию, Божественные сущность и энергии не зависят от твари, у Флоренского же энергия сущности познается энергией другой сущности. Заметим, что свт. Григорий говорит о нетварной энергии, которая, естественно, не зависит от твари; его богословская задача – различить Божественные сущность и энергии. Отец Павел говорит о материальных символах, богословские термины сущности и энергии он переносит в философскую теорию познания, где взаимодействующие субъект и объект зависят друг от друга. Этим же философским подходом можно объяснить отличие символа Флоренского («энергирующая сущность»714) от символа свт. Григория (энергия сущности), а именно: у Флоренского символ рассматривается как самостоятельная сущность. В ряду символов, о которых говорит Флоренский, каждый последующий символ (сущность) будет энергией предыдущего: Божественная сущность – Божественная энергия – Имя Божие – звуки Имени Божиего. Таким образом, философская концепция символа Флоренского носит универсальный характер (в том числе служит и для раскрытия персоналистских и экзистенциалистских теорий) и не противоречит богословию – учению о Боге – свт. Григория. Противоречие возникло бы, если бы Флоренский учил о том, что Божественная энергия зависит от воспринимающей её твари, или если бы свт. Григорий, говоря о иноприродном Богу символе, утверждал бы о нём как об энергии, открывающейся независимо от другой твари.
Обратимся теперь к взглядам о. П. Флоренского на имяславческую проблематику. Главное её положение выражено у него формулой: «Имя Божие есть Бог и именно Сам Бог, но Бог не есть ни имя Его, ни Самое Имя Его»715. При этом антиномия содержится не в самой формуле, а в том что, во-первых, имя Божие соединяет тварную (имя как слово) и нетварную природы (святость имени; имя как носитель Божественной энергии); во-вторых, это антиномия одновременной именуемости и неименуемости Бога716. При этом отец Павел высказывал мысль, что неправильно выносить святое Имя Божие на публичное обсуждение. В одном из писем он делится своими переживаниями по поводу учения имяславия, «древней священной тайны Церкви»717, оказавшейся вынесенной на торжище и вместо духовного восприятия подвергнутой рационализации718.
Эта мысль вполне сопоставима с учением свт. Григория Богослова о том, что не во всякое время и не перед всяким можно рассуждать о богословии719.
Здесь можно поставить вопрос и об интересующем нас предмете: нуждается ли современная наука (в том числе, богословская) в распространении учения об антиномии? Не получается ли так, что антиномией прикрывается нежелание развивать научную проблему, искать её решения? Предложим ответ: если какое- либо противоречие объявляется антиномическим, то следствием такого объявления должно быть как раз развитие его полемических сторон (антиномическая диалектика), а не остановка и закрытие темы под видом его неразрешимости.
На это свойство антиномии священник Павел Флоренский указывает в самом начале следующей части «Водоразделов», посвященной выяснению понятия орудий, Instrumenta: «Воплощение формы (действие и орудие)».
Отец Павел говорит о пользе возражений и антитезисов для устоявшихся теорий, которые не позволяют останавливаться на полуразрешённых задачах, обличая слабые места и недоговорённости, а также об антиномии как движении мысли и подвижничестве воли, «ибо всякая антиномия требует духовного усилия»720.
Далее отец Павел развивает антиномию природы и культуры, которая продолжает уже рассмотренный выше ряд: интуиция и дискурсия, οὐσία и ὑπόστασις, природа и лицо, объект и субъект, Instrumenta и Notiones, ἔργον и ἐνέργεια, сущность и энергия, бытие и смысл. «Природа и Культура антиномичны. Но, антиномичные, они существуют не вне друг друга, а лишь друг другом»721. Так, природа является материей культуры и ее средой, «стихийной подосновой»722; человек, окультуривая природу, «не творит ничего, но лишь образует и преобразует стихийное»723. Культура же является формой природы, той природы, которую мы воспринимаем; делает её доступной познанию. Флоренский пишет, что на небе мы видим не какие-то звёзды вообще, а семь звёзд Большой Медведицы, «звёзды» – это уже окультуренная природа с помощью терминов и имён, которые являются «очами ума, и без наименований различных порядков – нет не только науки, но и восприятия»724. Получается, что созерцаемые нами и именуемые нами небесные светила – это одновременно и природа, и культура. Культура есть часть природы, так как природа даёт материал для культуры; но и природа есть часть культуры, так вся природа может охватываться познанием, вся природа в целом может быть предметом культуры. Одно есть часть другого. «Повторяем, тут антиномия: действительность, под углом зрения познания, есть часть познания; познание, под углом зрения действительности, есть часть действительности»725. В первом случае действительность как часть познания (культура) «есть вся насквозь ничто иное, как термины и их соотношения»726. Во втором случае познание как часть действительности (природа) «есть только биологическая деятельность человека, биологическое приспособление к среде»727. В первом случае (гносеологически) орудия овладевания действительностью есть термины; во втором случае (биологически) термины становятся орудиями.
Если в начальных главах отцом Павлом рассматривалось слово и его частное проявление – термин, то теперь предметом изучения становится орудие, являющееся критерием отличия человека от животного (способность изготовлять себе орудие). Разум находит своё оформление в орудиях, а орудие есть материальное свидетельство разума.
Итак, человек может быть определен как Homo faber или как ζῶον τεχνικόν, «существо, выделывающее орудия»728. «Орудие есть искусственно выделенная часть среды, окружающее организм»729. Причем орудие, ὄργανον, орган, «расширение нашего организма», его «искусственный член» – «оказывается продолжением тела, как бы проросшим в природу телом человеческим»730. Таким образом, орудие является синтезом антиномии культуры и природы, и изучение орудия отцом Павлом как раз и совершается в развитии этих двух составляющих: как материализовавшегося термина и как овладение продолжившимся человеческим телом.
Как существует магичность слова, так же существует и магичность деятельности. С последней о. Павел нас знакомит в главе «Органопроекция» (здесь же яснее становится понимание и магичности слова). Сущность магии – это могущество, это воздействие на что-то человеческой воли, его власть над чем- либо. Воля может осуществляться в слове и деятельности. Праотец Адам давал имена творениям, так как обладал ведением этих вещей, знал их и владел ими. «Весь мир был телом царя тварей»731. Грех праотца разрывает единство мира, и с этого момента его повелениям подчиняется только небольшая область, «явилась граница власти воли, предел её непосредственной мощи»732.
Отец Павел обращает внимание, что эта граница власти не является безусловно определённой, в пределах своего тела у каждого человека существуют собственные границы власти (так, один человек оказывается неспособным пошевелить своей рукой, другой же может поднять своей рукой тяжелый груз). Точно также и власть за пределами своего тела может распространяться по-разному. Таким образом, «граница тела может суживаться, почти до исключения из тела большей части его объема, а может расширяться неопределенно далеко. Магия, в этом отношении, могла бы быть определенной как искусство смещать границу тела против обычного её места»733.
В качестве орудия воздействия на действительность может быть, например, рекламный и агитационный плакат – «такие плакаты суть машины для внушения, а внушение есть низшая ступень магии»734.
Но не нахождение каких-то таинственных способов воздействия на мир или управления им интересует отца Павла, а установление принципиального единства человека с миром. То, что разделяет и одновременно соединяет человека с миром, является его тело. С одной стороны, тело есть граница- оболочка самого человека, с другой стороны, наше тело есть оболочка мира. Флоренский сравнивает тело человека с заливом, который отзывается на каждую волну океана-космоса735. Человек вместе с миром являют собой плоть едину736. Интересен взгляд Флоренского на сравнение мира и человека с образами Софии и Логоса и брачным союзом, который представляет собой единение разрозненного, антиномический синтез: «Мир, образ Софии, есть Мать, Невеста и Жена образа Христова – Человека, ему подобная, ждущая от него заботы, ласки и оплодотворения духом»737. Человек призван заботиться о мире-жене, быть с нею в единении, управлять ею, вести к одухотворению. Это также является осуществлением антиномического синтеза природы и культуры в деятельности человека, однако, только ожидаемого синтеза: вся тварь совокупно стенает и мучится доныне, чая откровения сынов человеческих (Рим.8:22).
Заканчивается первый том «У водоразделов мысли» рассуждениями отца Павла Флоренского о золотом сечении «divina sive aurea sectio» также с применением антиномического метода. Отец Павел выясняет понятие целого, которое есть единство многоразличного. Простейшее многоразличие – это двоичность – противоположность равного, полярность, образом которой является магнит738.
На основании того, что полярность – это устойчивая связь, закон бытия, делается вывод, что этот закон должен себя обнаруживать: «Закон связи полюсов должен быть выразим, как некоторая общая формула единства»739. Далее отец Павел занимается выведением этой математической формулы. Для нашей же работы важны выводы о. Павла относительно антиномии: «Антиномичность – залог цельности, т.е. идеи, т. е. сверх-чувственности. Напротив, простое единство свидетельствует о неполноте, эмпиричности и нецельности явления. В этом смысле можно сказать, что полюсы – это начало и конец явления сверхчувственного в области чувственной, места входа и выхода ИДЕИ в мир эмпирический»740. Таким образом, антиномичность, согласно мыслителю, свидетельствует об идеальном мире, а в христианском понимании – о Божественности творения. Это важно отметить, так как здесь антиномия однозначно воспринимается автором не как последствие грехопадения, а как проявление Промысла Божия о мире.
Понятие идеи также является центральным понятием философии священника Павла Флоренского. Оно раскрывается в пробной лекции (помимо лекции о кантовских антиномиях), прочитанной им в Московской Духовной Академии 11 сентября 1908 г. «Общечеловеческие корни идеализма» и включённой в состав книги «У водоразделов мысли». Здесь идеи – «про-образы вещей», «сути вещей», «их таинственные души», «во-истину-сущии, неизменяемые, имматериальные, сами по себе прекрасные, вечные, находящиеся в “умном месте” образы сущего, познавая которые в эросе мы владеем ключом к отверзению всех тайн мира»741. Основной же темой этого характерного для П. А. Флоренского произведения является вопрос о происхождении платоновского идеализма, о «корнях платонизма, которыми он привлекает к себе почвенную влагу общечеловеческих верований»742. В таком виде вопрос о происхождении идеализма становится вопросом о происхождении идеализма как народной веры. Свой ответ П. А. Флоренский заключает в одно понятие: «“Магия” – вот то единственное слово, которое решает платоновский вопрос»743. Произнесённое в стенах Духовной академии оно, с одной стороны, провокационно, с другой – ограждено от неправильного понимания и смущения как оправдывающего магию-колдовство. Мы уже отмечали, что другие работы отца Павла также содержат данное понятие, и смысл этого словоупотребления вполне конкретен: активное воздействие на мир через скрытые и таинственные силы, как природные, так и оккультные. Обращение к последним по связи их с демонизмом находит крайне отрицательное отношение отца Павла и его строгие предостережения744. В связи с этим неправомерно причислять Флоренского к оккультистам, что можно видеть в ряде работ745.
В настоящей работе нас интересует, как магические корни идеализма соотносятся с учением об антиномиях. Иг. Андроник (Трубачёв) указывает: «Магичность и мистичность слова должны быть рассматриваемы как антиномия явления и смысла»746.
Отец Павел в данной лекции не использует термин «антиномия», но антиномический метод здесь вполне усматривается в трактовке идей, которые имеют для разума две точки опоры: «Они – и орудия познания подлинно-сущего, но они же – и познаваемая реальность. Идеи – самое что ни на есть субъективное; но они же – самое объективное; они – идеальны, но они же и реальны»747.
Эта антиномия объективного и субъективного (или явления и смысла), содержащаяся в идее, раскрывается отцом Павлом в трёх формах взаимодействия двух миров, по-ту- и по-сюстороннего, как их понимал Платон:
1) сходство явления и идеи;
2) участие явлений в идее;
3) присутствие идеи в явлении.
Конкретно это взаимодействие описывается П. А. Флоренским на примере имени и именуемого:
1) между носителем имени и самым именем признается сходство («по имени и житие»);
2) именуемый не только подражает имени, но и участвует в нём. Так, все члены рода соучаствуют в фамильном имени;
3) имя присутствует в именуемом, оформляет его748.
Таким образом, не упоминая об антиномии, отец Павел выявляет
антиномию имени и именуемого: одно определяет другое и в то же время они независимы друг от друга.
К термину «антиномия» отец Павел прибегает в своей работе, также посвященной понятию идеи – «Смысл идеализма (метафизика рода и лика)». «В опыте жизни, – пишет Флоренский, – антиномия идей вовсе не представляется чем-то неожиданным»749. Речь идёт о сочетании в единичном акте познания (идее) множественности явлений. Посредством антиномии отец Павел объясняет эту «великую загадку универсалий»750, каким образом общее понятие, например, теорема Пифагора, будучи единичным суждением, распространяется на все явления, вбирает в себя всю мыслимую реальность, в данном примере – прямоугольные треугольники. В этой «неслиянной и нераздельной двойственности познавательного акта»751 антиномично соединяется конечное с бесконечным.
В заключение обратимся к работе «Иконостас», где понятие антиномии не встречается, но зато упоминается о Г. Гегеле в ряду протестантских философов, которые «строят воздушные замки из ничего, чтобы затем закалить их в сталь и наложить оковами на всю живую плоть мира»752. Под такими оковами предполагается логика Гегеля, подчиняющая себе Абсолютный дух, являющая собой конструкцию Бога, «изображение бога, каков он в своей вечной сущности до сотворения природы и <...> конечного духа»753.
Отметим основные отличия диалектики Гегеля от рассматриваемого учения Флоренского:
1) философия Гегеля представляет собой историю развития Абсолютного духа и относится к пантеистическому типу;
2) согласно ей противоречие присуще самому Абсолюту;
3) триада «тезис-антитезис-синтез», согласно исследователям, не встречается в работах Гегеля754;
4) в системе Гегеля действует принцип снятия противоречия;
5) термин «снятие» (die Аufhebung) трактуется Гегелем двояко: как устранение противоречия и как сохранение его755, однако последнее относится к противоречию вообще, как к принципу безостановочного развития756;
6) «Нечто снято лишь постольку, поскольку оно вступило в единство со своей противоположностью»757, – указывает немецкий философ. Ход его построений заключается в совмещении противоположностей и искусственном конструировании их единства. Флоренский движется обратным путём: он исходит от изначальной целостности (например, догмата) и уже в этой целостности обнаруживает противоречие758;
7) антиномия у Гегеля существует объективно759; у Флоренского антиномия является принадлежностью рассудка.
Таким образом, ключевым моментом в разграничении методологических принципов Г. Гегеля и П. Флоренского является их отношение к разрешению антиномий. Для немецкого философа антиномии «снимаются» в самом бытии как его принадлежности, для русского мыслителя логические антиномии «препобеждаются»760 в христианском мировоззрении, основанном на вере.
Выводы
Если теодицея в философии Флоренского представляется восхождением человека к Богу – посредством веры и разума, и в частности, согласованием идеи благости Божией и наличием зла в мире (теодицея в узком смысле слова), то антроподицея представляется нисхождением Бога к человеку. В первом случае узловыми вопросами оказались антиномичность разума и антиномичность догмата, во втором – вопросы антропологии и культуры.
В данной главе мы рассмотрели, каким образом отец Павел Флоренский раскрывает следующие понятия:
1) слово как единство вещности и восприимчивости (ἔργον и ἐνέργεια) – одновременная смысловая устойчивость и подвижность;
2) символ как единство человеческого и сверхчеловеческого: если пользоваться терминологией свт. Григория Паламы, то речь идёт о природном символе (в противоположность неприродному);
3) имя как символ и как энергия сущности – здесь раскрывается феноменологический подход отца Павла Флоренского;
4) сущность и энергия как стороны единого бытия;
5) орудие как единство природы и культуры, выявляющее творческое начало человека (собственно человеческое);
6) магия как обнаружение скрытых сил, могущество слова и действия, частично сохранённая власть человека над миром;
7) идея как единство трансцендентного и имманентного, идеального и материального.
Философское обоснование указанных понятий и концепций совершалось с помощью антиномического подхода, который оказывается свойственным православному богословию. В. В. Бибихин проводит различие между его философской и богословский спецификой: «“Неразличимое различение” – философский абсурд, но богословски – это такое же указание на божественную тайну, как неслиянная нераздельность трёх Лиц»761, или неслитность и нераздельность природ во Христе, или Божественные сущность и энергии.
Учение о Божественных энергиях, присутствующих в мире и открывающих ему возможность преображения, а человеку – обожения, наиболее известно из учения свт. Григория Паламы. Сердцевину русской метафизики всеединства составляло учение о Софии, Премудрости Божией, связывающей Небесное и земное. Согласно этому учению духовный мир не чужд человеческому познанию и способен облекаться в слово-символ, понимаемое в паламитском смысле природного символа, несущего в себе духовную реальность – знание её, а не только знание о ней. Символ, сохраняющий эту двуединость, в рациональном рассмотрении представляет собой антиномию.
Обобщив три ключевых темы философии Флоренского – софиологию, имяславие и антиномизм – мы делаем вывод о существенной связи между ними: одно не существует без другого. 1) Имяславие в софиологии. София как принцип отнесённости твари к Творцу раскрывается в именовании: осмысление Божественного отпечатка в твари, обнаружение её логосности, происходит посредством слова; Божественные энергии именуемы, говорит Константинопольский собор 1351 г762. 2) Софиология в имяславии. Учение Флоренского об имени, противопоставленное номинализму (осуждённому Суассонским собором 1092 г.), говорит об именах как энергиях. «Имя Божие есть Бог» означает присутствие Бога в Своём имени – не что иное, как софийная тема присутствия Нетварного в тварном. 3) Антиномизм в имяславии. Имяславческая концепция Флоренского сводится к антиномической формуле «имя есть именуемое». 4) Антиномизм в софиологии. У Флоренского мы обнаруживаем антиномическое понимание тварно-нетварной Софии. 5) Имяславие в антиномизме. В свою очередь без реалистического учения об имени антиномия есть логически разрешимый парадокс – в номинализме антиномии устраняются путём замены одних терминов на синонимичные. 6) Софиология в антиномизме. Антиномия как последствие грехопадения, антиномия, запечатлённая грехом, и потому не способная быть формой истины, оправдывается софиологией: здесь на первый план выдвигается синтезирующая функция антиномии, антиномия как идеальное равновесие разного.
Присутствие данных тем в творчестве таких мыслителей, как о. Сергий Булгаков, А. Ф. Лосев, С. С. Аверинцев, говорит в пользу наличия данной взаимосвязи, а также о масштабном влиянии о. Павла Флоренского на развитие философской мысли.
4. Автобиографические произведния и письма священника Павла Флоренского как источник исследования антиномического метода «Моя антиномия»763
4.1. Феномен рода в психологическом осмыслении антиномизма
Автобиографические произведения, письма и дневниковые записи также содержат материал для осмысления антиномизма Флоренского. Пристальное внимание, которое уделял отец Павел психо-физиологическим особенностям человека, по мнению священника Александра Ельчанинова, можно отнести к влиянию на него их общего духовника епископа Антония (Флоренсова), часто затрагивавшего вопросы «из той несуществующей ещё науки, которую проф. о. Павел Флоренский называл биографикой»764.
Наиболее полный вариант автобиографии Флоренского, его воспоминаний «Детям моим», представлен в сборнике «Из моей жизни». «Детям моим» – это, скорее, работа по философии и психологии семьи и личности, чем обычные воспоминания и размышления о прошлом. Также и по теме антиномии они содержат характерные идеи.
О себе-ребёнке отец Павел пишет в 1923 году: «Моему сердцу мила была незаметность, тихость, смирение. А вместе с тем и вопреки тому душею влекся тут же я к экзотическому, хотя и тут с чем-то соответствующим этой скромности»765. Само выражение «вместе с тем и вопреки тому» – его новая словесная формула антиномии. Для нас важно, что она применяется к психологической характеристике личности, и причем, личности ребенка. Он называет два фактора, повлиявших на эту характеристику: географический и генетический (роду Флоренский придавал важнейшее значение и приложил много усилий для его изучения). Отец Павел рассказывает о своём всегдашнем желании жить среди простой обстановки, окруженным скромною природой, но имея где-то поодаль природу тропическую. Эту двойственность он видит в горном пейзаже, сочетающем пустынность высот с субтропической флорой. Именно такую картину представляло место рождения Флоренского – Евлах (ныне город в Азербайджане). В описываемой Флоренским двойственности природы, он видит выражение собственной двойственности, «в которой север и юг, через кровь исторически самую молодую и самую древнюю, напряжённо противостоят друг другу, не только не смешиваясь, но и, напротив, возбуждая друг друга к более крепкому самоопределению»766.
На эту же тему в дневниковой записи Флоренского (времени его священнического служения в военно-санитарном поезде с ранеными солдатами в 1915 году) содержится следующее обобщение: «Великорусская натура несёт в себе антиномию крови – финско-татарской и славянской. Отсюда трагичность, отсюда беспредельные порывания степной кочевнической натуры, сужаемые упорядоченностью западных начал. Природный анархизм может быть сдержан лишь железными удилами. Отсюда сдержка изнутри – обрядоверие и ригоризм, сдержка снаружи – бюрократизм и любовь к государственности»767. Впоследствии это начало стихийности будет обозначено отцом Павлом усийным (титаническим), а противостоящее ему культурное и гармонизирующее – ипостасным началом человеческой личности.
Об этом генетически обусловленном антиномизме Флоренский рассуждает в письме В. Розанову: «Во мне костромская кровь подмешана африканскою, ибо я чувствую её в себе, хотя часто и стараюсь забыть о том. Вот, дорогой Василий Васильевич, моя антиномия Костромы и Карфагена и колебание: между сидением под ощипанною березою и бешеной скачкою в знойной пустыне на арабском коне»768.
4.2. Амбивалентность и антиномия как характеристики личности
В этой же переписке находится и такое ключевое самосвидетельство: «Идея антиномии, проходящая чрез всю работу красною нитью, – говорит отец Павел о «Столпе и утверждении Истины», – есть, кажется, самая точная характеристика моей души: сладость противоречия!»769. О том, что антиномия является центральным понятием и методом «Столпа», мы убедились, теперь же сталкиваемся с характеристикой личности через антиномию. Причем здесь отсутствуют какие-либо отрицательные оценки антиномизма, что позволяет разграничить его с понятием амбивалентности770 в психологии, основная характеристика которого есть душевный разлад. Учитывая предыдущее описание этой антиномии через противопоставление Карфагена и Костромы, юга и севера, антиномия личности ощущается как её здоровое, активное, витальное свойство. Амбивалентность же является нарушением баланса «и то, и другое», в отличие от антиномии, она фиксируется не на синтезе, а на раздвоенности сознания шизоидной личности, переживающей себя «не в качестве цельной личности, а скорее в виде “раскола” всевозможными образами: вероятно, как разум, более или менее слабо связанный с телом, как два и более “я”...»771. Такие признаки шизоидности, как «непрочность субъективного ощущения индивидуумом собственной жизненности»772 и невоплощённость ментального Я в теле773, также не находят места в рассматриваемом антиномизме.
Отметим, что термины «шизофрения» и «антиномия» находятся в рассуждении прот. Александра Шмемана о нечувствии православными людьми истории, отрицании перемены, ухода от нового: «Поскольку же мир этот неизбежно и даже радикально менялся, то первым симптомом кризиса нужно признать глубокую шизофрению, постепенно вошедшую в православную психику: жизнь в нереальном, несуществующем мире, утвердившемся как реальный и существующий». Под нереальным миром отец Александр подразумевает попытку не замечать хода истории, искать возвращения к прошлому, неспособностью «справиться изнутри с основной христианской антиномией – “в мире сем, но не от мира сего”, неспособности понять, что самый что ни на есть “православный” мир все же именно “от мира сего”...»774. Обратим внимание, что «шизофрения» здесь, согласно о. Александру, не в самой антиномичности, а как следствие отступления от неё в иллюзорность (здесь противоположные полюсы антиномии можно обозначить как изоляция и обмирщение). Но не преодолённая и не примирённая верой антиномия, расколотость мышления, действительно может характеризоваться терминологией душевной болезни. Эти характеристики мы встречаем, не только в «Столпе и утверждении Истины», но и у преп. Иустина Сербского, например, когда он говорит о герое Достоевского Иване Карамазове как идеологе человекобожия, который «не смог выдержать бунтарской антиномии своего евклидова ума и сошел с ума»775. С Карамазовым отец Иустин сравнивает писателя-атеиста М. Метерлинка: «печальные исполины мысли сходят с ума от разветвлённых ощущений»776 и, в частности, от непостигнутой антиномичности смерти (одновременной нормы и катастрофы)777. Итак, примирённая верующим разумом антиномия для рассудка остаётся противоречием.
4.3. Преодоление закона постоянства как предпосылка антиномизма
Помимо родового момента, отец Павел указывает и на личную мировоззренческую составляющую своего антиномизма. Показательно сопоставление его и отцовского (Александра Ивановича Флоренского) мировосприятия, а именно отношение к закону постоянства, под которым понимается определённость и устойчивость явления. Флоренский говорит, что такие устойчивые явления, физические законы, его подавляли; исследовательская же радость у него появлялась, когда же он слышал об исключениях из закона, разрывах закономерностей: «Напротив, когда приходилось слышать о найденном законе, о “всегда так”, меня охватывало смутное, но глубокое разочарование...»778. Такая настроенность против закона, ἀντι νόμος, определяла, по словам отца Павла, его научный интерес (можно вспомнить его студенческую работу о прерывности779, где также проявляется связь антиномии и аритмологии). Флоренский сравнивает в своих воспоминаниях закон со стальным ярмом, которое накладывалось на ум, как гнёт и оковы: «Закономерность была врагом моим; узнав о каком-либо законе природы, я только тогда успокаивался от мучительной тревоги ума, чувства стеснённости и тоскливой подавленности, когда отыскивалось и исключение из этого закона»780.
Такую установку формируют ещё более ранние впечатления семьи и детства: «В понимании отца именно идея непрерывности была оплотом и средоточным скрепом научного мировоззрения»781. Противопоставляется же научности сказка и фокус своим элементом чудесного, а всё простое и объяснённое не являются чудом, к которому тянулся Павел. Он свидетельствует о своей детской интуиции, что за всем простым скрывается не просто сложное, но таинственное. Автор передаёт это опять же в понятиях антиномизма, где непрерывность прерывна, тождественность познаётся через различие, различное же оказывается тождественным: «Во мне создалось крепкое убеждение, – говоря позднейшим языком, – что в самой сути, в той таинственной глубине, куда взрослые боятся и не хотят заглядывать и куда они не пускают заглядывать меня, – что там бессильны законы тождества и противоречия и действуют иные законы: тождество противоречивого и противоречивость тождественного; вещь есть не она, а другое нечто – это-то и есть она»782. Тождество противоречивого как раз и является дефиницией антиномии.
Обрываются воспоминания рассказом о том, что внешне жизнь гимназиста Павла Флоренского протекала полной труда, усиленными интеллектуальными занятиями: наукой, философией, литературой, преподаванием-репетиторством. Внутреннее же состояние он называет обвалом, концом научного мировоззрения. «“Истина недоступна” и “невозможно жить без истины” – эти два равно сильных убеждения раздирали душу и ввергали в душевную агонию. Смертельная тоска и полное отчаяние владели мною»783. Какое разрешение получает эта антиномия, становится известным из Письма второго «Сомнение» «Столпа и утверждения Истины».
Обобщенный материал по теме антиномизма Флоренского содержится в автобиографической статье для советского784 словаря «Гранат»: «Основным законом мира Ф[лоренский] считает второй принцип термодинамики – закон энтропии, взятый расширительно, как закон Хаоса во всех областях мироздания. Миру противостоит Логос – начало эктропии. Культура есть сознательная борьба с мировым уравниванием: культура состоит в изоляции, как задержке уравнительного процесса вселенной, и в повышении разности потенциалов во всех областях, как условии жизни, в противоположность равенству – смерти»785. Здесь право говорить об антиномии даёт формулировка «разность потенциалов в противоположность равенству», т. е. речь идёт о преодолении самозамкнутости, о которой говорилось в «Столпе», или закона постоянства из «Воспоминаний». Антиномии придаётся значение универсального принципа. Причём выстраивается антагонизм следующих смысловых рядов: антиномия – эктропия – культура – Логос, с одной стороны, а с другой: равенство – энтропия – смерть – Хаос. Впервые пара понятий энтропии и эктропии, сообщает Л. Г. Антипенко, используется Н. А. Умовым786, у него они носят названия нестроения и стройности, сами же термины вводит в научный оборот в начале ХХ в немецкий физик Ф. Ауэрбах787. Согласно последнему, энергия постоянно меняется количественно и качественно, переходя с одного на другой уровень, что имеет название тропии. Этот переход может иметь двойственный характер: с тенденцией к усилению (эктропия) или ослаблению (энтропия) энергии. В философии Флоренского эти понятия соответствуют созидательному и разрушительному началам. Повышение разности потенциалов осмысливается в его философии как антиномия, что подтверждает созвучный заключительному выводу «Столпа» фрагмент из энциклопедии, где говорится о строении разума. Человеческому разуму присущи тенденции остановки и движения, конечности и бесконечности: «Так как без совместного наличия обеих тенденций не может разум действовать, то всякое действие разума существенно антиномично, и все построения его держатся лишь силою противоборствующих и взаимоисключающих начал»788.
Далее в статье речь идёт о, казалось бы, философской гносеологии, но здесь явно просматривается тема церковной апологии «Столпа и утверждения Истины» – тема догмата: «Непреложная истина – это та, в которой предельно сильное утверждение соединено с предельно же сильным его отрицанием, т.е. – предельное противоречие: оно непреложно, ибо уже включило в себя крайнее его отрицание. И поэтому всё то, что можно было бы возразить против непреложной истины, будет слабее этого, в ней содержащегося отрицания. Предмет, соответствующий этой последней антиномии, и есть, очевидно, истинная реальность и реальная истина. Этот предмет, источник бытия и смысла, воспринимается опытом»789. Последняя строка в переводе на язык богословия и философии Флоренского будет означать, что антиномия «непреложной истины», т. е. догмата, получает своё разрешение, своё понимание в религиозном опыте, т. е. церковной жизни.
Обратим внимание на использование отцом Павлом музыкального термина «контрапункт» для характеристики своего мировоззрения, которое построено из «некоторого числа тем миропонимания, тесно сплоченных особою диалектикою, но не поддается краткому систематическому изложению»790.
Рассмотрим комментарий к этому термину, где конрапунктическое (contrario предельно сжимает и усиливает музыкальное выражение) противопоставляется дополнительному (сomplementum растягивает и ослабляет) и характеризуется как динамика противоположностей: «В истории музыки переход от контрапунктического (времена Баха) к комплементарному началу ознаменовал стратегию сглаживания противоречий»791.
И наконец, автобиографическое свидетельство последнего года жизни отца Павла, письмо, где он делится с сыном Кириллом мысленным просмотром своей жизни и своих научных результатов. Среди них упоминаются «антиномии разсудка»792, учение о которых отец Павел по праву считал своим философским достижением и научным открытием, с чем были согласны как его современники, так и последующие историки философии.
Avt
Заключение
1. Исследование литературы, связанной с понятием антиномии, в том числе, изучение трудов священника Павла Флоренского, позволило достичь следующих результатов:
1.1. Выяснено понятие антиномии. В работе его определение представлено логической формулой
На наш взгляд, это наиболее верное и чёткое выражение смысла антиномии. Этой формуле соответствует следующее определение: антиномия есть тождество противоречия.
1.2. В диссертации предложена формулировка интересующего нас понятия применительно к богословию: антиномия в богословии – это противоречие между двумя истинными суждениями, находящее примирение в вере, при этом верующий разум осмысляет их логически взаимоисключающими и использует в качестве полярных сторон для выяснения крайностей, содержащихся в какой-либо целостности, и поиска равновесия между ними (антиномического баланса).
1.3. Проведено разграничение антиномии и смежных с нею понятий парадокса, апории, абсурда, софизма, паралогизма, оксюморона, диалетеи, полярности, амбивалентности. В работе обращается внимание на смысловое изменение термина «антиномия»: изначально – юридического, затем – философского и богословского.
1.4. Представлен обзор генезиса философского понятия антиномии, а также охарактеризованы основные позиции в осмыслении явления антиномичности. Данные позиции распределены в работе по их отношению к проблеме логической разрешимости антиномии. Приведены работы православных авторов (особое значение здесь принадлежит святоотеческому наследию), по мнению которых, отдельные религиозные вопросы не находят разрешения на рациональном уровне и принимаются в качестве антиномического противоречия двух истин. В работе даны ссылки на современные исследования, которые признают заслугу священника Павла Флоренского в детальной теоретической разработке данного феномена.
2. В результате историко-литературного анализа трудов о. П. Флоренского можно сделать следующие заключения.
2.1. Впервые понятие антиномии П. А. Флоренский раскрывает в лекции «Космологические антиномии И. Канта» (1908 г.). Определение антиномии П. А. Флоренский даёт по Канту как полярно противоположных выражений, находящихся во взаимном противоречии, к которым разум вынужден приходить в силу своего строения. Однако, в отличие от Канта, в антиномиях Флоренский видит не препятствие для разума, а один из способов его существования.
2.2. Развёрнутая теория антиномизма представлена о. П. Флоренским в книге «Столп и утверждение Истины», изданной в 1913 году. Исследователи отмечают двойственный характер этого учения. С одной стороны антиномия показана о. Павлом последствием грехопадения и представляет определённую трудность для мышления – автор даже называет её удушливой793. С другой стороны в этом же произведении антиномия раскрывается в качестве нормы для рассудка: основной тезис Флоренского сводится здесь к утверждению, что истина есть антиномия.
В диссертации обращается внимание на то, что автор «Столпа» не распространяет явления антиномичности на Абсолютную Истину – в Божественной реальности, согласно Флоренскому, противоречия отсутствуют.
Что касается другого полемичного вопроса о природе антиномии, то в нашей работе говорится о необходимости различать последствия греха и саму греховность: антиномия, явившаяся последствием грехопадения, сама не становится греховной (противоположное мнение высказывает Е. Н. Трубецкой, называя антиномию греховной раздвоенностью794).
2.3. В «Философии культа» (1918–1922) двойственного отношения к антиномии уже не обнаруживается, более того, антиномия в этой работе приобретает витальную характеристику. Так, разум должен иметь опору в «живой антиномии»795 и в ней сохранять баланс.
2.4. В книге «У водоразделов мысли» (1919–1926) понятие антиномии зачастую сопоставляется автором с понятием полярности. При этом антиномия принадлежит ментальному уровню, она отсутствует в материальной действительности – это основное разграничение названных понятий. Отнесённость антиномии исключительно к области человеческого разума отличает учение о. Павла Флоренского от учения Г. Гегеля, распространяющего принцип противоречия на всю действительность.
2.5. Наиболее близкими к абсолютизации данного принципа могли бы оказаться построения, изложенные в автобиографической статье Флоренского для словаря «Гранат», в которых обозначены два «закона мира»: закон Хаоса, отражающий процесс уравнивания, и закон Логоса, или культура, состоящая в повышении разности потенциалов как условии жизни796. Однако и здесь антиномии отводится только лишь сфера человеческого разума, действие которого «существенно антиномично»797.
2.6. В других автобиографических произведениях о. П. Флоренского антиномия также занимает весомое положение. В связи с этим в диссертации указывается на её персоналистический характер: стремления к обострению противоречия и поиску единства могут рассматриваться как индивидуальные характеристики личности.
3. Ценность учения об антиномии – еще один вывод, содержащийся в диссертации – как для философии, так и для богословия. Для философии учение о. Павла Флоренского об антиномии обладает следующим значением. Антиномия имеет объективное существование, это не паранаучная фикция, не философское предположение, не экспериментальная модель, а сложившееся научное понятие, обозначающее реальное явление.
Исследование учения Флоренского об антиномии приводит к формированию строгого подхода к определению, чтό является и чтό не является антиномией. А именно наличие в явлении двух сущностных признаков (антитетического (противоречие) и синтетического (тождество)) позволяют говорить об антиномии.
Так, этот подход не позволяет называть антиномией пару «истина – ложь» вследствие их сущностной нетождественности; пара «добро – зло» неантиномична по причине отсутствия сущностного противоречия: зло не имеет собственного бытия, а представляет собой лишь искаженное добро.
Ещё одним следствием этого подхода является отграничение антиномии от явлений противоположности (oppositio), которые не исключают друг друга, т. е. не являются противоречием (controversia). Например, к противоположным относятся «дружески сплетённые и противопоставленные один другому»798 катафатический и апофатический методы.
Вернёмся к вопросу, адресованному антиномизму в начале нашей работы: не размывает ли он границы научной корректности и не способствует ли он тривиализации логической истины? Строгий подход к определению антиномии как тождеству противоречия ставит для неё четыре условия. Антиномия возможна, если 1) её тезис истинен, 2) её антитезис истинен, 3) тезис и антитезис контрарны (находятся во взаимном противоречии), 4) тезис и антитезис образуют синтез (составляют онтологическое единство, целостность).
Основной вопрос философии к антиномизму: как возможно определять истину через антиномию, когда традиционная рациональная теория истинности сводится к её непротиворечивости? Ответ в диссертации даётся на основе учения о. Павла Флоренского посредством установления парадокса антиномии: если гносеологически истина является антиномией, то, по определению антиномии как совместного утверждения тезиса и антитезиса, истина должна быть как антиномией, так и не-антиномией.
Таким образом, традиционный подход дополняется взглядом на истину, способной быть представленной противоречием. Тем самым в антиномизме получает обоснование первичность религиозной – персонифицированной во Святой Троице и во Христе – Истины: не Истина должна быть подчинена закону рациональности, а человеческая логика, согласно Флоренскому, должна быть в послушании у Истины; не разумная вера, а верующий разум; не истина – от человека, а человек – от Истины.
Развитие философской теории антиномизма оказалось для Флоренского возможным именно на богословской почве, располагающей собранием безусловных истин. Основная его задача (во многом новаторская) сводилась к обнаружению противоречия между ними. Последующие, преимущественно русские, богословы укрепили позиции Флоренского примерами из святоотеческой литературы и собственными доводами. Ссылки на их работы приводятся нами в основном при разборе книги «Столп и утверждение Истины».
4. Учение об антиномии П. А. Флоренского вносит вклад в развитие богословской науки (обоснование антиномичности догмата, установление антиномий в триадологии, христологии, пневматологии, экклезиологии, сотериологии, сакраментологии, мариалогии). Флоренский первый применил антиномию в богословии. Основной вопрос, заданный богословием антиномизму (вопрос Е. Н. Трубецкого автору «Столпа»): как возможно преображение разума светом христианского учения, если норма этого учения – антиномия? Ответ дан с помощью различения рассудка и разума, а также выяснения природы феномена антиномии.
Нам не встречалось, где бы отец Павел употребил выражение «антиномический метод», но несомненно, что для него антиномия является важнейшим инструментом познания. Этот метод используется в богословской антропологии о. Павла Флоренского: посредством антиномии раскрываются природное и личностное начала в человеке, его словесность (одновременно статичная и энергийная), феномен культурного развития (антиномия природы и культуры). Мыслитель применяет антиномию для выражения христианского понимания любви и ревности как дополняющих друг друга центробежной и центростремительной сил. Богословское осмысление символа даётся через антиномию человеческого и сверхчеловеческого познания. Символ, в свою очередь, является ключом к пониманию таинства, обряда, иконы, идеи, имени. Церковный культ в антиномичном истолковании Флоренского сочетает в себе небесное и земное: обрядовая сторона как являет Таинство, так и сохраняет его сокровенный характер.
Таким образом, в богословских построениях отца Павла антиномизм оказывается противопоставленным рационализму, устраняющему неотмирность богословия, его таинственную составляющую. Противоречие, которое обнаруживается Флоренским, в православном Предании, выполняет функцию границы для рассудочного постижения религиозной истины. Приоритет в христианском мировоззрении, согласно антиномическому подходу, отдаётся духовному опыту, что составляет одно из основных положений учения Флоренского.
1. Учение об антиномии важно для понимания и самой личности отца Павла. Мы опираемся в основном на автобиографические свидетельства, которые также открывают новые углы зрения на антиномизм в целом, подводят нас к выводу о том, что само восприятие идеи антиномии зависит от склада личности. Стремление к целостному мировосприятию и поиск онтологического единства мира, свойственные русской философии, на наш взгляд, лежат в основе теории антиномизма. Практическое же преодоление противоречий оказывается возможным на пути духовного преображения человека.
Список источников и литературы
1. Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. Канонические. М.: Российское Библейское общество, 1994. 1275 с.
2. Павловы послания: комментированное издание. М.: Институт перевода Библии, 2017. 784 с.
Патристические и литургические источники
3. Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I–VIII веков. Новый Завет. Т. IVб: Евангелие от Иоанна / Под ред. Д. Эловски. Тверь: Герменевтика, 2017. 509 c.
4. Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I–VIII веков. Новый Завет. Т. VI: Послание к Римлянам / Под ред. Дж. Брэй. Тверь: Герменевтика, 2003. 632 c.
5. Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I–VIII веков. Ветхий Завет. Т. XI: Книга пророка Исаии / Под ред. М. У. Эллиота. Тверь: Герменевтика, 2021. 408 с.
6. Athanasius Alexandrinus. Epistola ad Afros Episcopos // PG. Т. 26. Col. 1029–1048.
7. Athanasius Alexandrinus. Orationes I, II, III contra Arianos // PG. Т. 26. Col. 11–468.
8. Augustinus Hipponensis. Confessiones // PL. T. 32. Col. 119–370.
9. Augustinus Hipponensis. De rhetorica // Rhetores Latini minores / Carolus Halm / Lipsiae, 1863. S. 137–151.
10. Dionysius Areopagita. De coelesti hierarchia // PG. Т. 3. Col. 119–370.
11. Dionysius Areopagita. De divinis nominibus // PG. Т. 3. Col. 585–996.
12. Gregorius Nyssenus. De anima et resurrectione // PG Т. 46. Соl. 11–160.
13. Gregorius Nyssenus. De Beatitudinibus. Oratio IV–VI // PG. Т. 44. Col. 1231–1278.
14. Gregorius Nyssenus. Quod Νοn Sint Tres Dii, ad Ablabium // PG. Т. 45. Col. 115–136.
15. Gregorius Palamas. Theophanes, sive de divinitatis et rerum divinarum
communicabilitate et incommunicabilitate // PG. Т. 150. Col. 909–960.
16. Gregorius Theologus. Orationes // PG. Т. 35. Col. 393–1252.
17. Gregorius Theologus. Orationes // PG. Т. 36. Col. 9–664.
18. Joannes Damascenus. Expositio fidei // PG. Т. 94. Col. 789–1228.
19. Joannes Damascenus. Dialectica // PG. Т. 94. Col. 517–676.
20.Joannes Climacus. Scala Paradisi // PG. Т. 88. Col. 624–1164.
21. Maximus Confessor. Ambigua ad Ioannem // PG. Т. 91. Col. 1061–1417.
22. Maximus Confessor. Ambigua ad Thomam // PG. Т. 91. Col. 1032–1060.
23. Maximus Confessor. Quaestiones ad Thalassium // PG. Т. 90. Col. 243–786.
24. Августин Гиппонский, св. блаженный. Исповедь / Пер. с лат. М. Сергеенко; предисл. иером. Симеона (Томачинского). М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2012. 528 с.
25. Августин Иппонский, св. блаж. О Троице: в пятнадцати книгах против ариан / Пер., вст. ст., прим. А. А. Тащиана. Краснодар: Глагол, 2004. 416 с.
26. Анастасий Синаит, преп. Вопросы и ответы / Пер., вступ. ст., коммент. А. И. Сидорова. М.: Сибирская Благозвонница, 2015. 672 с.
27. Афанасий Великий, свт. Творения: В 3 т. Т. 1. М.: Сибирская Благозвонница, 2015. 864 c.
28. Василий Великий, свт. Творения: В 2 т. Т. 2. М.: Сибирская Благозвонница, 2009. 1232 с.
29. Григорий Богослов, свт. Творения: В 2 т. Т. 1. М.: Сибирская Благозвонница, 2010. 895 с.
30. Григорий Богослов, свт. Творения: В 2 т. Т. 2. М.: Сибирская Благозвонница, 2010. 943 с.
31. Григорий Нисский. свт. Избранные творения. М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2010. 383 с.
32. Григорий Палама, свт. Трактаты / Пер. с греч. архим. Нектарий (Яшунский). Краснодар: Текст, 2007. 256 с.
33. Григорий Палама, свт. Триады в защиту священно-безмолвствующих / Пер., послесл., комм. В. Вениаминова. М.: Канон, 1995. 384 с.
34. Дионисий Ареопагит. Корпус сочинений. С толкованиями преп. Максима Исповедника / Пер. с греч. и вступ. ст. Г. М. Прохорова. 6-е изд. СПб.: Изд-во Олега Абышко, 2017. 464 с.
35. Игнатий (Брянчанинов), свт. Собрание сочинений. Т. 6. М.: Терирем, 2011. 575 с.
36. Игнатий (Брянчанинов), свт. Полное собрание творений и писем: В 8 т. / Общ. ред. О. И. Шафранова. 2-е изд., испр. и доп. Т. 5. М.: Паломник, 2014. 624 с. 37. Иларион (Троицкий), свщмч. Творения в 3 т. Т. 3. М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2004. 600 с.
38. Иоанн Дамаскин, преп. Точное изложение православной веры. М.: Изд- во Сретенского монастыря, 2019. 592 с.
39. Иоанн Златоуст, свт. Творения. Т. 10. СПб: СПбДА, 1904. 992 с.
40. Иоанн Кронштадтский, св. прав. Дневник. Т. 16. 1871–1872. Тверь:
Булат, 2008. 551 с.
41. Иоанн Кронштадтский, св. прав. Собр. соч. в 6-ти тт. Т. 1. Жизнеописание. Моя жизнь во Христе. Киев: Оранта, 2006. 800 с.
42. Иоанн Кронштадтский, св. прав. Собр. соч. в 6-ти тт. Т. 2. Мысли о
Церкви и православном богослужении. Киев: Оранта, 2006. 623 с.
43. Иоанн Кронштадтский, св. прав. Собр. соч. в 6-ти тт. Т. 3. Вероучительные беседы. Киев: Оранта, 2006. 432 с.
44. Иоанн Лествичник, преп. Лествица. М.: Сибирская Благозвонница, 2010. 575 c.
45. Иоанн (Попов), мч. Труды по патрологии. Т. 1. Сергиев Посад: СТСЛ; МДА, 2005. 743 c.
46. Исаак Сирин, преп. Слова подвижнические. М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2012. 848 с.
47. Иустин (Попович), преп. Собрание творений в 4-х тт. / Пер. с серб. С. Фонов, общ. ред. А. И. Сидоров. Т. 1. М.: Паломник, 2004. 430 с.
48. Иустин (Попович), преп. Собрание творений в 4-х тт. / Пер. с серб. С. Фонов, общ. ред. А. И. Сидоров. Т. 2. М.: Паломник, 2006. 606 с.
49. Иустин (Попович), преп. Собрание творений в 4-х тт. / Пер. с серб. С. Фонов, общ. ред. А. И. Сидоров. Т. 3. М.: Паломник. 2006. 607 с.
50. Иустин (Попович), преп. Собрание творений в 4-х тт. / Пер. с серб. С. Фонов, общ. ред. А. И. Сидоров. Т. 4. М.: Паломник. 2007. 511 с.
51. Иустин (Попович), преп. Достоевский о Европе и славянстве. СПб: Адмиралтейство, 1998. 270 с.
52. Иустин (Попович), преп. Философские пропасти. М.: ИС РПЦ, 2004. 288 с.
53. Макарий Великий, преп. Духовные беседы. М.: Издательство Сретенского монастыря, 2013. 656 c.
54. Максим Исповедник, преп. Амбигвы / Пер. Д. А. Черноглазова, А. М. Шуфрина; науч. ред., предисл., комм. Г. И. Беневича. М.: Эксмо, 2020. 992 с.
55. Максим Исповедник, преп. Вопросоответы к Фалассию / Пер., предисл. и коммент. А. И. Сидорова. 2-е изд. М.: Сибирская Благозвонница, 2021. 974 c.
56. Максим Исповедник, преп. Вопросы и недоумения / Пер. Д. А. Черноглазова. М.: Никея; Афон: Пантелеимонов монастырь, 2010. 488 с.
57. Максим Исповедник, преп. Творения. / Пер., вст. ст. и коммент. А. И. Сидорова. М.: Мартис, 1993. 352 c.
58. Михаил (Новосёлов), мч. Психологическая сила православия: Противоречия в природе человека и их разрешение в Вере Христовой: (Из нашего наследия). М.: ФАВОР-XXI, 2003. 76 с.
59. Никодим Святогорец, преп. Невидимая брань / Пер. с греч. свт. Феофана Затворника. М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2014. 400 с.
60. Православный молитвослов. М.: Духовное преображение, 2011. 447 c.
61. Серафим (Соболев), свт. Новое учение о Софии Премудрости Божией. СПб: Общество памяти игумении Таисии, 2011. 526 c.
62. Сергий (Мечёв), свщмч. «Друг друга тяготы носите...»: жизнь и пастырский подвиг священномученика Сергия Мечёва: в 2 кн. Кн. 2 «Войдите во внутреннюю клеть...» Проповеди и беседы / Сост. А. Грушина. М, 2017. 522 с.
63. Симеон Новый Богослов, преп. Творения в 3 т. Т. 3. Божественные гимны / Сост. предметно-именного указателя: свящ. П. Флоренский [С. 438–535]. СТСЛ, 2017. 544 c.
64. Служебник. М.: ИС РПЦ, 2003. 464 c.
65. Творения преподобного Иоанна Дамаскина. Источник знания / Пер. и комм. Д. Е. Афиногенова, А. А. Бронзова, А. И. Сагарды, Н. И. Сагарды. М.: Индрик, 2002. 421 с.
66. Тертуллиан. Избранные сочинения / Пер. с лат. М.: Прогресс, 1994. 448 с.
67. Типикон, сиесть Устав. М.: ИС РПЦ, 2002. 1200 с.
68. Требник монашеский. М.: Лодья, 2003. 238 с.
69. Феофан Затворник, свт. Собрание писем в 5-ти т. Т. 5. М.: Правило веры, 2012. 608 c.
70. Феофилакт Болгарский, св. блаж. Толкования на Апостол. Кн. 2. М.: Лепта, 2004. 605 с.
Иные источники
71. Аристотель. Соч. в 4-х тт. Т. 2. М.: Мысль, 1978. 687 с.
72. Гегель Г. Наука логики / Пер. Б. Г. Столпнера. М.: Мысль, 1998. 1072 с.
73. Гегель Г. Философия права / Пер. Б. Г. Столпнера, М. И. Левиной М.: Мысль, 1990. 524 с.
74. Достоевский Ф. М. Собр. соч. в 15 т. Т. 15. СПб.: Наука, 1996. 861 с.
75. Кант И. Соч. в 6-ти томах. Т. 3. М.: Мысль, 1964. 799 с.
76. Кант И. Соч. в 8-ти томах. Т. 1. М.: Чоро, 1994. 544 с.
77. Кант И. Сочинения на немецком и русском языках / Т. 2: Критика чистого разума в 2 ч. Ч. 1 / под ред. Б. Бушлинга, Н. Моторшиловой. М.: Наука, 2006. 1081 с.
78. Николай Кузанский. Сочинения в 2-х тт. Т. 2: Перевод / Общ. ред. В. В. Соколова и З. С. Тажуризиной. М.: Мысль, 1980. 471 с.
79. Переписка священника Павла Александровича Флоренского со священником Сергеем Николаевичем Булгаковым. Томск: Водолей, 2001. 224 с. 80. Переписка священника Павла Александровича Флоренского и Михаила Александровича Новосёлова. Томск: Водолей, 1998. 288 с.
81. Переписка П. А. Флоренского с Андреем Белым. С приложением письма П. А. Флоренского В. Я. Брюсову // Контекст. Литературно-теоретические исследования. М.: Наука, 1991. С. 23–61.
82. Переписка А. В. Ветухова с П. А. Флоренским (1908–1918) // ВФ. 1995. No 11. С. 67–118.
83. Письма П. А. Флоренского А. В. Ветухову // ВФ. 1995. No 12. С. 128–132.
84. Письма Г. В. Флоровского П. А. Флоренскому (1911–1914) // Исследования по истории русской мысли. Ежегодник. 2003. No 6. С. 51–68.
85. Флоренский П., свящ. Сочинения в 4-х тт. Т. 1 / Сост. и общ. ред. иг. Андроника (А. С. Трубачёва), П. В. Флоренского, М. С. Трубачёвой. М.: Мысль, 1994. 797 с.
86. Флоренский П., свящ. Сочинения в 4-х тт. Т. 2 / Сост. и общ. ред. иг. Андроника (А. С. Трубачёва), П. В. Флоренского, М. С. Трубачёвой. М.: Мысль, 1996. 877 с.
87. Флоренский П., свящ. Сочинения в 4-х тт. Т. 3(1) / Сост. иг. Андроника (А. С. Трубачёва), П. В. Флоренского, М. С. Трубачёвой; ред. иг. Андроник (А. С. Трубачёв). М.: Мысль, 2000. 621 с.
88. Флоренский П., свящ. Сочинения в 4-х тт. Т. 3(2) / Сост. иг. Андроника (А.С. Трубачёва), П. В. Флоренского, М. С. Трубачёвой; ред. иг. Андроник (А. С. Трубачёв). М.: Мысль, 2000. 623 с.
89. Флоренский П., свящ. Сочинения в 4-х тт. Т. 4 Письма с Дальнего Востока и Соловков / Сост. и общ. ред. иг. Андроника (А. С. Трубачёва), П. В. Флоренского, М. С. Трубачёвой. М.: Мысль, 1998. 795 с.
90. Флоренский П. А. Сочинения в 2-х тт. Т. 1 (в двух частях) / Сост. иг. Андроника (А. С. Трубачёва), М. С. Трубачёвой, П. В. Флоренского. Вступ. ст. С. С. Хоружего, историогр. очерк иг. Андроника (А. С. Трубачёва). М.: Издательство «Правда», 1990. 839 с.
91. Флоренский П. А. Сочинения в 2-х тт. Т. 2 / Сост. иг. Андроника (А. С. Трубачёва), М. С. Трубачёвой, П. В. Флоренского. Вступ. ст. С. С. Хоружего, историогр. ст. иг. Андроника (А. С. Трубачёва). М.: Издательство «Правда», 1990. 447 с.
92. Флоренский П. А. Богословские труды: 1902–1909 / [Сост.: Н. Н. Павлюченков, иг. А. Трубачёв; вступ. статья, комм. Н. Н. Павлюченкова]. М.: Изд- во ПСТГУ, 2018. 624 с.
93. Флоренский П., свящ. Столп и утверждение Истины. Опыт православной теодицеи в двенадцати письмах. 2-е изд. М.: Академический проект, 2017. 905 с. 94. Флоренский П., свящ. Из истории античной философии. М.: Академический проект, 2015. 524 с.
95. Флоренский П., свящ. У водоразделов мысли (Черты конкретной метафизики). Т. 1. 2-е изд. М.: Академический проект, 2017. 684 с.
96. Флоренский П., свящ. У водоразделов мысли (Черты конкретной метафизики). Т. 2. 2-е изд. М.: Академический проект, 2017. 607 с.
97. Флоренский П., свящ. Философия культа (Опыт православной антроподицеи). М.: Академический проект, 2014. 685 с.
98. Флоренский П., свящ. История и философия искусства. М.: Академический проект, 2017. 623 с.
99. Флоренский Павел, свящ. Из моей жизни. М.: Академический проект, 2018. 729 с.
100. Флоренский П., свящ. Все думы – о вас. Письма семье из лагерей и тюрем 1933–1937 гг. СПб.: Сатисъ, 2004. 548 с.
101. Флоренский П., свящ. Предполагаемое государственное устройство в будущем: Сборник архивных материалов и статей / Сост. иг. Андроник (Трубачёв). М.: Издательский Дом «Городец», 2009. 208 с.
102.Флоренский П. А. Вопросы религиозного самопознания. М.: ООО «Издательство АСТ», 2004. 235 с.
103. Флоренский П. А. «В вечной лазури». Сборник стихов (1907 г.) // Символ. 1989. No 21. С. 247–274
104. Флоренский П. А. Детям моим. Воспоминания прошлых дней. М.: ООО «Издательство АСТ», 2004. 379 с.
105. Флоренский П. А. Мнимости в геометрии / Предисл., послесл., комм. и общ. ред. Л. Г. Антипенко. М.: Лазурь, 1991. 96 с.
106. Флоренский П., свящ. Священное переименование. М.: Храм св. мч. Татианы, 2006. 352 с.
107. Флоренский П., свящ. Богословские труды. 1908–1922. Учебно- педагогические материалы по истории философии / Сост. иг. Андроник (Трубачёв). Сергиев Посад: Фонд науки и православной культуры священника Павла Флоренского; СПб.: Общество памяти игумении Таисии, 2020. 476 c.
108. Франк С. Л. С нами Бог. М.: АСТ, 2007. 380.
109. Франк С. Л. Сочинения. Мн.: Харвест, М.: АСТ, 2000. 800 с.
110. Codex Iustinianus / Recognovit et P. Krüger. Berolini: Weidmannos, 1877. 1102 S.
111. Goclenius R. Lexicon philosophicum, quo tanquam clave philosophiae fores aperiuntur. Francofurti, 1613 // URL: https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9669355q/f126.item.texteImage [Дата обращения: 04.04.2022].
112. Hegel G. Philosophische Propädeutik // URL: https://www.marxists.org/deutsch/philosophie/hegel/propaed/index.htm обращения: 27.02.2022).
113. Luther M. Wider die Antinomer. Wittemberg. 1535. 26 S.
114. Plutarch. Caesar // Plutarch’s Live. Cambridge: Harvard University Press, 1967. P. 441–610.
115. Quintilian M. F. Institutio Oratoria // URL: https://penelope.uchicago.edu/thayer/e/roman/texts/quintilian/institutio_oratoria/hom e.html (дата обращения: 04.04.2022).
Исследования
116. Аверинцев С. С. Собрание сочинений / Под ред. Н. П. Аверинцевой и К. Б. Сигова. София–Логос. Словарь. К.: ДУХ I ЛIТЕРА, 2005. 902 с.
117. Аверинцев С. С. Теодицея // Философская энциклопедия. Т. 5. М., 1970. С. 197.
118. Акулинин В. Н. Философия всеединства: от В. С. Соловьева к П. А. Флоренскому. Новосибирск: Наука. Сибирское отделение, 1990. 158 c.
119. Амфилохий (Радович), митр. «Филиокве» и нетварная энергия Святой Троицы по учению святого Григория Паламы // Хрестоматия по сравнительному богословию: Учеб. пособие. М.: Подворье СТСЛ, 2005. С. 424–464.
120. Амфилохий (Радович), митр. Основы православного воспитания // Сайт «Азбука веры» // URL: azbyka.ru/otechnik/Amfilohij_Radovich/osnovy-pravoslavnogo-vospitanija (дата обращения: 01.09.2021)
121. Андроник (Трубачёв), иг. Путь к Богу. Личность, жизнь и творчество
священника Павла Флоренского. Книга 1. М.: Издательский Дом «Городец», 2012. 672 с.
122. Андроник (Трубачёв), иг. Путь к Богу. Личность, жизнь и творчество священника Павла Флоренского. Книга 2. Фонд науки и православной культуры священника Павла Флоренского, 2015. 955 с.
123. Андроник (Трубачёв), иг. Путь к Богу. Личность, жизнь и творчество священника Павла Флоренского. Книга 3. Фонд науки и православной культуры священника Павла Флоренского, 2015. 512 с.
124. Андроник (Трубачёв), иг. Путь к Богу. Личность, жизнь и творчество священника Павла Флоренского. Книга 4. Фонд науки и православной культуры священника Павла Флоренского. Издательский дом «Городец», 2016. 512 с.
125. Андроник (Трубачёв), иг. Путь к Богу. Личность, жизнь и творчество священника Павла Флоренского. Книга 5. Фонд науки и православной культуры священника Павла Флоренского, 2018. 544 с.
126. Андроник (Трубачёв), иг. Путь к Богу. Личность, жизнь и творчество священника Павла Флоренского. Книга 6. Сергиев Посад: Фонд науки и православной культуры священника Павла Флоренского; СПб.: Общество памяти игумении Таисии, 2020. 752 с.
127. Андроник (Трубачёв), иг. Биобиблиографический справочник. Личность, жизнь и творчество священника Павла Флоренского. Фонд науки и православной культуры священника Павла Флоренского, Сергиев Посад, 2015. 1055 с.
128. Андроник (Трубачёв), иг. Теодицея и антроподицея в творчестве священника Павла Флоренского. Томск: Водолей, 1998. 191 с.
129. Андроник (Трубачёв), иг. Епископ Антоний (Флоренсов), старец московского Донского монастыря. Сергиев Посад: Издательство МДА, 2019. 704 c.
130. Андроник (Трубачёв) иг., С. М. Половинкин. У водоразделов мысли / Новая философская энциклопедия в 4-х тт. / Предс. науч.-ред. совета В. С. Степин. Т. 4. М.: Мысль, 2010. С. 124–125.
131. Антипенко Л. Г. Флоренский П. А. о логическом и символическом аспектах научно-философского мышления: научная монография. М.: «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2012. 172 с.
132. Антоний, митр. Сурожский. Божественная литургия. М.: Фонд «Духовное наследие митрополита Антония Сурожского», 2012. 176 с.
133. Антоний, митр. Сурожский. Труды. Кн. 1. 2-е изд. М.: Практика, 2012. 1112 с.
134. Антонов К. М. «Как возможна религия?»: Философия религии и философские проблемы богословия в русской богословской мысли XIX–XX веков: В 2 ч. Ч. 1. М.: ПСТГУ, 2020. 608 с.
135. Асмус В. Ф. Иммануил Кант. М.: Наука, 1973. 536 c.
136. Астапов С. Н. Антиномизм как способ теоретической репрезентации религиозного сознания: на материале русской религиозной философии первой половины XX века: дис. ...доктора философских наук [Место защиты: Юж. федер. ун-т], 2010.
137. Афанасий (Евтич), еп. Успение Пресвятой Богородицы у святого Иоанна Дамаскина // Сайт «Азбука веры» // URL: azbyka.ru/otechnik/afanasij- evtich/uchenie-o-presvjatoj-bogoroditse-u-svjatogo-ioanna-damaskina (дата обращения: 01.09.2021)
138. Бабаева К. Б. «Философия культа» священника Павла Флоренского: опыт антиномического толкования // Философские науки. 2005. N 2. С. 106–124.
139. Бальтазар Г. У. Космическая литургия. Миросозерцание Максима Исповедника / Пер. с нем. Г. В. Вдовиной. М: Познание, 2021. 320 с.
140. Бальтазар Г. У. Теологика. Т. 2. / Пер. с нем. М.: Изд-во ББИ, 2018. 430 c. 141. Бахтин М. М. Собр. соч. в 7 т. Т. 2. М.: Русские словари, 2000. 798 с. 142. Бахтияров К. И. Логика двух- и трехмерная (парадоксы и силлогизмы) // Мысль и искусство аргументации / Отв. ред. И. А. Герасимова. М.: Прогресс- Традиция, 2003. С. 212–240.
143. Баюк Д. А., Форд Ч. Е. Данте–Галилей–Флоренский: к апологии замкнутого космоса // Историко-математические исследования. Выпуск 10 (45). 2005.С. 244–259.
144. Бердяев Н. А. Стилизованное православие (о. Павел Флоренский) // П. А. Флоренский: рroet сontra / Сост. К. Г. Исупова. СПб., 2001. С. 266–285.
145. Бернштейн В. С. Парадокс // Гуманитарный портал // URL: gtmarket.ru/concepts/6956 (дата обращения: 10.08.2021)
146. Бибихин В. В. История современной философии (единство философской мысли). СПб.: Издательство «Владимир Даль», 2014. 398 с.
147. Бибихин В. В. Язык философии. СПб: Наука, 2007. 389 с.
148. Бирюков Б. В., Порядко И. П. Проблема логического противоречия и русская религиозная философия // Логические исследования. 2010. Т. 16. С. 23–84.
149. Бобринский Б., прот. Тайна Пресвятой Троицы. Очерк догматического богословия. М.: ПСТГУ, 2005. 360 c.
150. Болотов В. В. Лекции по истории Древней Церкви: в 4-х тт. Т. 3–4. Мн.: Харвест, 2008. 767 с.
151. Бонецкая Н. К. Русский Фауст ХХ века. СПб.: Издательство «Росток», 2015. 384 с.
152. Булгаков С. В. Настольная книга для церковно-священно-служителей. М.: Изд. Отдел Московского патриархата, 1993. 1797 c.
153. Булгаков С., прот. Свет Невечерний: созерцания и умозрения. М.: Издательство АСТ, 2001. 672 с.
154. Бычков В. В. Русская теургическая эстетика. М.: Ладомир, 2007. 743 с.
155. Ваганова Н. А. Софиология протоиерея Сергия Булгакова. М.: Издательство ПСТГУ, 2011. 464 c.
156. Валентини Наталино. Павел Флоренский / Пер. с ит. (Серия «Религиозные мыслители»). М.: Издательство ББИ, 2015. 191 с.
157. Василенко Л. И. Введение в русскую религиозную философию: учеб. пособ. М.: Изд-во ПСТГУ, 2006. 442 с.
158. Василий (Кривошеин), архиеп. Богословские труды / Составитель, автор биографических вступлений диакон Александр Мусин. Нижний Новгород: Издательство «Христианская библиотека», 2011. 752 с.
159. Вдовина Г. В. Интенциональность и жизнь. Философская психология постсредневековой схоластики. М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2019. 592 с.
160. Веронин Т. Л. Свидетель Вечности: Книга о священнике Павле Флоренском. М.: Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2018. 192 с.
161. Войшвилло Е. К., Дягтерев М. Г. Логика / Учеб. для студ. высш. учеб. заведений. М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2001. 528 с.
162. Воробьева С. В., Непейвода Н. Н., Бернштейн В. С. Парадокс // Гуманитарная энциклопедия: концепты / Центр гуманитарных технологий, 2002– 2020 // URL: gtmarket.ru/concepts/6956 9 (дата обращения: 20.08.2021)
163. Вышеславцев Б. П. Этика преображенного Эроса. М.: Республика, 1994. 367 c.
164. Гаврюшин Н. К. П. А. Флоренский и культура его времени // Вопросы философии. 1998. No 4. С. 146–150.
165. Гаврюшин Н. К. Русское богословие. Очерки и портреты. Н. Новгород: Нижегородская духовная семинария, 2011. 672.
166. Гаврюшин Н. К. По следам рыцарей Софии. М.: Стар Интер, 1998. 223 с.
167. Гаврюшин Н. К. Этюды о разумной вере. Мн.: Белорусская Православная Церковь, 2010. 656 с.
168. Гайденко П. П. Антиномическая диалектика П. А. Флоренского против закона тождества // Критика немарксистских концепций диалектики XX века. Диалектика и проблема иррационального. М.: Изд-во МГУ, 1988. 478 с.
169. Гайденко П. П. «Конкретный идеализм» С. Н. Трубецкого // Трубецкой С. Н. Сочинения. М., 1994. С. 3–44.
170. Гайденко П. П., Неретина С. С., Вострикова Е. В., Мотрошилова Н. В. Интенциональность / Гуманитарный портал: Концепты [Электронный ресурс] // Центр гуманитарных технологий, 2002–2021. URL: https://gtmarket.ru/concepts/7348 (дата обращения: 20.08.2021)
171. Гасилин В. Н. П. Флоренский о космогонических антиномиях И. Канта // Россия и Европа: философия, культура, современность: тез. докл. Междунар. Симпозиума, 9–11 ноября 1993 г. Саратов, 1993. С. 66–71.
172. Герасимова И. А. П. А. Флоренский о противоречии (логико- методологический анализ) //Логические исследования / Logical Investigations. 2012. Т. 18. C. 77–96.
173. Голлербах Е. Религиозно-философское издательство «Путь» (1910–1919) // Вопросы философии. 1994. No 4. С. 129–163.
174. Голосовкер Я. Э. Достоевский и Кант. М.: Изд-во АН СССР, 1963. 104 с. 175. Горелов А. С. Проблема объективности науки в философии Флоренского / А. С. Горелов // Богословие и наука: антропологическая перспектива: материалы конф. М., 2003 г. http://www.standrews.ru/index-ea=1&ln=1&shp=1&chp=showpage&num=308
176. Горячев Д., свящ. Антиномия: терминологические границы и богословские аспекты // Nomothetika: Философия, Социология, Право. 2021. No 46 (2). С. 230–238.
177. Горячев Д., свящ. Богословская антиномия: теологика или теоэстетика? // Христианское чтение. 2021. No 4. С. 125–136.
178. Горячев Д., свящ. Взаимосвязь антиномии, софиологии, имяславия (на примере учения священника Павла Флоренского) // Труды Белгородской православной духовной семинарии. 2021. No 13. С. 108–115.
179. Горячев Д., свящ. Личность согласно священнику Павлу Флоренскому // Вопросы богословия. 2020. No 2 (4). С. 207–227.
180. Горячев Д., свящ. О богословском критерии духовной прелести // Диакрисис. 2019. No 3 (3). С. 141–155.
181. Горячев Д., свящ. П. А. Флоренский: всё есть слово // Вопросы богословия. 2021. No 2 (в печати).
182. Горячев Д., свящ. Парадоксы в патристике // Труды Белгородской православной духовной семинарии. 2022. No 15 (в печати).
183. Горячев Д., свящ. Понятие неслитного и нераздельного соединения в церковном вероучении // Христианское чтение (в печати).
184. Горячев Д., свящ. Понятие антиномии в работах профессора А. И. Сидорова // Диакрисис (в печати).
185. Горячев Д., свящ. Примечания священника Павла Флоренского к статье архиепископа Никона (Рождественского) «Великое искушение около святейшего Имени Божия» // Диакрисис. 2020. No 4 (8). С. 53–69.
186. Горячев Д., свящ. Различия в антиномизме П. А. Флоренского и С. Л. Франка // Труды Белгородской православной духовной семинарии. 2021. No 12. С. 97–101.
187. Горячев Д., свящ. Рецензия на книгу: Anderson J. Paradox in Christian Theology: An Analysis of Its Presence, Character, and Epistemic Status. Milton Keynes: Paternoster, 2007. 328 p. // Вопросы теологии (в печати).
188. Горячев Д., свящ. Священник Павел Флоренский об антиномиях // Вопросы богословия. 2019. No 2. С. 38–58.
189. Горячев Д., свящ. Символизм П. Флоренского и историзм А. Шмемана как антиномия верующего разума и разумной веры // Богословский вестник. 2020. No 2 (37). С. 91–106.
190. Горячев Д., свящ. Софиология священника Павла Флоренского: антиномический аспект // Вестник РХГА. 2022. No 1 (23). С. 165–180.
191. Горячев Д., свящ. Учение священника Павла Флоренского об имени // Язык как отражение духовной культуры народа: материалы Международной научной конференции 18–20 октября 2018 г., Архангельск / Сев. (Аркт.) федер. ун-т им. М. В. Ломоносова; [сост. В. А. Марьянчик]. Архангельск: КИРА, 2018. С. 134–139.
192. Грузберг Л. Антиномия не есть антонимия // Проблемы социо- и психолингвистики. Пермь, 2002. Вып. 1. С. 7–10.
193. Губанов С. А. Культурфилософские основания антиномий П. А. Флоренского и Б. Л. Пастернака: дис. ...кандидата культурологии [Место защиты: Костром. гос. ун-т им. Н. А. Некрасова], 2011.
194. Губанов С. А. Культ как онтологическая модель антиномий в размышлениях о. П. А. Флоренского // Вестник КГУ им. Н. А. Некрасова. 2009. No 3. С. 214–221.
195. Губанов С. А. Онтологическое понимание смысловых пределов семантических коннотаций антиномий символа о. П. А. Флоренского // Вестник КГУ им. Н. А. Некрасова. 2010. No 4. С. 72–75.
196. Гулыга А. В. Русская идея и её творцы. М.: Эксмо, 2003. –448 c.
197. Давыденков О., прот. Догматическое богословие: Учебное пособие. М.: Изд-во ПСТГУ, 2014. 623 с.
198. Давыдов О. Б. Откровение Любви. Тринитарная истина бытия М.: Издательство ББИ, 2020. 658 c.
199. Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 3. М.: Русский язык, 1980. 555 с.
200. Даренский В. Ю. Антиномическая диалектика П. А. Флоренского как «логика веры» // Вестник Русской христианской гуманитарной академии. 2018. Том 19. Вып. 2. С. 239–250.
201. Доброцветов П. К. Евлогий I // Православная энциклопедия. Т. 17. М.: ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2008. С. 170–177.
202. Евдокимов П. Н. Православие / Пер. с фр. С. Гриб. М.: Изд-во ББИ, 2002. – 500 c.
203. Егоров Д. Ф. Письма Д. Ф. Егорова к Н. Н. Лузину // Историко-математические исследования. Вып. 25. М.: Наука, 1980. С. 335–361.
204. Егорова С. Б. Антиномизм и диалектика в учении П. А. Флоренского: дис. ... кандидата философских наук: 09.00.03 [Место защиты: Сарат. гос. ун-т им. Н. Г. Чернышевского] 2009. 156 c.
205.Егорова С. Б. Антиномизм П. Флоренского и современные интерпретации антиномизма // Вестник ПАГС. 2009. No 18. С. 197–202.
206. Егорова С. Б. Павел Флоренский об антиномиях языка // Вестник Саратовского государственного технического университета. No4 (16). Вып.1. Саратов, 2006. С. 254–260.
207. Ермишин О. Т. Проблема платонизма в работах священника Павла Флоренского 1910-х гг. // «Философствовать в религии»: материалы конференции, посвященной столетию выхода книги «Столп и утверждение Истины» о. Павла Флоренского / [Сост. К. М. Антонов, Н. А. Ваганова]. М., 2017. С. 43–52.
208. Зарин С. М. Аскетизм по православно-христианскому учению. Этико- богословское исследование. М.: Паломник, 1996. 694 с.
209. Зеньковский В., прот. История русской философии. М.: Академический проект, Раритет. 2001. 880 с.
210. Ианнуарий (Ивлиев), архим. Жемчужины Нагорной проповеди. М.: Никея, 2020. 352 с.
211.Иванов М. С. Вера // Православная энциклопедия. М.: ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2004. С. 674–683.
212. Иванов М. С. Свобода (историко-богословский обзор) // Материалы кафедры богословия: 2014–2015. Сергиев Посад, 2016. С. 9–21.
213. Иванов М. С. Человек в религиозной философии Блеза Паскаля // Богословский вестник. 2019. Т. 35. No 4. С. 72–86.
214. Ивин А. А. Логика: Учебник для гуманитарных вузов. М.: ФАИР-ПРЕСС, 2000. 320 с.
215. Иларион (Алфеев), митр. Священная тайна церкви. Введение в историю и проблематику имяславских споров. Изд. 2-е, испр. и доп. СПб: Изд. Олега Абышко, 2007. 912 с.
216. Иосиф Исихаст, монах. Выражение монашеского опыта. СТСЛ, 2006. 463 c.
217. Иосиф Ватопедский, монах. От смери к жизни // Сайт «Азбука веры» // URL: azbyka.ru/otechnik/Iosif_Vatopedskij/ot-smerti-k-zhizni (дата обращения: 20.08.2021)
218. Ирвин Ялом. Экзистенциальная психотерапия / Перевод Т. С. Драбкиной. М.: «Класс», 1999. 576 c.
219. История философии: Запад–Россия–Восток. (Кн. 4: Философия ХХ в.) / Под ред. Мотрошиловой Н. В., Руткевича А. М. М.: Греко-латинский кабинет Ю. А. Шичалина, 2000. 448 с.
220. Казарян А. Т. Антиномия // Православная энциклопедия. М.: ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2001. Т. 2. С. 494–498.
221. Казарян А. Т. и др. Булгаков // Православная энциклопедия. Т. 6. М.: ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2003. С. 340–357.
222. Каллист (Уэр), митр. Сила имени. Молитва Иисусова в православной духовности / Пер. с англ. Тула: Изд-во Образ, 2004. 96 с.
223. Каллист (Уэр), митр. Паламитские споры / Пер. с англ. К. Б. Михайлов // Альфа и Омега. 2002. No 4 (34). С. 190–212.
224. Кара-Мурза А. А. «Четвёртое свидание»: Владимир Соловьёв и Надежда Ауэр на берегах Неаполитанского залива (весна 1876 г.) // Философские эманации любви / Сост. и отв. ред. Ю. В. Синеокая. М.: Издательский дом ЯСК, 2019. С. 239–266.
225. Карсавин Л. П. Святые отцы и учители Церкви (раскрытие Православия в их творениях) / Предисл. и коммент. С. В. Мосоловой. М.: Изд-во МГУ, 1994. 176 с.
226. Карташев А. В. Воссоздание Святой Руси. Мн.: Изд-во Белорусского экзархата, 2011. 592 с.
227. Карташев А. В. Вселенские Соборы. Клин: Христианская жизнь, 2002. 679 с.
228. Карташев А. В. Очерки по истории Русской Церкви. Т. 1. СПб.: Изд-во Олега Абышко, 2004. 718 с.
229. Карташев А. В. Очерки по истории Русской Церкви. Т. 2. СПб.: Изд-во Олега Абышко, 2004. 589 с.
230. Карташев А. В. Церковь. История. Россия. Статьи и выступления. М.: Пробел, 1996. 302 c.
231. Кассиан (Безобразов), еп. Водою, и Кровию, и Духом. М., 2004. 251 c.
232. Катасонов В. Н. О границах науки: научное издание. М.: ОЦАД, Изд. Дом «Познание», 2017. 296 c.
233. Катасонов В. Н. По следам «Философии культа» священника Павла Флоренского // URL: http://katasonov-vn.narod.ru/statji/razdel1/1– 5_v.n.katasonov_po_sledam_filosofii_kulta_svjash.htm (дата обращения: 01.09.2021)
234. Катасонов В. Н. Трансгуманизм: новая эволюционная утопия // URL:http://katasonov-vn.narod.ru/statji/razdel2/2– _v.n.katasonov_transgumanizm_novaja_ehvoljucio.htm (дата обращения: 01.09.2021)
235. Киприан (Керн), архим. Антропология св. Григория Паламы. М: Паломник, 1996. 450c.
236. Киприан (Керн), архим. Евхаристия. М.: Храм свв. Космы и Дамиана, 2006. 334 с.
237. Клеман О.-М. Истоки. Богословие отцов Древней Церкви. Тексты и комментарии / Пер. с фр. Г. В. Вдовина. М.: Изд. предприятие «Путь», 1994. 383 с.
238. Кожаева С. Б. Антиномия «сакрального-обыденного» и ее воплощение в западной и русской музыкальной традиции: дис. ...кандидата искусствоведения [Нижегор. гос. консерватория], 2004.
239. Козырев А. П. Соловьев и гностики. М.: Изд. Савин С. А., 2007. 544 с.
240. Колесников С. А. Современная теология: быть или не быть... (аспекты богословской миссии в диалектической парадоксологии Карла Барта) // Труды Белгородской православной духовной семинарии. 2020. No 10. С. 24–33.
241. Коптева Н. В. Особенности онтологической уверенности и отчуждения, соответствующие неврозу и норме // Известия Уральского федерального университета. Сер.1, Проблема образования, науки и культуры. 2017. Т. 23, № 2 (162). С. 69–80.
242. Кузенков П. В. Логос – мир – человек. Космология святого Максима Исповедника. М.: Издательство Сретенского монастыря, 2020. 152 c.
243. Ларше Ж.-К. Исцеление духовных болезней. Введение в аскетическую традицию Православной Церкви / Отв. ред. иг. Дионисий (Шленов). СП., 2018. 763 с.
244. Ларше Ж.-К. Лицо и природа. Православная критика персоналистских теорий Христоса Яннараса и Иоанна Зизиуласа / Пер. c фр. Науч. ред. П. К. Доброцветов. М.: Паломник, 2021. 288 с.
245. Ларше Ж.-К. «Последуя святым отцам...»: Жизнь и труды протоиерея Георгия Флоровского / Науч. ред. П. К. Доброцветов. М.: Паломник, 2022. 188 с. 246.Ларше Ж.-К. Что такое богословие? Методология православного богословия в его практике и преподавании / Науч. ред. П. К. Доброцветова. М.: Паломник, 2021. 175 с.
247.Лаут Э., прот. Современные православные мыслители: от «Добротолюбия» до нашего времени. Пер. c англ. Науч. ред. П. К. Доброцветов. М.: Паломник, 2020. 621 с.
248. Лега В. П. История западной философии: В 2 ч. Ч. 1. М.: Изд-во ПСТГУ, 2016. 544 с.
249. Лега В. П. История западной философии: В 2 ч. Ч. 2. М.: Изд-во ПСТГУ, 2016. 528 с.
250. Лескин Д., свящ. Спор об имени Божием: философия имени в России в контексте афонских событий 1910-х гг. СПб.: Алетейя, 2004. 367 с.
251. Линдер Р. Д. Антиномианизм / Теологический энциклопедический словарь / Под ред. У. Элвелла. М.: Ассоциация «Духовное возрождение», 2003. 1488 c.
252. Лосев А. Ф. Владимир Соловьев и его время. М.: Молодая гвардия, 2000. 613 c.
253. Лосев А. Ф., Тахо-Годи А. А. Платон: миф и реальность. М.: Молодая гвардия, 2014. 312 c.
254. Лосев А. Ф. Избранные труды по имяславию и корпусу сочинений Дионисия Ареопагита. С приложением перевода «О Божественных именах». СПб.: Издательство Олега Абышко, 2009. 224 c.
255. Лосев А. Ф. Критика платонизма у Аристотеля. Перевод и комментарий XIII-й и XIV-й книги «Метафизики» Аристотеля. М.: Академический проект, 2011. 251 c.
256. Лосев А. Ф. Философия имени. М.: Академический проект, 2009. 300 c.
257. Лосский В. Н. Боговидение / В. Н. Лосский; Пер. с фр. В. А. Рещиковой; Сост. и вступ. ст. А. С. Филоненко. М.: ООО «Издательство АСТ», 2003. 759 с.
258. Лосский Н. О. История русской философии. М., 1991. 480 с.
259. Лэнг Р. Д. Расколотое «Я». М.: Изд. Центр «Академия»; СПб.: Белый кролик, 1995. 352 с.
260. Любак, Анри де. Католичество. Социальные аспекты догмата. Милан, 1992. 397 c.
261. Любак, Анри де. Парадокс и тайна Церкви. Милан: Христианская Россия, б.г. 144 c.
262. Максимов В. В. Фактор социального антиномизма и базирующаяся на нем методология познания и действия. М.: РОЙ, 2005. 151 с.
263. Малков П. Ю., Иванов М. С., Васечко В. Н., Квливидзе Н. В. Богородица // Православная энциклопедия. Т. 5. М.: ЦНЦ Православная энциклопедия, 2002. С. 486–504.
264. Мейендорф И., прот. Византийское наследие в Православной Церкви / Пер. с англ. под. общ. ред. Ю. А. Вестеля. К.: Центр православной книги, 2007. 352 c.
265. Мейендорф И., прот. Жизнь и труды святителя Григория Паламы. Введение в изучение / Пер. Г. Н. Наченкина. СПб.: Византинороссика, 1997. 479 c. 266.Мейендорф И., прот. Рим – Константинополь – Москва. Исторические и богословские исследования / Пер. Л. А. Успенской. М.: Изд-во ПСТГУ, 2006. 320 c. 267. Мейендорф И., прот. Пасхальная тайна. Статьи по богословию / Пер. с англ., фр. М.: Эксмо, ПСТГУ, 2013. 832 c.
268. Мефодий (Зинковский), иером. Православное богословие личности: истоки современность, перспективы развития: дисс. ...доктора богословия. М.; СПб., 2014. 721 c.
269. Миловатский В. С. На зов Божий. Земное и небесное в жизни священника Павла Флоренского / В. С. Миловатский. СПб.: Общество памяти игумении Таисии, 2015. 260 с.
270. Моисеев В. И. Логика всеединства. М.: Per Se, 2002. 414 с.
271. На пути к синтетическому единству европейской культуры. Философско- богословское наследие П. А. Флоренского и современность / Под ред. В. Н. Порусa. М.: ББИ, 2006. 279c.
272. Никанор (Кудрявцев), архим. Рецензия на кн. «Столп и утверждение Истины» С. 316–354.
273. Новиков В. В. и др. Кирилл // Православная энциклопедия. Т. 34. М.: ЦНЦ Православная энциклопедия, 2014. С. 273–279.
274. Оболевич Т. Франку невозможно не «доверять»... Семен Франк и Георгий Флоровский // Вестник ПСТГУ. Серия I. 2021. Вып. 98. С. 95–113.
275. Гуманитарная энциклопедия: Концепты [Электронный ресурс] // Центр гуманитарных технологий, 2002–2020// URL: gtmarket.ru/concepts/7159 (дата обращения: 20.09.2021)
276. Осипов А. И. Путь разума в поисках истины. Основное богословие. – Изд. 7-е., доп. М.: Даниловский благовестник, 2008. 429 c.
277. Остапенко А. А. Христианский антиномизм как возможная методология психолого-педагогической науки // Вестник ПСТГУ / IV: Педагогика. Психология. 2009. Вып. 3 (14). С. 110–122.
278. Павел Александрович Флоренский / под ред. А. Н. Паршина, О. М. Седых. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2013. 583 с.
279. Павлюченков Н. Н. Архимандрит Серапион (Машкин) и его «Система философии». М.: Издательство ПСТГУ, 2016. 232 с.
280. Павлюченков Н. Н. Идея Софии в трудах священника Павла Флоренского // Вестник ПСТГУ: Богословие. Философия. 2015. Вып. 4 (60). С. 24–38.
281. Павлюченков Н. Н. Философско-религиозная антропология священника Павла Флоренского: диссертация на соискание учёной степени кандидата философских наук: 09.00.14 / Павлюченков Николай Николаевич; [Место защиты: Православный Свято-Тихоновский гуманитар. ун-т]. Москва, 2012. 111 с.
282. Павлюченков Н. Н. Религиозно-философское наследие священника Павла Флоренского. Антропологический аспект. М.: Издательство ПСТГУ, 2013. 288 с.
283. Пеликан Я. Христианская традиция: история развития вероучения в 2-х тт. Т. 1. М.: Культурный центр «Духовная библиотека», 2007. 376 с.
284. Пентковский А. М. Архимандрит Серапион Машкин и студент Павел Флоренский (Новые материалы) // Символ. 1990, No 24. С. 205–228.
285. Преображенский П., прот. Памятники древней христианской письменности. Т. 2. Писания мужей Апостольских. М.: Типография Каткова, 1860. 450 с.
286. Платон (Игумнов), архим. Нравственное богословие. СПб: Общество памяти игумении Таисии, 2008. 524 c.
287.Половинкин С. М. Христианский персонализм священника Павла Флоренского. М.: РГГУ, 2015. 362 с.
288. Половинкин С. М. П. А. Флоренский. Логос против хаоса. М.: Знание, 1989. 64 с.
289. Попова В. В. Нравственные антиномии семьи и брака / Ученые записки. Электронный научный журнал Курского государственного университета. 2012. № 1 (21). С. 292–299.
290. Порус В. Н. Антиномия / Новая философская энциклопедия в 4-х тт. / Предс. науч.-ред. совета В. С. Степин. Т. 1. М.: Мысль, 2010. С. 117–119.
291. Порус В. Н. Павел Флоренский: опыт антиномической философии культуры. Ч. 1 // Философские науки. 2005. No 12. С. 17–24.
292. Порус В. Н. Павел Флоренский: символическая сущность антиномизма (окончание) // Философские науки. 2006. No 1. С. 43–58.
293. Поснов М. Э. История Христианской Церкви. Брюссель, 1994. 614 с.
294. Потебня А. А. Слово и миф. М.: Правда, 1989. 624 с.
295. Противоположности и парадоксы (Методологический анализ) / Отв. ред. А. И. Герасимова. М.: «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2008. 432с.
296. Резвых Т. Н. Кантианские мотивы в обосновании идеи спасения в книге «Столп и утверждение Истины» / «Философствовать в религии»: материалы конференции, посвященной столетию выхода книги «Столп и утверждение Истины» о. Павла Флоренского / [Сост. К. М. Антонов, Н. А. Ваганова]. М., 2017. С. 51–63.
297. Резвых Т. Н. Флоренский – Розанов – Франк – Трубецкой: идея антиномии // Вестник Костромского государственного университета. Серия «Гуманитарные науки»: Энтелехия. 2009. No 19. С. 13–18.
298. Резниченко А. И. О смыслах имён: Булгаков, Лосев, Флоренский, Франк et dii minores. М.: Издательский дом РЕГНУМ, 2012. 416 с.
299. Розанов В. В. Собрание сочинений. Т. 29. Литературные изгнанники. Книга 2. М.: Республика; СПб.: Росток, 2010. 957 c.
300. Свиридов Иоанн, свящ. Гносеология священника Павла Флоренского // Богословские труды. Юбилейный сборник. МДА. 300 лет. М., 1986.С. 264–292.
301. Седых О. М. Миг и вечность как антиномия: П. А. Флоренский и культура Серебряного века // Czas w kulturze rosyjskiej. Время в русской культуре / Red. Andrzej Dudek. Antropologia Кultury Rosyjskiej. Wydawnictwo Księgarnia Akademicka Kraków, 2019. С. 157–170.
302. Сидоров А. И. Святоотеческое наследие и церковные древности. Т. 1. М.: Сибирская Благозвонница, 2011. 432 с.
303. Сидоров А. И. Святоотеческое наследие и церковные древности. Т. 2. М.: Сибирская Благозвонница, 2011. 527 с.
304. Сидоров А. И. Святоотеческое наследие и церковные древности. Т. 3. М.: Сибирская Благозвонница, 2013. 750 с.
305. Сидоров А. И. Святоотеческое наследие и церковные древности. Т. 4. М.: Сибирская Благозвонница, 2014. 592 с.
306. Сидоров А. И. Святоотеческое наследие и церковные древности. Т. 5. М.: Сибирская Благозвонница, 2017. 768 с.
307. Сидоров А. И. Святоотеческое наследие и церковные древности. Т. 6. М.: Сибирская Благозвонница, 2022. 505 с.
308. Сидоренко Е. А. Идеи немонотонной и паранепротиворечивой логики у П. Флоренского. // Логические исследования / Logical Investigations. 1997. Т. 4. С. 290–303
300. Сидоренко Е. А. Логика. Парадоксы. Возможные миры. (Размышления о мышлении в девяти очерках). М.: Эдиториал УРСС, 2002. 312 c.
310. Симон Г. А. Художественная репрезентация антиномии «добро/зло» в творчестве Н. Садур: дис. ...кандидата филологических наук [Место защиты: Бурят. гос. ун-т], 2014.
311. Соловьев В. С. Сочинения в 2 т. 2-е изд. Т. 2 / Общ. ред. и сост. А. В. Гулыги, А. Ф. Лосева; Примеч. С. Л. Кравца и др. М.: Мысль, 1990. 822 с.
312. Соловьев В. С. Россия и Вселенская Церковь. Мн.: Харвест, 1999. 1586 с. 313. Софиология / Под общ. ред.: В. Н. Порус. М.: Изд-во ББИ, 2010. 269 c. 314. Софиология и неопатристический синтез: богословские итоги философского развития: Сборник научных статей / сост.: К. М. Антонов, Н. А. Ваганова. М.: Изд-во ПСТГУ, 2013. 294 с.
315. Софроний (Сахаров), архим. Видеть Бога как Он есть. Изд. 3-е, испр. СТСЛ; Свято-Иоанно-Предтеченский монастырь, 2016. 400 с.
316.Софроний (Сахаров), архим. Рождение в Царство Непоколебимое. М: Паломник, 1999. 224с.
317.Софроний (Сахаров), архим. Переписка с протоиереем Георгием Флоровским. Сергиев Посад: Свято-Иоанно-Предтеченский монастырь, 2008. 166 с.
318. Софроний (Сахаров), архим. Преподобный Силуан Афонский. Житие, учение и писания. Мн.: Лучи Софии, 2003. 528 с.
319. Стеллецкий Н., прот. Опыт нравственного православного богословия в апологетическом освещении. Т. 1. М.: ФИВ, 2009. 416 с.
320. Тахо-Годи Е. А. А. Ф. Лосев о Николае Кузанском и средневековой диалектике // Вопросы философии. 2016. No 9. С. 98–104.
321. Толковая Библия, или комментарии на все книги Св. Писания Ветхого и Нового Завета под редакцией А. П. Лопухина. Новый Завет. Том II. М.: ДАРЪ, 2006. 1295 с.
322. Трубачёв Сергий, диакон. Избранное: статьи и исследования / Сост. иг. Андроника (Трубачёва), М. С. Трубачёвой, О. С. Никитиной. Биографический очерк игум. Андроника (Трубачёва). 2-е изд., испр. М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2018. 720 с.
323. Трубецкой Е. Н., Флоренский П. А. Переписка князя Евгения Николаевича Трубецкого и священника Павла Флоренского: [Публ. писем философов от 1914–1918 гг. придисл. и ст. Е. Н. Трубецкого «Свет Фаворский и преображение ума»] // Вопр. философии. 1989. No12. С. 99–129.
324. Трубецкой Е. Н. Свет Фаворский и преображение ума // П. А. Флоренский: pro et contra. СПб., 2001. С. 285–315.
325. Трубецкой Е. Н. Смысл жизни. М.: Издательство АСТ, 2003. 296 с.
326. Трубецкой С. Н. Сочинения. М.: Мысль, 1994. 815 c.
327. Усвяцов Л. Антиномия / Философская энциклопедия / Гл. ред. Ф. В. Константинов. М.: Гос. науч. изд-во «Советская энциклопедия», 1960. С. 73.
328. Фаст Г., прот. Толкование на книгу Экклезиаст. Красноярск: Енисейский благовест, 2009. 343 c.
329. Феодор (Поздеевский), еп. <Рецензия на книгу> «О духовной Истине. Опыт православной теодицеи» («Столп и утверждение Истины») // П. А. Флоренский: рro et сontra / Сост. К. Г. Исупова. СПб., 2001. С. 211–245.
330. Филатова М. И. Идея истины как антиномии в русской религиозной философии конца XIX – начала XX вв.: дис. ...кандидата философских наук. [Место защиты: Курский гос. ун-т], 2012.
331. «Философствовать в религии»: материалы конференции, посвященной столетию выхода книги «Столп и утверждение Истины» о. Павла Флоренского / [Сост. К. М. Антонов, Н. А. Ваганова]. М.: Изд-во ПСТГУ, 2017. 184 с.
332. Флоренский Павел Александрович. Диалог со временем. Свет Фаворский. Поэтика судьбы / [сост., авт. вступ. ст., крат. летописи жизни, коммент. и библиогр.] подгот. П. В. Флоренский. Москва: Русскiй Мiръ, 2015. 528 с.
333. Флоренский П. А.: pro et сontra: Личность и творчество П. Флоренского в оценке русских мыслителей и исследователей: [антология] / Сост., вступ. ст., прим. и библиогр. К. Г. Исупов. – изд. 2-е, доп. СПб.: Издательство Русского Христианского Гуманитарного Института, 2001. 823 c.
334. Флоренский П. В. Обретая путь. Павел Флоренский в университетские годы. В 2 т. Т. 1 / Авт.-сост. П. В. Флоренский; Статьи П. В. Флоренский, А. И. Олексенко, В. А. Шапошников, Т. А. Шутова; Подготовка текстов, комментарии и подбор иллюстраций П. В. Флоренский, Л. В. Милосердова, А.И. Олексенко, А.А. Санчес, В. П. Флоренский, В. А. Шапошников, Т. А. Шутова. М.: Прогресс- Традиция, 2011. 584 с.
335. Флоренский П. В. Обретая путь. Павел Флоренский в университетские годы. В 2 т. Т. 2 / Авт.-сост. П. В. Флоренский; Статьи А. И. Олексенко, П. В. Флоренский, В. А. Шапошников, Т. А. Шутова; Подготовка текстов, комментарии и подбор иллюстраций Л. В. Милосердова, А. И. Олексенко, А. А. Санчес, В. П. Флоренский, П. В. Флоренский, С. В. Чертков, В. А. Шапошников, Т. А. Шутова. М.: Прогресс-Традиция, 2015. 736 с.
336. Флоровский Г., прот. Пути русского богословия. Минск: Белорусская Православная Церковь, 2006. 608 с.
337. Флоровский Г., прот. Религиозные темы Достоевского // О Достоевском. Творчество Достоевского в русской мысли 1881–1931 гг. / Сборник статей. М., 1990. С. 386–390.
338. Флоровский Г., прот. Томление духа // Путь. 1930. No 20. С. 102–107.
339. Флоровский Г. Человеческая мудрость и Премудрость Божия // «Младорус». София, 1922. No 1. С. 50–62.
340. Фудель С. И. Об отце Павле Флоренском (1882–1943). 2-е изд. Paris: YMCA-PRESS, 1988. 135 с.
341. Фуфаев С. Н., свящ. Учение В. Н. Лосского о различении сущности и энергии в Боге: антиномия или грубое противоречие // Богословский вестник. 2020. No 2 (37). С. 57–90.
342. Хагемейстер М. «Новое средневековье» Павла Флоренского (Пер. Н. Бонецкой) // Звезда 2006 No 11 // URL: magazines.gorky.media/zvezda/2006/11/novoe-srednevekove-pavla-florenskogo.html (дата обращения: 10.09.2021)
343. Хватова М. Б. Антиномии веры и нравственности в отечественной философской культуре: дис. ... канд. филос. наук [Ивановский гос. ун-т], 2021.
344. Хондзинский П. В., прот. Разрешение проблем русского богословия XVIII века в синтезе святителя Филарета, митрополита Московского: автореферат дисс. ... кандидата философских наук. М., 2017. 24 с.
345. Хоружий С. С. Миросозерцание Флоренского. Томск: Водолей, 1999. 159 с.
346. Хоружий С. С. Опыты из русской духовной традиции. М.: Институт св. Фомы, 2018. 648 с.
347. Цыпин В., прот. Каноническое право. 2-е изд. М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2012. 863 с.
348. Цыпин В., прот. Присоединение инославных. К вопросу о границах Церкви // Православная беседа. 1995. No 5–6.
349. Швырев В. С. Метод / Новая философская энциклопедия в 4-х тт. / Предс. науч.-ред. совета В. С. Степин. Т. 2. М.: Мысль, 2010. С. 551–552.
350. Шестов Л. И. Сочинения в 2-х тт. Т. 2. Томск: Водолей, 1996. 448 c.
351. Шкурская Е. А. Лингвистическое сопоставление нонсенса и абсурда // Известия ВГПУ. 2011. No 7 (61). С. 15–18.
352. Шмеман А., прот. Дневники. 1973–1983 / Сост., подгот. текста У. С.
Шмеман, Н. А. Струве, Е. Ю. Дорман; Предисл. С. А. Шмемана; Примеч. Е. Ю. Дорман. – 3-е изд. М.: Русский путь, 2009. 720 с.
353. Шпидлик, о. Томаш. Русская идея: иное вѝдение человека / Пер. С франц. В. К. Зелинского и Н. Н. Костомаровой. М.: ДАРЪ; СПб.: Издательство Олега Абышко, 2014. 464 c.
354. Янцен В. Другая философия: переписка Д. И. Чижевского и Г. В.
Флоровского (1926–1932, 1948–1973) как источник по истории русской мысли // Исследования по истории русской мысли: Ежегодник 2008–2009. М., 2012. С.
355. Сoincidentia oppositorum: от Николая Кузанского к Николаю Бердяеву / Отв. ред. О. Э. Душин. СПб.: Алетейя, 2010. 432 c.
Исследования на иностранных языках
356. Аdler G. Die aufmunternde Frische der Ewigkeit. Pavel Florenskij, Genie und Märtyrer // Internationale katolische Zeitchrift Communio. 1996. No 25. S. 457–471.
357. Anderson J. In Defence of Mystery: A Reply to Dale Tuggy // Religious Studies. 2005. No 2 (41). P. 145–163.
358. Anderson J. Paradox in Christian Theology: An analysis of its presence, character, and epistemic status. Milton Keynes: Paternoster, 2007.
359. Bălan C.-D., Nicușor T. The Antinomy Between the Sin of Intolerance and the Suffering assumed as pain, penance or change // Proceedings of the International Scientific Conference «History and Theology», Faculty of Orthodox Theology, University «Ovidius» Constanţa (Romania), 17–18 November 2020 / Edited by I. Holubeanu. Bucureşti: Editura Universitară, 2021. Р. 348–366.
360. Bethea D. M. Florensky and Dante // Russian Religious Tought / Ed. by J. D. Kornblatt, R.F. Gustafson. Madison WI: University of Wisconsin Press, 1996. P. 112– 131.
361. Foltz B. The Fluttering of Autumn Leaves: Logic, Matematics, and Metaphysics in Florensky’s The Pillar and Ground of the Truth // Studia Humana. 2013. No 2. P. 3–18.
362. Freeman A. M. Theological paradox: a dogmatic account // Dissertation proposal. Deerfield, 2017 // https://www.academia.edu/32861352
363. Gaur A., Lotha G. Antinomy // URL: www.britannica.com/topic/antinomy (дата обращения: 10.09.2021)
364. Graham L. Kantor J.-M. Naming infinity: a true story of religious mysticism and mathematical creativity. Cambridge, London: Harvard University Press, 2009. 239 р.
365. Groth B. Philosoph und Theologe in dunkler Zeit. Grundzüge des religionsphilosophischen Denkens von Pavel Florenskij // downloads.akademie- rs.de/religion-oeffentlichkeit/150803_groth_florenskij.pdf (дата обращения: 10.10.2019)
366. Hagemeister M. Florenskijs Wiederkher // Ostkirchlichе Studien. Würzburg. 1990. No 39. S. 119–145.
367. Haney F. M. Pavel Florenskij und Kant – eine wichtige seite der russischen Kant-Rezeption / Kant-Studien. 2001. No 92. S. 81–103.
368. Heitsch W. Antinomie / Wörterbuch zu den philosophischen Fragen der Naturwissenschaften / Hrsg von H. Hörz, R. Löther, S. Wollgast. Berlin: Dietz Verlag, 1978. S. 51–53.
369. Hermann R. Zum Streit um die Überwindung des Gesetzes: Erörterungen zu Luthers Antinomerthesen. Weimar: H. Böhlaus Nachfolger, 1958.–52 S.
370. Kallistos (Ware), mitrop. God Immanent yet Transcendent: The Divine Energies according to Saint Gregory Palamas // In Whom We Live and Move and Have Our Being: Panentheistic Reflections on God’s Presence in a Scientific World, P. Clayton and A. Peacocke (eds.), Grand Rapids, MI: William B. Eerdmans, 2004. S 157–168.
371. Kotatko P. Antinomie / Europäische Enzyklopädie zu Philosophie und Wissenschaften / Hrsg. von Hans Jörg Sandkühler. Hamburg: Felix Meiner Verlag, 1990. S. 147–149.
372. Kuße H. Metadiskursive Argumentation. Linguistische Untersuchungen zum russischen philosophischen Diskurs von Lomonosov bis Losev. München: Verlag Otto Sagner, 2004. 592 S.
373. Kuße H. Кant, die Sprache und ihre Kritik bei Hamann, Florenskij und ander Holisten / Wer braucht Kant heute? // Beiträge der interdisziplinären Tagung vom 14. und 15. Oktober 2006 in Dresden. Hrsg. von E. Graf, S. Hösel, S. Klinger, L. Leidl. Dresden: TUDpress, 2007. S. 149–171.
374. Kuße H., Dukova U. Etymologie und Magie: Zur Sprachtheorie Pavel Florenskijs // Slavische Sprachwissenschaft und Interdisziplinarität / Hrsg. von G. Freidhof, H. Kuße, F. Schindler. München: Otto Sagner, 1995. S. 77–105.
375. Krečič P. Development and Reality of Antinomy in Russian Religious Thought // Bogoslovni vestnik. 2012 No 4 (72). S. 653–664.
376. Moore H. J. Antinomism in Twentieth‐Century Russian Philosophy: The Case of Pavel Florensky // Studies in East European Thought. 2021. No 73. S. 53–76.
377. Mueller G. The Hegel Legend of “Thesis-Antithesis-Synthesis” // Journal of the History of Ideas. 1958. No 3. Vol. 19. Р. 411–414.
378. Noble T. A. Paradox in Gregory Nazianzen’s Doctrine of the Trinity // Studia Patristica. 1993. No 27. Р. 94–99.
379. Olmedo-García С., Estrada-González L. On the Plenitude of Truth. A Defense of Trivialism // Disputatio. 2013. No 5 (35). Р. 93–98.
380. Орро А. Does a «russian philosophy» exist? The boundaries and nature of a question // Соловьевские исследования. 2021. No 2(70). С. 47–67.
381.Oppo A. Platone e Kant nell'epistemologia di Florenskij //Il pensiero polifonico di Pavel Florenskij. Una risposta alle sfide del presente, S. Tagliagambe, M. Spano, A. Oppo (eds.), Cagliari: PFTS University Press, 2018. Р. 383–413.
382. Pavel Florenskij. Tradition und moderne. Hrsg: N. Franz, M. Hagemeister, F. Hanney. Peter Lang Verlag. 2001. 459 S.
383. Priest G. Dialethеism / Stanford Encyclopedia of Philosophy (2018) // URL: https://plato.stanford.edu/entries/dialetheism
384. Pyman А. Pavel Florensky: A Quiet Genius. The Tragic and Extraordinary Life of Russiás Unknown Da Vinci. New York and London: Continuum, 2010. 304 p. 385.Rhodes K. The One Who Is: The Doctrine and Existence of God. Bloomington: WestBow Press, 2015. 213 p.
386. Rhodes M. C. Note on Florensky’s solution to Carroll’s Barbershop paradox: reverse implication for Russell? // Philosophia. 2012. No 40. Р. 607–616.
387. Rojek Р. Pavel Florensky’s Theory of Religious Antinomies // Logica Universalis. 2019. No 13. Р. 515–540.
388. Stotz-Ingenlath G. Epistemological aspects of Eugen Bleuler's conception of schizophrenia in 1911 // Medicine, Health Care and Philosophy: journal. 2000. Vol. 3. No 2. P. 153–159.
389. Törönen M. Union and Distinction in the Thought of St Maximus the Confessor. Oxford: Oxford University Press, 2007. 222 р.
390. Tuggy D. Tradition and Believability: Edward Wierenga’s Social Trinitarianism // Philosophia Christi. 2003. No 2 (5). Р. 447–456.
391. Лубардиђ Б. Павле Флоренски и патролошки радови Јустина Поповића: историјат једне рецепције – прилог разумевању почетака “неопатристичке синтезе” у српској теологији // Српска теологија у двадесетом веку – истраживачки проблеми и резултати / Б. Шијаковић (уред.). Београд, 2010. Т. 9. С. 66–165. [Павел Флоренский и патрологические работы Иустина Поповича: история одной рецепции – вклад в понимание сербской теологией основ “неопатристического синтеза”].
392. Лубардић Б. Јустин Поповић, Павле Флоренски и Кант: рецепција и сукоб – проблем хетерогених традиција мисли / Историја српске филoзофије. Београд, 2011. С. 227–299. [Иустин Попович, Павел Флоренский и Кант: рецепция и конфликт – проблема разнородных традиций мысли].
Список сокращений
Hrsg. – Herausgeber, редактор
PG – Patrologia Graeca
PL – Patrologia Latina
ББИ – Библейско-богословский институт святого апостола Андрея
БПДС – Белгородская православная духовная семинария (с миссионерской направленностью)
ВБ – Вопросы богословия
ВФ – Вопросы философии
ИС РПЦ – Издательский Совет Русской Православной Церкви
МДА – Московская духовная академия
ОЦАД – Общецерковная аспирантура и докторантура имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия
ПАГС – Поволжская академия государственной службы
ПСТГУ – Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет
ПЭ – Православная энциклопедия
РХГА – Русская христианская гуманитарная академия
СП – Сергиев Посад
СПбДА – Санкт-Петербургская духовная академия
СТСЛ – Свято-Троицкая Сергиева Лавра
«Столп» – «Столп и утверждение Истины. Опыт православной теодицеи в двенадцати письмах священника Павла Флоренского»
Фонд – Фонд науки и православной культуры священника Павла Флоренского ХЧ – Христианское чтение
ЦНЦ – Церковно-научный центр
архиеп. – архиерпископ
иером. – иеромонах
митр. – митрополит
мч. – мученик
преп. – преподобный
свт. – святитель
свщмч. – священномученик

Рисунок 2. Священник Даниил Горячев
Священник Даниил Горячев родился в 1983 г. в Архангельске. Рукоположен в сан священника в 2010 г. Окончил юридический факультет Архангельского государственного технического университета, Московскую православную духовную семинарию, магистратуру и аспирантуру Московской духовной академии. Принимал участие в реставрации Голгофо-Распятского скита на о. Анзер (Соловецкий архипелаг). С 2021 г. является преподавателем Белгородской православной духовной семинарии.
* * *
Примечания
Иустин (Попович), преп. Собрание творений в 4‐х тт. / Пер. с серб. С. Фонов, общ. ред. А. И. Сидоров. М., 2004, 2006, 2007.
Флоровский Г., прот. Письмо от 15.05.1958 г. // Софроний (Сахаров), архим. Переписка с протоиереем Георгием Флоровским. СП, 2008. С. 79.
См.: Иларион (Троицкий), свщмч. Творения в 3 т. Т. 3. М., 2004. С. 453.
«В христианстве, как и вообще в жизни, всё антиномично». Сергий (Мечёв), свщмч. О совести // «Друг друга тяготы носите...»: жизнь и пастырский подвиг священномученика Сергия Мечёва: в 2 кн. Кн. 2. М, 2017. С. 269.
«Живое, действительное разрешение природных человеческих антиномий в благодатном богочеловеческом синтезе являлось непреложным свидетельством ...подлинного обожения». Михаил (Новосёлов), мч.
См.: Флоренский П. А. Космологические антиномии И. Канта // Флоренский П., свящ. Соч. в 4‐х тт. Т. 2. М., 1996. C. 28.
Казарян А. Т. Примечания // Флоренский П., свящ. Соч. в 4-х тт. Т. 2. М., 1996. С. 734.
Флоренский П., свящ. Пределы гносеологии (Основная антиномия теории познания) // Флоренский П., свящ. Соч. в 4-х тт. Т. 2. М., 1996. С. 36.
См.: Голлербах Е. Религиозно-философское издательство «Путь» (1910–1919) // ВФ. 1994. No 4. С. 134–135.
Магистерская диссертация имела две редакции: 1) Свящ. Павел Флоренский. О духовной Истине. Опыт православной феодицеи. Вып. 1. М., 1913 (на тит.: 1912). 534 с. Тираж 100 экз. Книга вышла в январе и июне 1913 г. 2) Свящ. Павел Флоренский. О духовной истине. Опыт православной феодицеи. Столп и утверждение Истины. <Вып. 1> М., 1913 (на тит.: 1912). 251 с. Тираж ок. 30 экз. – рукодельный 28 марта 1914 г. См.: Андроник (Трубачёв), иг. История создания книги «Столп и утверждение Истины» // Флоренский П., свящ. Столп... М., 2017. С. 892.
Феодор (Поздеевский), еп. Рецензия на книгу «О духовной Истине» // П. А. Флоренский: рro et сontra. СПб., 2001. С. 211.
См.: Андроник (Трубачёв), иг. Путь к Богу. Кн. 3. Фонд, 2015. С. 10.
См.: Никанор (Кудрявцев), архим. Рецензия на кн. «Столп и утверждение Истины» // П. А. Флоренский: рro et сontra. СПб., 2001. С. 316.
См.: Флоровский Г., прот. Пути русского богословия. Мн., 2006. С. 573.
Флоренский П., свящ. Разум и диалектика // Флоренский П., свящ. Соч. в 4-х тт. Т. 2. М., 1996. С. 133.
Там же. С. 136.
Там же. С. 142.
Флоренский П., свящ. Столп... М., 2017. С. 11.
См.: Андроник (Трубачёв), иг. Путь к Богу. Кн. 3. Фонд, 2015. С. 48.
Там же. С. 488.
Флоренский П., свящ. У водоразделов мысли (Черты конкретной метафизики). Т. 1. М., 2017. С. 154.
См.: там же. С. 156.
См.: Флоренский П., свящ. Столп... М., 2017. С. 168; Половинкин С. М. Христианский персонализм священника Павла Флоренского. М., 2015. С. 46.
Флоренский П. А. «Эсхатологическая мозаика» (1904 г.) // Контекст. 1991. С. 68–92; Флоренский П. А. «В вечной лазури». Сборник стихов (1907 г.) // Символ. 1989. No 21. С. 247–274; Флоренский П., свящ. Оро. Лирическая поэма (1936 г.) // Флоренский П., свящ. Все думы – о вас. Письма семье из лагерей и тюрем 1933–1937 гг. СПб., 2004. C. 429–506.
Баюк Д. А., Форд Ч. Е. Данте–Галилей–Флоренский: к апологии замкнутого космоса // Историко- математические исследования. 2005. Выпуск 10 (45). С. 246.
См.: там же. С. 259.
См.: Spano M. Commentary on the Afterword // Florensky P. A. Imaginaries in Geometry // Ed. by Andrea Oppo and Massimiliano Spano. Milan, 2021 // Цит. по: Орро А. Does a «russian philosophy» exist? The boundaries and nature of a question // Соловьевские исследования. 2021. No 2(70). С. 57.
См.: Plutarch. Caesar, 13, 713b // Plutarch’s Live. Cambridge: Harvard University Press, 1967. P. 470.
См.: Quintilian M. F. Institutio Oratoria, III, 6, 46; VII, 7, 1 // URL: https: // penelope.uchicago.edu/thayer/e/roman/texts/quintilian/institutio_oratoria/home.html (дата обращения: 04.04.2022).
См.: Augustinus Hipponensis. De rhetorica, 11 // Rhetores Latini minores / C. Halm. Lipsiae, 1863. S. 137–151.
См.: Codex Iustinianus, 1.17.8, 1.17.13 // Codex Iustinianus / Recognovit et P. Krüger. Berolini, 1877. S. 108–109.
См.: Luther M. Wider die Antinomer. Wittemberg. 1539.
См.: Goclenius R. Lexicon philosophicum, quo tanquam clave philosophiae fores aperiuntur. Francofurti, 1613. P. 110.
См.: Флоренский П. А. Космологические антиномии Иммануила Канта // Флоренский П., свящ. Соч. в 4-х тт. Т. 2. М., 1996. С. 30.
См.: Байбурин А. К. Потебня А. А.: философия языка и мифа // Потебня А. А. Слово и миф. М., 1989. С. 7.
См.: Потебня А. А. Мысль и язык. М., 1989. С. 38. Примечателен тезис А. А. Потебни о Божественном создании языка. См.: там же. С. 17.
См.: Переписка А. В. Ветухова с П. А. Флоренским (1908–1918) // ВФ. 1995. No 11. С. 67–118.
См.: Иустин (Попович), преп. Достоевский о Европе и славянстве. СПб, 1998. С. 44; Иустин (Попович), преп. Философские пропасти. М., 2004. С. 168.
См.: Флоренский П., свящ. Детям моим // Флоренский П., свящ. Из моей жизни. М., 2018. С. 52.
См.: Флоровский Г., прот. Религиозные темы Достоевского // О Достоевском. Творчество Достоевского в русской мысли 1881–1931 гг. / Сборник статей. М., 1990. С. 386.
Бахтин М. М. Проблемы творчества Достоевского // Бахтин М. М. Собр. соч.: В 7 т. Т. 2. М., 2000. С. 7.
См.: Голосовкер Я. Э. Достоевский и Кант. М., 1963. Автор показывает, что Ф. М. Достоевский был знаком с «Критикой чистого разума» И. Канта. См.: там же. С. 97.
См.: Ахутин А. В. София и черт (Кант перед лицом русской религиозной метафизики) // ВФ. 1991. No 1. С. 51–69.
Казарян А. Т. Антиномия // ПЭ. М., 2001. Т. 2. С. 494.
См.: Максим Исповедник, преп. Творения. Кн. 1. М., 1993. С. 230.
Порус В. Н. Антиномия / Новая философская энциклопедия в 4-х тт. Т. 1. М., 2010. С. 117.
См.: Анисов А. М. Логика и парадоксы. Проблема двойственности в науке // Противоположности и парадоксы (Методологический анализ). М., 2008. С. 157.
См.: Серафим (Соболев), свт. Новое учение о Софии Премудрости Божией. СПб., 2011. С. 40, 69, 71, 108, 115, 193, 513. В этой книге (С. 498) упоминается термин «антиномия» в цитате из работы прот. С. Булгакова «Агнец Божий». В трудах свт. Иоанна (Максимовича), архиеп. Шанхайского и Сан-Францисского «Почитание Богородицы и Иоанна Крестителя и новое направление русской религиозно-философской мысли» (1928, 1937 гг.) и «Учение о Софии, Премудрости Божией» (1930 г.) имя П.А. Флоренского не упоминается.
Иустин (Попович), преп. Философские пропасти. М., 2004. С. 214.
Хоружий С. С. Миросозерцание Флоренского. Томск, 1999. С. 82.
Работа Флоренского здесь названа самым значительным фактом в русском религиозном движении последнего времени и отнесена к предельным достижениям русской религиозно-философской мысли. См.: Флоровский Г. Человеческая мудрость и Премудрость Божия // «Младорус». София, 1922. No 1. С. 50–62. Характерно замечание о позднем (1960-е гг.) отношении о. Г. Флоровского к о. П. Флоренскому: «Он открывает и всячески пропагандирует “раннего”, “менее стилизованного” Флоренского». Янцен В. Другая философия: переписка Д. И. Чижевского и Г. В. Флоровского (1926–1932, 1948–1973) как источник по истории русской мысли // Исследования по истории русской мысли: Ежегодник 2008–2009. М., 2012. С. 838.
«Ты, Боже мой, противоположность противоположного, поскольку Ты бесконечен и, бесконечный, есть сама бесконечность; в бесконечности противоположность противоположного существует без противоположения». Николай Кузанский. О вѝдении Бога (пер. В. В. Бибихина) / Николай Кузанский. Соч. в 2-х тт. Т. 2. М., 1980. С. 63.
«Парадокс и антиномия находятся в самом Боге и не могут сводиться к философским понятиям, как неоплатоновская монада или “Божественная простота”». Мейендорф И., прот. Рим – Константинополь – Москва. М., 2006. С. 99. Ср.: Тождественность Бога, имя То же указывает на «про-имеющее в Себе равным образом и противоположности». Дионисий Ареопагит. О божественных именах // Дионисий Ареопагит. Корпус сочинений. СПб., 2017. С. 275. Комментарий преп. Максима: Бог сохраняет «Свою тождественность, ни в различие, ни в противоположность не переходящую, хотя Он и поддерживает противоположность в чувственном» (т. е., согласно преп. Максиму, речь идёт о тварном). Там же.
См.: Василий (Кривошеин), архиеп. Богословские труды. Н. Новгород, 2011. С. 105.
Бальтазар Г. У. Теологика. Т. 2. М., 2018. С. 421.
См.: там же. С. 422.
Там же. С. 421.
См.: там же. С. 378. Термин «антиномия» Бальтазар в 1 и 2 томах «Теологики» не использует. В «Космической литургии» он появится в заключительных строках с целью передать тайну апокатастасиса. См.: Бальтазар Г. У. Космическая литургия. Миросозерцание Максима Исповедника. М., 2021. С. 310.
История философии: Запад–Россия–Восток. Кн. 4 / Под ред. Мотрошиловой Н. В., Руткевича А. М. М., 2000. С. 179.
Егорова С. Б. Антиномизм и диалектика в учении П. А. Флоренского // Дисс. ... канд. филос. наук. Саратов, 2009. С. 15. Тотальность можно интерпретировать как неоправданное расширение содержания понятия антиномии (вплоть до включения в него противоположного, а не противоречивого); радикальность же антиномизма Флоренского есть расширение объёма понятия, т. е. его применимости к различным явлениям.
Павлюченков Н. Н. Религиозно-философское наследие священника Павла Флоренского. Антропологический аспект. М., 2013. С. 22.
См.: там же. С. 80.
См.: Шапошников В. А. Математическая апологетика Павла Флоренского // На пути к синтетическому единству европейской культуры. М., 2006. С. 172.
Лаут Э., прот. Современные православные мыслители: от «Добротолюбия» до нашего времени. М., 2020. С. 62.
Например, говоря о возможности для этой биографии стать агиографией, автор основывается на мнении о. Сергия Булгакова, Н. А. Струве, архим. Гавриила (Бунге), называвших отца Павла святым. См.: Pyman А. Pavel Florensky: A Quiet Genius. The Tragic and Extraordinary Life of Russiás Unknown Da Vinci. New York and London, 2010. Р. ххii. В отзыве на форзаце этой книги о. Э. Лаут также говорит о Флоренском martyred priest. То же именование: Аdler G. Pavel Florenskij, Genie und Märtyrer // Communio. 1996. No 25. S. 457–471. Из иностранных авторов негативно относится к Флоренскому: Hagemeister M. Florenskijs Wiederkher // Ostkirchlichе Studien. Würzburg. 1990. No 39. S. 119–145.
«Il tema fondamentale delle sue ricerche, almeno in senso epistemico, è l’antinomia della verità. Per certi versi, tutta l’opera La Colonna e il fondamento della verità è incentrata su questo tema...» Oppo A. Platone e Kant nell'epistemologia di Florenskij // Il pensiero polifonico di Pavel Florenskij. Una risposta alle sfide del presente [Платон и Кант в эпистемологии Флоренского // Полифоническая мысль Павла Флоренского. Ответ на вызовы настоящего] / S. Tagliagambe, M. Spano, A. Oppo (eds.) Cagliari, 2018. Р. 397.
См.: Kuße H. Metadiskursive Argumentation. Linguistische Untersuchungen zum russischen philosophischen Diskurs von Lomonosov bis Losev. München: Verlag Otto Sagner, 2004; Kuße H. Кant, die Sprache und ihre Kritik bei Hamann, Florenskij und ander Holisten / Wer braucht Kant heute? // Beiträge der interdisziplinären Tagung vom 14. und 15. Oktober 2006 in Dresden. S. 149–171.
См.: Об авторе // Катасонов В. Н. О границах науки. М. 2017. С. 296.
Graham L., Kantor J.-M. Naming infinity: a true story of religious mysticism and mathematical creativity. Cambridge, London, 2009. 239 р.
См.: Половинкин С. М. Христианский персонализм священника Павла Флоренского. М., 2015. С. 54.
Лосский В. Н. Боговидение. М., 2003. С. 159–160.
Лосев А. Ф. Избранные труды по имяславию и корпусу сочинений Дионисия Ареопагита. С приложением перевода «О Божественных именах». СПб., 2009. С. 103.
См.: там же. С. 103–104; Лосев А. Ф. Философия имени. М., 2009. С. 209, 221–222.
Антиномизм как способ теоретической репрезентации религиозного сознания: на материале русской религиозной философии первой половины XX века: дис. ...доктора философских наук / Астапов С. Н. [Место защиты: Юж. федер. Ун-т], 2010.
Идея истины как антиномии в русской религиозной философии конца XIX – начала XX вв.: дис. ...кандидата философских наук / Филатова М. И. [Место защиты: Кур. гос. Ун-т], 2012.
Культурфилософские основания антиномий П. А. Флоренского и Б. Л. Пастернака: дис. ...кандидата культурологии / Губанов С. А. [Место защиты: Костром. гос. ун-т им. Н. А. Некрасова], 2011.
Художественная репрезентация антиномии «добро/зло» в творчестве Н. Садур: дис. ...кандидата филологических наук / Симон Г. А. [Место защиты: Бурят. гос. Ун-т], 2014.
Антиномии института политической свободы: дис. ...кандидата политических наук / Басенко Н. А. [Ростовский гос. ун-т], 2003.
Антиномия «сакрального-обыденного» и ее воплощение в западной и русской музыкальной традиции: дис. ...кандидата искусствоведения / Кожаева С. Б. [Место защиты: Нижегор. гос. консерватория], 2004.
Андроник (Трубачёв), иг. Теодицея и антроподицея в творчестве священника Павла Флоренского. Томск, 1998.
Казарян А. Т. Антиномия // ПЭ. М., 2001. Т. 2. С. 494.
Флоренский П. А. Космологические антиномии Иммануила Канта // Флоренский П., свящ. Соч. в 4-х тт. Т. 2. М., 1996. С. 4.
Моисеев В. И. Логика всеединства. М, 2002
Там же. С. 294.
См.: Войшвилло Е. К., Дягтерев М. Г. Логика / Учебник для вузов. М., 2001. С. 31.
См.: Флоренский П., свящ. Столп... М., 2017. С. 165–166.
Необходимо «сохранять равновесие между двумя членами антиномии <...> Савелий, не сумевший сохранить этого равновесия и видевший прежде всего единую сущность, утратил понятие троичности Лиц...». Лосский В. Н. Боговидение. М., 2003. С. 588.
См.: Ларше Ж.-К. Лицо и природа. М., 2021. С. 107–108.
Сидоров А. И. Святоотеческое наследие... Т. 5. М., 2017. С. 496–497.
Порус В. Н. Антиномия / Новая философская энциклопедия в 4-х тт. Т. 1. М., 2010. С. 117–119.
«Для Христова человека антиномия разума не представляет собой неких непримиримых противоречий». Иустин (Попович), преп. Творения. Т. 1. М., 2004. С. 311.
См.: Флоренский П., свящ. Столп... М., 2017. С. 482.
Антиномии разрешимы не через их устранение в новых рациональных понятиях, а лишь через «мужественное трансрациональное их приятие». Франк С. Л. Непостижимое // Франк С. Л. Сочинения. М., 1990. С. 772.
Задача богослова заключается не в устранении антиномии через приспособление догмата к нашему пониманию, «но в изменении нашего ума для того, чтобы мы могли прийти к созерцанию Бого-открывающейся реальности». Лосский В. Н. Боговидение. М., 2003. С. 141.
Антиномия представляет собой вызов юридическому мышлению и «освобождающим созерцанием божественной истины». Мейендорф И., прот. Византийское наследие в Православной Церкви. К., 2007. С. 310.
«Под антиномией в богословии я понимаю утверждение двух противоположных истин, которые не могут быть согласованы на уровне дискурсивного мышления, хотя согласование возможно на более высоком уровне созерцательного опыта». Каллист (Уэр), митр. Паламитские споры / Пер. с англ. К. Б. Михайлов // Альфа и Омега. 2002 No 4 (34). С. 192
«Кажущиеся антиномии разума снимаются видением умного сердца, движимого и живущего верой». Сидоров А. И. Святоотеческое наследие... Т. 3. С. 429.
Максим Исповедник, преп. Амбигвы. М., 2020. С. 204. καὶ τῶν ἀμίκτων ἐπ’ αὐτῆς τὴν ἀντίφασιν δείξας (сontradictionem) συναληθεύουσαν. Maximus Confessor. Ambiguorum // PG. Т. 91. Col. 1053A. Исследователи отмечают использование преп. Максимом «намеренного противоречия». См.: Törönen M. Union and Distinction in the Thought of St Maximus the Confessor. Oxford, 2007. Р. 157.
PG 150, 1205 АВ. Κεφ. 121 // Цит. по: Василий (Кривошеин), архиеп. Богословские труды. Н. Новгород, 2011. С. 88.
Из их катехизических, доксографических и апологетических трудов большинство относится к последней категории. См.: Ларше Ж.-К. Что такое богословие? М., 2021. С. 20.
Это схватывающее, каталептическое (κατάληψιϛ – схватывание) представление, зрение сердцем (Еф. 1:18), предваряет умственное познание: «сердце видит разом, нераздельно, мгновенно» то, что в уме делится на части. Иоанн Кронштадтский, св. прав. Моя жизнь во Христе. Т. 1. Киев, 2006. С. 83.
Tuggy D. Tradition and Believability: Edward Wierenga’s Social Trinitarianism // Philosophia Christi. 2003. No 2 (5). Р. 447–456.
Anderson J. N. In Defence of Mystery: A Reply to Dale Tuggy // Religious Studies. 2005. No 2 (41). P. 145–163.
См.: Anderson J. Paradox in Christian Theology: An analysis of its presence, character, and epistemic status. Milton Keynes, 2007. Р. 131–152.
Семантический минимализм представляет собой вариант апофатического подхода. Рассматривая троичный догмат, данная стратегия ограничивается констатацией, что христианство не является политеизмом, однако тем самым оставляя простор для других искажений веры, например, в виде модализма.
Принцип дополнительности в данном случае является распространением физической теории Н. Бора, описывающей корпускулярно-волновой дуализм, на предметы богословия. Несогласие вызывает применение понятия дополнения по отношению к абсолютному Богу.
См.: Флоренский П., свящ. Столп... М., 2017. С. 153.
См.: Вдовина Г. В. Интенциональность и жизнь. М.; СПб., 2019. С. 336.
Отец Павел внимательно относился к творчеству писателя, о чём свидетельствуют, в частности его воспоминания, важные и с точки зрения антиномизма. См.: Флоренский П., свящ. Детям моим // Флоренский П., свящ. Из моей жизни. М., 2018. С. 52.
Пример Ивана Карамазова можно считать антиномией только в предложенной схеме «разложения понятия на формальности», где формальностями являются бытие (поступки героев) и сознание (осмысление героями своих поступков). Духовное понимание снимает антиномию Ивана Карамазова и объясняет его сумасшествие: идеология вседозволенности И. Карамазова заражает Смердякова и развязывает ему руки для убийства. Таким образом, И. Карамазов также несёт на себе ответственность за убийство.
В «Братьях Карамазовых» многократно повторяется фраза: «чёрт убил» как указание на его участие в преступлении. О связи инфернальных сюжетов романа с кантовской философией, а также о сопоставлении антиномий Канта и Достоевского см.: Голосовкер Я. Э. Достоевский и Кант. М., 1963.
См.: Priest G. Dialethеism / Stanford Encyclopedia of Philosophy (2018) // URL: https://plato.stanford.edu/entries/dialetheism. Понятие диалетеи (δίς – дважды и ἀλήθεια – истина) введено в оборот в 1981 г. Грэмом Пристом и Ричардом Рутли. Cм. также: Priest G., Routley R., Norman J. Paraconsistent Logic: Essays on the Inconsistent. Munich, 1989.
См.: там же.
См.: там же.
Cм.: Olmedo-García С., Estrada-González L. On the Plenitude of Truth. A Defense of Trivialism // Disputatio. 2013. No 5 (35). Р. 93–98.
См.: Anderson J. Paradox in Christian Theology: An analysis of its presence, character, and epistemic status. Milton Keynes, 2007. Р. 126.
Огурцов А. П. Абсурд / Гуманитарная энциклопедия: Концепты [Электронный ресурс] // Центр гуманитарных технологий, 2002–2020 // URL: gtmarket.ru/concepts/7159
Дополнительно можно провести разграничение абсурда и синонимичного ему в русском языке (но не в английском) нонсенса: «Абсурд является значимым отсутствием смысла там, где смысл должен быть. Абсурд реален (абсурдный человек, проект, история, аргумент). Нонсенс невозможен и смешон (pure fun)». Шкурская Е. А. Лингвистическое сопоставление нонсенса и абсурда // Известия ВГПУ. 2011. No 7 (61). С. 15–18.
Максим Исповедник, преп. Толкования // Дионисий Ареопагит. Корпус сочинений. С толкованиями преп. Максима Исповедника. СПб., 2017. С. 94.
Там же. С. 119.
«Совершенно неподобны, о которых думают, что они подобны». Там же С. 41. Свт. Григорий Палама применяет здесь понятие иноприродного символа. См.: Григорий Палама, свт. Триады в защиту священно-безмолвствующих. М., 1995. C. 299.
Дионисий Ареопагит. Корпус сочинений. СПб., 2017. С. 119.
См.: там же. С. 50. Та же антиномичность видна в утверждениях о Божественной безымянности и сообразности её всякому имени (см.: там же. С.136); «многоимённость неназываемой и неименуемой Божественности» (там же. С. 140); «к превышающей всё Причине подходят и безымянность и всеимённость» (οὖν τῇ πάντων αἰτίᾳ καὶ ὑπὲρ πάντα οὔσῃ καὶ τὸ ἀνώνυμον ἐφαρμόσει καὶ πάντα τὰ τῶν ὄντων ὀνόματα) S. Dionysius Areopagita. De divinis nominibus // PG. Т. 3. Col. 596. «И Ему свойственны и разумение, и смысл, и знание,<...> и имя, и всё прочее, и Он и не уразумеваем, не осознаваем, не называем. <...> И Он есть всё во всём и ничто ни в чём, и от всего всеми познаётся, и никем ни из чего». Там же. С. 257.
Аристотель. Соч. в 4-х тт. Т. 2. М., 1978. С. 478.
Флоровский Г., прот. Письмо от 15.05.1958 г. // Софроний (Сахаров), архим. Переписка с протоиереем Георгием Флоровским. Сергиев Посад, 2008. С. 79.
Там же.
Молитва первого антифона на литургии свт. Иоанна Златоуста // Служебник. М., 2003. С. 98.
См.: Лосев А. Ф. Избранные труды по имяславию и корпусу сочинений Дионисия Ареопагита. СПб., 2009. С. 110.
Ср.: там же. С. 9.
Максим Исповедник, преп. Четыре сотни глав о любви / Добротолюбие. М., 2001. С. 281.
Ср.: «Такой сокровенный Бог, между тем, и Бог “для другого”, Он – живой Бог Авраама, Исаака и Иакова. Выражаясь антиномичным апофатическим языком, Он – вечно отсутствующее присутствие». Амфилохий (Радович), митр. Основы православного воспитания // URL: azbyka.ru/otechnik/Amfilohij_Radovich/osnovy- pravoslavnogo-vospitanija
См.: Флоренский П., свящ. Столп... М., 2017. С. 576.
См.: там же.
Уточнение даты: URL: https://www.augustinus.de/einfuehrung/werke-mit-werkeliste?start=2
URL: www.augustinus.it/latino/retorica/index2.htm Флоренский ссылается на сборник К. Хальма «Rhetores Latini minores», изданный в 1863 г. в Лейпциге. S. 137–151. Флоренский П., свящ. Столп... М., 2017. С. 807 (у Флоренского contentio вместо contentionem). Рассматриваемый текст св. Августина, вероятно, является заимствованием из «Наставлений оратору» Квинтилиана: Quintilian M. F. Institutio Oratoria. III, 6, 46. Возможно, что и у Канта антиномия появляется благодаря этому тексту, т. к. и у него, и у Квинтилиана антиномия рассматривается в сопоставлении с паралогизмом. См.: Кант И. Критика чистого разума. М. 2006. С. 509.
«Aнтиномианизм (аntinomianism) – учение, согласно которому христиане не обязаны проповедовать и/или соблюдать моральные предписания ветхозаветного закона». Линдер Р. Д. Антиномианизм / Теологический энциклопедический словарь / Под ред. У. Элвелла. М., 2003 // URL: terme.ru/termin/antinomizm.html Аналогичное толкование New World Encyclopedia: URL: https://www.newworldencyclopedia.org/entry/Antinomianism
Казарян А. Т. Антиномия // ПЭ. Т. 2. М., 2001. С. 494.
См.: Э. П. П. Антиномистский спор // ПЭ. Т. 2. М., 2001. С. 494.
См.: Goclenius R. Lexicon philosophicum, quo tanquam clave philosophiae fores aperiuntur. Francofurti, 1613. P. 110 // URL: https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9669355q/f126.item.texteImage [Дата обращения: 04.04.2022].
Антиномизм гностиков не соответствовал нравственной строгости Тертуллиана. См.: Иоанн (Попов), мч. Труды по патрологии. Т. 1. СП, 2005. С. 393.
Цыпин В., прот. Каноническое право. М., 2012. С. 11, 15–16, 19.
См.: там же. С. 359 (о том, что поместная Церковь не является только частью Кафолической, но её полным выявлением – часть есть целое).
См.: Поснов М. Э. История Христианской Церкви. Брюссель, 1994. С. 146.
См.: Стеллецкий Н., прот. Опыт нравственного православного богословия в апологетическом освещении. Т. 1. М., 2009. С. 164.
См.: Хосроев А. Л. Александрийское христианство по данным текстов из Наг-Хаммади // Цит. по: Ваганова Н. А. Софиология протоиерея Сергия Булгакова. М., 2011. С. 77.
Ср. противоположные мнения:
Художественная репрезентация антиномии «добро/зло» в творчестве Н. Садур: дис. ... канд. филол. наук / Симон Г. А. [Место защиты: Бурят. гос. ун-т], 2014;
Антиномии веры и нравственности в отечественной философской культуре: дис. ... канд. филос. наук / Хватова М. Б. [Ивановский гос. ун-т], 2021;
«...в логическом господствует принцип непротиворечивости, тогда как в жизни добро и зло реально противоречат друг другу, тем самым устраняя принцип непротиворечивости...» Бальтазар Г. У. Теологика. Т. 2. М., 2018. С. 34; «Вырастает новая антиномия, новый трагизм закона, новая вариация основной диалектической темы (“закон добр” и “закон зол”)». Вышеславцев Б. П. Этика преображенного Эроса. М., 1994. С. 41; «антиномия греха и святости» Карташев А. В. Воссоздание Святой Руси. Мн., 2011. С. 54;
«нравственная антиномия государственного права и личного всепрощения <...> антиномия меча». Карташев А. В. Очерки по истории Русской Церкви. Т. 1. СПб., 2004. С. 142–143.
Bălan C.-D., Nicușor T. The Antinomy Between the Sin of Intolerance and the Suffering assumed as pain, penance or change [Антиномия между грехом нетерпимости и страданием, воспринимаемым как боль, покаяние или изменение] // Proceedings of the International Scientific Conference «History and Theology», 17–18 November 2020. Bucureşti, 2021. Р. 348–366.
Гулыга А. В. Русская идея и её творцы. М., 2003. С. 10.
Платон (Игумнов), архим. Нравственное богословие. СПб, 2008. С. 265.
Например, Трубецкой Е. Н. Смысл жизни. М., 2003. С. 54, 104, 165, 261; Войшвилло Е. К., Дягтерев М. Г. Логика / Учеб. для вузов. М., 2001. С. 31; Моисеев В. И. Логика всеединства. М., 2001. С. 59; Порус В. Н. Антиномия / Новая философская энциклопедия в 4-х тт. Т. 1. М., 2010. С. 117–119. Каллист (Уэр), митр. Паламитские споры / Пер. с англ. К. Б. Михайлов // Альфа и Омега. 2002 No 4 (34). С. 192. Graham L., Kantor J.-M. Naming infinity. Cambridge, London, 2009. Р. 22, 54.
Остапенко А. А. Христианский антиномизм как возможная методология психолого-педагогической науки / Вестник ПСТГУ / IV: Педагогика. Психология. 2009. Вып. 3 (14). С. 111. Cр.: Aнтиномия как «highest level of paradox» [высший уровень парадокса]. Freeman A. M. Theological paradox: a dogmatic account // Dissertation proposal. Deerfield, 2017 // https://www.academia.edu/32861352
«Antinomy, in philosophy, contradiction, real or apparent, between two principles or conclusions, both of which seem equally justified; it is nearly synonymous with the term paradox [Антиномия, в философии, противоречие, реальное или кажущееся, между двумя принципами или выводами, оба из которых выглядят одинаково обоснованными; это почти синоним термина парадокс]». Gaur A., Lotha G. Antinomy // www.britannica.com/topic/antinomy
«Sie [Antinomie] ist von Aporie und Paradoxie zu unterschieden [Её следует отличать от апории и парадокса]». Heitsch W. Antinomie / Wörterbuch zu den philosophischen Fragen der Naturwissenschaften / Hrsg. von H. Hörz, R. Löther, S. Wollgast. Berlin, 1978. S. 51.
«In der modernen Logik benützt man den Begriff der Antinomie – synonym mit dem Terminus Paradoxes – für die Bezeichnung des Wiederspruches (dessen Standartausdruck die klassische Formel A & ¬A ist) [В современной логике понятие антиномии – синоним термина парадокс – используется для обозначения повторного высказывания (стандартным выражением которого является классическая формула A & ¬A)]». Kotatko P. Antinomie / Europäische Enzyklopädie zu Philosophie und Wissenschaften / Нrsg. von Hans Jörg Sandkühler. Hammburg, 1990. S. 149.
Егорова С. Б. Антиномизм и диалектика в учении П. А. Флоренского // Дисс. ... канд. филос. наук. Саратов, 2009. С. 18. Не согласимся с Э. Фернандесом, полагающим, что Кант оказал на Флоренского намного меньшее влияние относительно антиномизма, чем то, о чём говорит С. Б. Егорова. Фернандес Э. Принцип coincidentia oppositorum и преодоление антиномий Павлом Флоренским / Пер. с англ. О. С. Воротниковой // Сoincidentia oppositorum: от Николая Кузанского к Николаю Бердяеву. СПб., 2010. С. 475.
Павлюченков Н. Н. Религиозно-философское наследие священника Павла Флоренского. Антропологический аспект. М., 2013. С. 190, 234.
Антонов К. М. Ваганова Н. А. Предисловие / «Философствовать в религии»: материалы конференции, посвященной столетию выхода книги «Столп и утверждение Истины» о. Павла Флоренского. М., 2017. С. 5.
См.: Лаут Э., прот. Современные православные мыслители: от «Добротолюбия» до нашего времени. М., 2020. С. 62–63.
См.: там же. С. 63.
Порус В. Н. Павел Флоренский: опыт антиномической философии культуры // На пути к синтетическому единству европейской культуры. М., 2006. С. 65.
Порус В. Н. Антиномия / Новая философская энциклопедия в 4-х тт. Т. 1. М., 2010. С. 117. Антиномия противопоставлена застою в: Сидоров А. И. Святоотеческое наследие... Т. 6. М., 2022. С. 210.
Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 3. М., 1980. С. 17.
См.: Бернштейн В. С. Парадокс // Гуманитарный портал //gtmarket.ru/concepts/6956
Антипенко Л. Г. Флоренский П. А. о логическом и символическом аспектах научно-философского мышления. М., 2012. С. 125–132.
Там же. С. 132.
«Определение окружности бесконечно малого радиуса – как пары мнимых прямых, пересекающихся в действительной точке, центре окружности, представляется учащемуся – сперва блестящим парадоксом; а когда подобных понятий накопляется много, вся их совокупность раздражает, как приевшиеся остроты». Флоренский П. А. Мнимости в геометрии. М., 1991. С. 11.
См.: Флоренский П., свящ. Столп... М., 2017. С. 497–502. Задача о трёх парикмахерах Аллене, Брауне и Карре, один из которых всегда находится в парикмахерской. Браун появляется в парикмахерской, только вместе Алленом. Рассматривается вариант, когда из парикмахерской выходят Карр и Аллен, где тогда должен быть Браун? См.: Rojek Р. Pavel Florensky’s Theory of Religious Antinomies // Logica Universalis. 2019. No 13. Р. 522.
Максим Исповедник, преп. Амбигвы. М., 2020. С. 656.
См.: Иоанн Дамаскин, преп. Точное изложение православной веры. М., 2019. С. 233.
См.: Иоанн Лествичник, преп. Слово 7. // Иоанн Лествичник, преп. Лествица. М., 2010. С. 162 (здесь μακαρία χαρμολύπη (Scala 7.9) переведена как блаженная радостная печаль); Игнатий (Брянчанинов), свт. Понятие о ереси и расколе // Игнатий Брянчанинов, свт. Полное собрание творений и писем в 8 т. Т. 5. М., 2014. С. 510 (этим словом свт. Игнатий выражает настроение церковного пения; ср. наставление Типикона об исполнении тропаря на утрене Великой Пятницы: «косно и со сладкопением». Типикон. М, 2002. С. 937).
См.: Флоренский П., свящ. Столп... М., 2017. С. 577.
См.: Казарян А. Т. Антиномия // ПЭ. М., 2001. Т. 2. С. 494.
См.: Андроник (Трубачёв), иг. Путь к Богу. Кн. 3. Фонд, 2015. С. 102–107.
См.: Флоренский П., свящ. Столп... М., 2017. С. 159.
См.: Гомперц Т. Греческие мыслители / Пер. со 2-го нем. изд. Е. Герцык и Д. Жуковского, Т. I, СПб, 1911 г., Ч. 3, 1. С. 239–240 // Цит. по: там же. С. 159.
См.: Флоренский П., свящ. Столп... М., 2017. С. 160.
Там же.
См.: Лега В. П. История западной философии: В 2 ч. Ч. 1. М., 2016. С. 50.
Флоренский П., свящ. Столп... М., 2017. С. 161.
Там же. С. 162.
См.: Карсавин Л. П. Святые отцы и учители Церкви (раскрытие Православия в их творениях). М., 1994. С. 29–30.
Тертуллиан. О плоти Христа (пер. А. А. Столярова) / Тертуллиан. Избранные сочинения. М., 1994. С. 166. Tertulliani. De Carne Christi, V, 4 // PL. T. 2. Col. 761B.
Игнатий Антиохийский, свщмч. Послание к ефесянам // Цит. по: Преображенский П., прот. Памятники древней христианской письменности. Т. 2. Писания мужей Апостольских. М., 1862. С. 378.
Флоренский П., свящ. Столп... М., 2017. С. 162.
Николай Кузанский. О вѝдении Бога (пер. В. В. Бибихина) / Николай Кузанский. Сочинения в 2-х тт. Т. 2. М., 1980. С. 53.
Там же.
Тахо-Годи Е. А. Лосев А. Ф. о Николае Кузанском и средневековой диалектике // ВФ. 2016. No 9. С. 98.
Флоренский П., свящ. Столп... М., 2017. С. 578. На оригинальности кантовского антиномизма настаивает Асмус В. Ф. Иммануил Кант. М., 1975. С. 257 – в противовес мнению Э. Кассирера и Л. Робинсона, видящих здесь заимствование у П. Бейля и А. Кольера.
Там же. С. 808.
Усвяцов Л. Антиномия / Философская энциклопедия / Гл. ред. Ф. В. Константинов. М., 1960. С. 73.
См.: Кант И. Трактаты и письма // Цит. по: Казарян А. Т. Антиномия // ПЭ. Т. 2. М., 2001. С. 494.
См.: Шпидлик, о. Томаш. Русская идея: иное вѝдение человека. М.; СПб., 2014. С. 73. Ср.: «Немцы установили, что противоречий быть не должно...» Шестов Л. И. Апофеоз беспочвенности / Шестов Л. И. Сочинения в 2-х тт. Т. 2. Томск, 1996. С. 176. «Невозможно то, что содержит в себе противоречие». Вольф Х. Разумные мысли о Боге, мире и душе человека // Христиан Вольф и философия в России. СПб, 2001.
См.: Шпидлик, о. Томаш. Русская идея: иное вѝдение человека. М.; СПб., 2014. С. 76–77.
См.: Софроний (Сахаров), архим. Преподобный Силуан Афонский. Житие, учение и писания. Мн., 2003. С. 153. Здесь о. Софроний говорит о доступном и для рационалистов антиномическом мышлении
См.: Орро А. Does a «russian philosophy» exist? The boundaries and nature of a question // Соловьевские исследования. 2021. No 2(70). С. 58, 60, 67.
См.: Сидоров А. И. Святоотеческое наследие... Т. 5. М., 2017. С. 242, 279; Сидоров А. И. Святоотеческое наследие... Т. 1. М., 2011. С. 302.
Софроний (Сахаров), архим. Переписка с протоиереем Георгием Флоровским. СП, 2008. С. 78.
Трубецкой С. Н. Учение о Логосе в его истории / Трубецкой С. Н. Сочинения. М., 1994. С. 267.
Там же. С. 268.
Там же.
См.: Флоренский П., свящ. Столп... М., 2017. С. 677.
«Мagistri hyperbelum» называет о. Павла Гальцева Р. А. Мысль как воля и представление // П. А. Флоренский: рro et сontra. СПб., 2001. С. 589.
Николай Кузанский. О вѝдении Бога (пер. В. В. Бибихина) / Николай Кузанский. Сочинения в 2-х тт. Т. 2. М., 1980. С. 53.
Флоренский П., свящ. Надпись на книге «Столп и утверждение Истины» П. А. Алферову. 1914.II.9 // Цит. по: Андроник (Трубачёв), иг. Путь к Богу. Кн. 3. СП, 2015. С. 29.
См.: там же. С. 38.
Флоренский П., свящ. Столп... М., 2017. С. 11.
Автор характеризует Флоренского не как родоначальника какого-либо нового направления, а как продолжателя христианского предания. Книгу «Столп и утверждение Истины» Е. Н. Трубецкой называет произведением выдающимся, глубоко оригинальным и творческим. См.: Трубецкой Е. Н. Свет Фаворский и преображение ума // П. А. Флоренский: pro et contra. СПб., 2001. С. 286. Рецензию предварила переписка философов: см. письма Е. Н. Трубецкого к П. А. Флоренскому от 6 и 13 января 1914 г. // ВФ. 1989. No 12. С. 103–105. Полемика будет продолжена в работе 1918 г.: Трубецкой Е. Н. Смысл жизни. М., 2003. С. 299–310.
См.: Бердяев Н. А. Стилизованное православие // П. А. Флоренский: рro et сontra. СПб., 2001. С. 274.
Там же. С. 268.
Там же. С. 275.
Зеньковский В., прот. История русской философии. М., 2001. С. 830.
Флоренский П., свящ. Столп... М., 2017. С. 168.
См.: Половинкин С. М. Христианский персонализм священника Павла Флоренского. М., 2015. С. 46.
См.: Флоренский П. А. Богословские труды: 1902–1909. М., 2018.С. 248.
Впервые опубликовано: «Весы». 1904. No 9. См.: Флоренский П., свящ. Соч. в 4-х тт. Т. 1. М., 1994. С. 707.
См.: Флоренский П. А. Об одной предпосылке мировоззрения // Флоренский П., свящ. Соч. в 4-х тт. Т. 1. М., 1994. С. 71
Флоренский П. А. Богословские труды: 1902–1909. М., 2018.С. 569.
См.: там же. С. 173.
Флоренский П. А. Переписка // Флоренский П. В. Обретая путь. Павел Флоренский в университетские годы. В 2 т. Т. 1 М., 2011. С. 188, 231.
Флоренский П. А. Письмо О. П. Флоренской // Флоренский П. В. Обретая путь. Павел Флоренский в университетские годы. В 2 т. Т. 2. М., 2015. С. 50.
Флоренский П. А. Космологические антиномии Иммануила Канта // Флоренский П., свящ. Соч. в 4-х тт. Т. 2. М., 1996. С. 3.
Там же. С. 4.
См.: там же. С. 11.
См.: там же.
Там же.
См.: там же. С. 12.
См.: там же.
Там же. С. 13.
Казарян А. Т. Антиномия // ПЭ. Т. 2. М., 2001. С. 496.
Флоренский П. А. Космологические антиномии... // Флоренский П., свящ. Соч. в 4-х тт. Т. 2. М., 1996. С. 26.
Там же. С. 27.
См.: там же.
Там же. С. 4. Аналогичная оценка кантовских антиномий: Шопенгауэр А. Мир как воля и представление // Цит. по: Асмус В. Ф. Иммануил Кант. М., 1973. С. 275.
См.: Флоренский П. А. Космологические антиномии... // Флоренский П., свящ. Соч. в 4-х тт. Т. 2. М., 1996. С. 4.
Там же. С. 30.
Там же. С. 31.
Максим Исповедник, преп. Творения. Кн. 1. М., 1993. С. 159.
См.: там же. Ср.: Флоренский говорит о святом подвижнике, который созерцает ценность твари и видит «разум их объективного бытия, их λόγος». При этом разум твари есть «идея Бога о частной вещи». Флоренский П., свящ. Столп... М., 2017. С. 326.
См.: там же. С. 18.
См.: там же. С. 482.
Там же.
См.: там же.
Там же. С. 153.
См.: там же. С. 32.
Там же. С. 35.
Там же.
См.: там же. С. 42.
Там же. С. 48.
Там же. С. 49
Там же. Ср. с интерпретацией взгляда С. Л. Франка: «Он [Бог] как coincidentia oppositorum имеет металогический характер». Оболевич Т. Франку невозможно не «доверять» // Вестник ПСТГУ. Серия I. 2021. Вып. 98. С. 100.
Там же. С. 52.
Там же. С. 53.
Там же.
Григорий Богослов, свт. Слово 31 // Григорий Богослов, свт. Творения: В 2 т. Т. 1. М., 2010. С. 379.
Флоренский П., свящ. Столп... М., 2017. С. 54.
Преп. Максим Исповедник применяет данный подход к тварному бытию, которое находится в «недвижном движении» (ἀκινήτως δὲ κινεῖσθαι). Maximus Confessor. Ambiguorum // PG. Т. 91. Col. 1217 АВ. Вещи не выступают из границ своей природной особости (μὴ ἐξίστασθαι ὁτιοῦν τῆς φυσικῆς ἰδιότητος), их сущности не смешиваются. Но они движутся в смысле прибывания, убывания и смены друг друга. Покой (στατικός) и движение (κίνηση) парадоксально сочетаются. См.: там же. Col. 1228; «приснодвижный покой и неподвижное тождество движения». Максим Исповедник, преп. Вопросоответы к Фалассию. М., 2021. С. 490.
Флоренский П., свящ. Столп... М., 2017. С. 484.
Там же. С. 486.
Там же. С. 487.
Там же.
См.: Гайденко П. П. Антиномическая диалектика мистического триединства // Критика немарксистских концепций диалектики ХХ века. Диалектика и проблема иррационального. М., 1988. С. 169.
Там же. С. 175.
«Yet paradoxically, it is only the primacy of the law of identity that Florensky seeks to overthrow, not the law itself», – не сам закон, а его примат, опровергает Флоренский. Foltz B. The Fluttering of Autumn Leaves: Logic, Matematics, and Metaphysics in Florensky’s The Pillar and Ground of the Truth // Studia Humana. 2013. No 2. P. 7.
Там же. С. 177.
Там же. С. 178.
Флоренский П., свящ. Столп... М., 2017. С. 148. Также Бога нельзя рассматривать стороной антиномии: «Сущий превыше всего совершенно не имеет Себе противоположного». Максим Исповедник, преп. Четыре сотни глав о любви / Добротолюбие. М., 2001. С. 304. Более того, «брань друг с другом» свойственна эмпирической реальности, «а в смыслах [вещей] полностью отсутствует всякая противоположность». Максим Исповедник, преп. Вопросоответы к Фалассию. М., 2021. С. 125.
Флоренский П., свящ. Столп... // Цит. по: Гайденко П.П. Критика немарксистских концепций диалектики ХХ века. М., 1988. С. 178.
«Антиномизм у Флоренского, с одной стороны, свидетельство несовершенства человеческого рассудка, а с другой – антиномична именно божественная реальность, сама Истина... Антиномизм – зараз признак и болезни, и здоровья...» Гаврюшин Н. К. Русское богословие. Очерки и портреты. Нижегородская духовная семинария, 2011. С. 470. Отношение Н. К. Гаврюшина к самой проблеме богословской антиномии: «С метафизической же точки зрения Православие соткано из противоречий...» Там же. С. 522.
Егорова С. Б. Антиномизм П. Флоренского и современные интерпретации антиномизма // Вестник ПАГС. 2009. No 18. С. 199.
См.: Трубецкой Е. Н. Свет Фаворский и преображение ума // П. А. Флоренский: pro et contra. СПб., 2001. С. 292. Этот вопрос прозвучит в письме о. Георгия Флоровского к о. Софронию (Сахарову): «Антиномичность догматов бесспорна. Но остается вопрос и преображения разума». Софроний (Сахаров), архим. Переписка с прот. Георгием Флоровским. СП, 2008. С. 78.
См.: Трубецкой Е. Н. Свет Фаворский и преображение ума // П. А. Флоренский: pro et contra. СПб., 2001. С. 293.
Там же.
Там же.
Аристотель. Метафизика, книга XIII // Цит. по: Лосев А. Ф. Критика платонизма у Аристотеля. Перевод и комментарий XIII-й и XIV-й книги «Метафизики» Аристотеля. М., 2011. С. 172.
«Можно ли утверждать в одно и то же время, что антиномичен грех и что антиномична истина?» Трубецкой Е. Н. Свет Фаворский и преображение ума // П. А. Флоренский: pro et contra. СПб., 2001. С. 294.
Там же. С. 303.
См.: Anderson J. Paradox in Christian Theology: An analysis of its presence, character, and epistemic status. Milton Keynes, 2007. Р. 243.
Флоренский П., свящ. Столп... М., 2017. С. 60. Данное высказывание дословно повторяет схимонах Иосиф Ватопедский. От смери к жизни // URL: azbyka.ru/otechnik/Iosif_Vatopedskij/ot-smerti-k-zhizni со ссылкой на о. П. Флоренского и преп. Иустина: Архимандрит Иустин (Попович). Человек и Богочеловек. Внешняя миссия нашей Церкви. Афины, 1969. С. 135.
Примечательно рассуждение митр. Каллиста: три человеческие личности представляют собой трёх людей, а не одного (1+1+1=3). Три Божественные Личности суть не три бога, но один Бог (1+1+1=1). См.: Каллист (Уэр), митр. Паламитские споры / Пер. с англ. К. Б. Михайлов // Альфа и Омега. 2002 No 4 (34). С. 192. Схожие рассуждения: Anderson J. Paradox in Christian Theology: An analysis of its presence, character, and epistemic status. Milton Keynes, 2007. Р. 30.
Проф. Оливье Клеман называет рассматриваемый догмат «великой тринитарной антиномией». Клеман О.-М. Истоки. Богословие отцов Древней Церкви. Тексты и комментарии. М., 1994 // azbyka.ru/otechnik/Olive_Kleman/istoki-bogoslovie-ottsov-tserkvi
См.: там же. С. 59. Ж.-К. Ларше использует эту антиномию для характеристики персонализма и эссенциализма как отклонений от троичного догмата. См.: Ларше Ж.-К. Лицо и природа. М., 2021. С. 107–108.
См.: Лосский В. Н. Боговидение. М., 2003. С. 158.
Там же. С. 159–160.
См.: Афанасий Великий, свт. Послание к африканским епископам // Цит. по: Флоренский П., свящ. Столп... М., 2017. С. 58. Athanasius Alexandrinus. Epistola ad Afros Episcopos, 4 // PG. T. 26. Col. 1035. Ср.: «Такое равновесие, будучи одной из сущностных характеристик подлинного православного богословия, является, без всякого сомнения, трудно сохраняемым, <...> поскольку человеческий разум не в состоянии постичь такие антиномии». Ларше Ж.-К. Лицо и природа. М., 2021. С. 107–108.
Василий Великий, свт. Письмо 38 // Цит. по: Флоренский П., свящ. Столп... М., 2017. С. 61. Ср.: Василий Великий, свт. Письмо 38 // Василий Великий, свт. Творения: В 2 т. Т. 2. М., 2009. С. 507.
Григорий Нисский, свт. Большое катехизическое поучение // Цит. по: там же. Ср.: Григорий Нисский, свт. Большое огласительное слово, 3 // Григорий Нисский, свт. Творения. Ч. 4. М., 1862. С. 11.
Великий канон преп. Андрея Критского // Цит. по: там же. С. 66. Здесь же: «Троице прόста».
Григорий Нисский, свт. Ref. 5 (p. 314. 24–26) // Цит. по: Василий (Кривошеин), архиеп. Богословские труды. Нижний Новгород, 2011. С. 619.
Григорий Нисский, свт. Ref. 6 (p. 314.26–315.3) // Цит. по: там же.
Василий (Кривошеин), архиеп. Богословские труды. Нижний Новгород, 2011. С. 619.
Там же.
«Бог разделяется <...> неразделимо и сочетавается разделённо, потому что Божество есть Единое в трёх, и едино суть Три». Григорий Богослов, свт. Слово 39 // Григорий Богослов, свт. Творения: В 2 т. Т. 1. М., 2010. С. 455. «Не успею помыслить о Едином, как озаряюсь Тремя. Не успею разделить Трёх, как возношусь к Единому. <...> Когда совокупляю в умосозерцании Трёх, вижу единое светило, не умея разделить или измерить соединённого света». Григорий Богослов, свт. Слово 40 // Там же. С. 483.
«Если мы и именуем Ипостаси <...>, то мы ни единство не разделяем, ни монаду не делим на части, ни единицу (генаду) не разрываем». Евлогий Александрийский, свт. PG 103, 1061 // Цит. по: Доброцветов П. К. Евлогий I // ПЭ. Т. 17. М., 2008. С. 172.
Св. Августин задаётся вопросом, как рождается Бог от Бога без того, чтобы увеличилось число богов? См.: Августин Иппонский, св. блаж. Проповеди / Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I–VIII веков. Ветхий Завет. Т. XI. Кн. пророка Исаии. Тверь, 2021. С. 191. Блаженный Августин сопоставляет слова из Быт. 1:26–27 о творении человека: сотворим (мн. ч.) и сотворил (ед. ч.): т.к. человек сотворён по образу Св. Троицы, сказано: по образу Нашему. С другой стороны, «дабы мы не сочли, что в Троице нужно полагать трёх богов, <...> было сказано: сотворил ... по образу Своему. См.: Августин Иппонский, св. блаж. О Троице (12.6). Краснодар, 2004. С. 263.
«Бог одинаково Едѝница и Троица». Максим Исповедник, преп. // Цит. по: Лосский В. Н. Боговидение. М., 2003. С. 158. «Триада поистине есть Монада, ибо так существует, и Монада поистине есть Триада, ибо так ипостазировалась». Максим Исповедник, преп. О различных недоумениях. М., 2006. С. 17.
«Название “ипостась” имеет два значения. Иногда оно означает простое существование. В этом значении субстанция и ипостась одно и то же. Поэтому некоторые из святых отцов говорили: “природы или ипостаси”». Иоанн Дамаскин, преп. Философские главы // Источник знания. М., 2002. С. 90.
«Троичная Единица»; «единый свет Святой Троицы нераздельно трояко разделяемый ... недоведомо познаваем». Симеон Новый Богослов, преп. Гимн 28 // Симеон Новый Богослов, преп. Творения в 3 т. Т. 3. СТСЛ, 2017. С. 214–215. «Трисолнечный Свет». Симеон Новый Богослов, преп. Гимн 55 // Там же. С. 382.
Софроний (Сахаров), архим. Рождение в Царство Непоколебимое. М., 1999. С. 64; Та же мысль: Софроний (Сахаров), архим. Видеть Бога как Он есть. СТСЛ, 2016. С. 308.
Там же.
Там же.
Софроний (Сахаров), архим. Письмо от 16.03.1958 г. // Софроний (Сахаров), архим. Переписка с прот. Георгием Флоровским. СП, 2008. С. 58.
Флоровский Г., прот. Письмо от 15.05.1958 г. // Там же. С. 77.
Лосский Н. О. История русской философии. М., 1991. С. 217.
См.: Андроник (Трубачёв), иг. Путь к Богу. Кн. 1. М., 2012. С. 5.
Выражение «одна природа Бога Слова воплощенная» (μία φύσις τοῦ Θεοῦ Λόγου σεσαρκωμένη) впервые появилось у свт. Кирилла в сочинении «О правой вере к царицам» (Cyr. Alex. Or. ad Arc. 10 // ACO. T. 1. Vol. 1(5). P. 65). См.: Новиков В. В. и др. Кирилл // ПЭ. Т. 34. М., 2014. С. 276.
См.: Флоренский П., свящ. Столп... М., 2017. С. 79.
См.: критику персоналистического экзистенциализма в отношении учения об обожении: Larchet, J.–C. The Mode of Deification // The Oxford Handbook of Maximus the Confessor / Ed. Allen, P. and Neil. Oxford, 2015. P. 341– 359 (заметим, что в этой статье Ларше пользуется понятием антиномии).
Флоренский П., свящ. Столп... М., 2017. С. 79.
Экзистенциальная концепция вины, разработанная С. Кьеркегором и М. Хайдеггером, касается вины за преступления против самого себя. Согласно ей ощущение вины действует постольку, поскольку мы потерпели неудачу в осуществлении потенциала своей подлинности. См.: Ирвин Ялом. Экзистенциальная психотерапия / Пер. Т. С. Драбкиной. М., 1999 // URL: http://ligis.ru/psylib/090417/books/yalom01/index.htm
«Quia fecisti nos ad te et inquietum est cor nostrum, donec requiescat in te». S. Augustinus Hipponensis. Confessiones // PL 32, 661.
Флоренский П., свящ. Столп... М., 2017. С. 98.
См.: там же. С. 83.
ἡ δὲ γνῶσις ἀγάπη γίνεται. S. Gregorius Nyssenus. De anima et resurrectione // PG 46, 96. Ср.: Григорий Нисский, свт. О душе и воскресении. М., 2010. С. 226 (эпиграф к «Столпу и утверждению истины»).
Богопознание возможно в той мере, «сколько сами познаны (1Кор. 13:12)» Богом. Григорий Богослов, свт. Слово 28 // Григорий Богослов, свт. Творения: В 2 т. Т. 1. М., 2010. С. 341; Господь обожил нас настолько, насколько Сам стал по природе человеком. См.: Максим Исповедник, преп. Вопросоответы к Фалассию. М., 2021. С. 460.
Флоренский П., свящ. Разум и диалектика // Флоренский П., свящ. Соч. в 4-х тт. Т. 2. М., 1996. С. 134.
Там же.
См.: Флоренский П., свящ. Столп... М., 2017. С. 169.
В. Н. Лосский говорит об антиномичном понимании свт. Григорием Паламой слов апостола Петра причастники Божеского естества (2Пет. 1:4) как одновременно несообщаемой и сообщаемой Божественной природе. См.: Лосский В. Н. Боговидение. М., 2003. С. 162.
Архим. Софроний проводит параллель: каждое Лицо Святой Троицы является носителем абсолютной полноты Божественного Бытия (троичный догмат), так и человеческие личности, составляющие Церковь, должны стать носителями полноты Богочеловеческого бытия (халкидонский догмат). Догматы о Св. Троице и соединения Божественной и человеческой природ, называемых о. Софронием антиномиями, являются основами догмата о Церкви. См.: Софроний (Сахаров), архим. Рождение в Царство Непоколебимое. М., 1999. С. 85; Софроний (Сахаров), архим. Переписка с прот. Георгием Флоровским. СП, 2008. С. 57–58.
Митр. Каллист, защищая антиномический характер догматов, выстраивает следующую последовательность: единство и троичность Бога; Христос есть истинный Бог и одновременно истинный человек; освящённые на Евхаристии Тело и Кровь Спасителя не утрачивает природы хлеба и вина. См.: Каллист (Уэр), митр. Паламитские споры // Альфа и Омега. 2002. No 4 (34). С. 194.
См.: Мейендорф И., прот. Жизнь и труды святителя Григория Паламы. СПб., 1997. С. 281.
См.: Флоренский П., свящ. Столп... М., 2017. С. 118.
Там же. С. 675.
Там же. С. 13.
Там же. С. 14.
Там же. С. 10.
Антоний, митр. Сурожский. Божественная литургия. М., 2012. С. 120.
См.: Лосский В. Н. Боговидение. М., 2003. С. 234–235.
Флоренский П., свящ. Столп... М., 2017. С. 115.
Флоренский комментирует Псевдо-Дионисия, где θέωσις «некоторое, сколько возможное, уподобление и единение с Богом». Флоренский П., свящ. О типах возрастания // Флоренский П., свящ. Соч. в 4-х тт. Т. 1. М., 1994. С. 284. Термин «обóжение» у преп. Симеона Нового Богослова рассмотрен Флоренским в предметном указателе, составленным им к трём томам: Симеон Новый Богослов, преп. Творения в 3 т. Т. 3. СТСЛ, 2017. С. 472–474.
Цель жизни человека, согласно данной концепции платонизма, составляет обнаружение уже содержащегося внутри человека Божественного света, «припоминание» своей Вечности, а не встреча с совершенно новым и иноприродным Светом. См.: Павлюченков Н. Н. Религиозно-философское наследие священника Павла Флоренского. Антропологический аспект. М., 2013. С. 225.
См.: Флоренский П., свящ. Богословские труды 1908–1922. СП, 2020. С. 36.
Флоренский П., свящ. Столп... М., 2017. С. 148.
См.: там же.
Там же.
Там же. С. 151.
Там же.
Там же.
Там же. С. 152.
Там же.
Там же.
Рассуждая об антиномичности догмата Анри де Любак, указывает о необходимости для разума, «вопреки естественной лени», преодолеть «поверхностный слой бытия, где гнездятся противоречия». Любак, Анри де. Католичество. Социальные аспекты догмата. Милан, 1992. С. 95.
Флоренский П., свящ. Столп... М., 2017. С. 165.
Там же. С. 166.
Там же.
Там же. С. 167.
См.: Ларше Ж.-К. Лицо и природа. М., 2021. С. 108.
Фаст Г., прот. Толкование на книгу Экклезиаст. Красноярск, 2009. С. 140.
Трубецкой Е. Н. Свет Фаворский и преображение ума // П. А. Флоренский: pro et contra. СПб., 2001. С. 295.
Хоружий С. С. Миросозерцание Флоренского. Томск, 1999. С. 78.
Там же. С. 82. Логика С. С. Хоружего соответствует положению: истина – от разума. Следуя этим рассуждениям, можно заключить о существовании «догмата» о необходимости для религиозной истины находиться в рамках трёх законов формальной логики, когда Откровение обязано быть непротиворечивым. В этом отношении рационализм и антиномизм являются антиподами. Что же касается догматизации, то в прямом значении этого понятия догматы являются плодом соборного разума Церкви.
См.: там же. С. 82–83. Ср.: «Все догматы антиномичны и не поддаются деспотизму логики». Карташев А. В. Вселенские Соборы. Клин, 2002. С. 469.
См.: Флоренский П., свящ. Столп... М., 2017. С. 152.
См.: Давыденков О., прот. Догматическое богословие. М., 2014. С. 131. Обратим внимание, что связка пропозиций выдаёт противоречивый характер высказывания: «Они суть не три Бога, а один Бог» («суть» говорит о множественном числе).
Утренние молитвы / Православный молитвослов. М., 2011. С. 6.
См.: Каллист (Уэр), митр. Паламитские споры // Альфа и Омега. 2002 No 4 (34). С. 192.
См.: Максим Исповедник, преп. Амбигвы. М., 2020. С. 195.
Хотя текст Никео-Константинопольского символа веры может свидетельствовать об обратном: «Верую во Единого Бога Отца <...> и во Единого Господа Иисуса Христа <...> и в Духа Святого Господа Животворящего».
Трубецкой Е. Н. Свет Фаворский и преображение ума // П. А. Флоренский: pro et contra. СПб., 2001. С. 296. Диаметрально противоположное мнение у проф. А. В. Карташева, называвшего халкидонский догмат «антиномией из антиномий». Карташев А. В. Вселенские Соборы. Клин, 2002. С. 368. «Священная антиномия Халкидонского догмата, спасающая нас от противоположных ересей несторианства <...> и монофизитства». Карташев А. В. Русское христианство / Карташев А. В. Церковь. История. Россия. Статьи и выступления. М., 1996. С. 155.
Г. У. Бальтазар понимает «Софию» прот. С. Булгакова как трудноопределимую промежуточную сущность между Богом и миром. См.: Бальтазар Г. У. Космическая литургия. Миросозерцание Максима Исповедника. М., 2021. С. 160.
Характерно выражение свт. Григория Паламы о Богоматери: «грань тварного и нетварного». Григорий Палама, свт. Омилия 37 // Цит. по: Лосский В. Н. Боговидение. М., 2003. С. 264.
П. Н. Евдокимов, ссылаясь на о. С. Булгакова, говорит, что если на браке в Кане Галилейской вода превращается в вино и одна материя мира сего уступает место другой, но принадлежащей той же природе мира сего, то чудо является физическим. Когда же Евхаристические хлеб и вино становятся реальностью не от мира сего – в этом случае чудо является метафизическим. «Евхаристическая антиномия распинает наш ум...» Евдокимов П. Н. Православие. М., 2002. С. 348.
«Ум же и душа, не смешиваясь, произносят внутреннее слово для людей и остаются такими же не раздельными, неизменными и совершенно неслитными». Симеон Новый Богослов, преп. Гимн 42 // Симеон Новый Богослов, преп. Творения в 3 т. Т. 3. СТСЛ, 2017. С. 313.
Ср.: «Синод разделяет то, что нераздельно, а вы хотите слить неслиянное». Флоренский П., свящ. Ответ на письмо имяславцев с Кавказа 1923 г. // Флоренский П., свящ. У водоразделов мысли. Т. 1. М., 2017. С. 379.
Образ неопалимой купины широко распространён в иконо- и гимнографии и вообще христианской литературе, в первую очередь, применительно к Божией Матери. См.: Малков П. Ю., Иванов М. С., Васечко В. Н., Квливидзе Н. В. Богородица // ПЭ. Т. 5. М., 2002. С. 486–504. Также этот символ используется для описания приобщения к Богу: «Каким образом Тебя, непостижимого <...> и неприступного и держать, и целовать, и видеть, и вкушать, и иметь в сердце своем, Христе, сподобляюсь я, и остаюсь неопалимым?» Симеон Новый Богослов, преп. Гимн 38 // Симеон Новый Богослов, преп. Творения в 3 т. Т. 3. СТСЛ, 2017. С. 267–268. Из его же молитвы ко Св. Причащению: «Огневи причащаюся трава сый, и странно чудо, орошаемь неопально, якоже убо купина древле неопальне горящи». Православный молитвослов. М., 2011. С. 125.
Григорий Богослов, свт. Слово 28 // Григорий Богослов, свт. Творения. В 2-х тт. Т. 1. М., 2010. С. 333. Также и в 25 слове он говорит о непостижимости раздельности и единства Единицы в Троицы и Троицы в Единице. Там же. С. 314.
См.: Noble T. A. Paradox in Gregory Nazianzen’s Doctrine of the Trinity // Studia Patristica. 1993. No 27. Р. 94–99.
Симеон Новый Богослов, преп. Гимн 45 // Там же. С. 325. Ср.: «Единого Бога в Троице и Троицу в Единице почитаем, не сливая Лиц и не разделяя единого существа Божия». Иоанн Кронштадтский, св. прав. Вероучительные беседы // Иоанн Кронштадтский, св. прав. Собр. соч. в 6-ти тт. Т. 3. Киев, 2006. С. 7.
Григорий Палама, свт. Омилия 37 // Цит. по: Лосский В. Н. Боговидение. М., 2003. С. 264. Ср: Божия Матерь стоит на «границе тварной и нетварной природ». Григорий Палама, свт. Проповедь на Благовещение Богородицы // Жизнь во Христе согласно учению свт. Григория Паламы / Под ред. архим. Мефодия (Алексиу). М., 2018. С. 73. Ср.: «Божия Матерь стоит на черте, отделяющей тварь от Творца». Флоренский П., свящ. Столп... М., 2017. С. 362.
См.: Мейендорф И., прот. Жизнь и труды святителя Григория Паламы. СПб., 1997. С. 281. Ср.: тот, кто стяжал Слово Божие, «стал безначальным и бесконечным». Максим Исповедник, преп. Амбигвы. М., 2020. С. 370.
Толкование Евангелия от Матфея и Толкование Евангелия от Иоанна, составленные по древним святоотеческим толкованиям византийским XII века ученым монахом Евфимием Зигабеном. СПб, 2000 // Цит. по: Сидоров А. И. Святоотеческое наследие... Т. 1. М., 2011. С. 339.
Там же. С. 346. «Рассматривая проблему неведения Господа, он [преп. Иоанн Дамаскин], как и подавляющее большинство из них [предшествующих отцов], не мыслит в рамках дилеммы “или – или”, предпочитая стиль “мирной антиномии”, то есть “и – и”. Для преп. Иоанна Господь одновременно является и неведующим, и обладающим знанием». Там же. С. 336.
Cм.: Brown C. The Divine Trinity. London, 1985. P. 224–239.
См.: Anderson J. Paradox in Christian Theology: An analysis of its presence, character, and epistemic status. Milton Keynes, 2007. Р. 83.
Флоренский П., свящ. Отзыв на магистерскую дисс. А. М. Туберовского «Воскресение Христово. Опыт православной мистической идеологии догмата» // Флоренский П., свящ. Богословские труды 1908–1922. СП, 2020. С. 324–328.
Ср.: «Ты имеешь единую природу мыслящей и божественной души, которая неслиянна и одновременно неотделима от ума и разума и суть одно». Никита Стифат, преп. Против иудеев // Цит. по: Сидоров А. И. Святоотеческое наследие... Т. 6. М., 2022. С. 235
«Упущение из виду этого безжалостного к себе отношения было, есть и будет всегда причиной безуспешности наших духовных побед». Никодим Святогорец, преп. Невидимая брань / Пер. с греч. свт. Феофана Затворника. М., 2014. С. 74; «Делания же сии да совершаются у тебя без принуждения и насилия сердца, чтоб не изнемочь тебе от неразумного утомления себя понудительными упражнениями, не ожестеть от того и не сделаться неспособным к принятию воздействий благодати». Там же. С. 363.
Флоренский П., свящ. Столп... М., 2017. С. 169.
См.: Иоанн Златоуст, свт. Беседа 42 // Иоанн Златоуст, свт. Творения. Т. 10. Кн. 1. СПб, 1904. С. 433.
См.: Иоанн Златоуст, свт. Беседа 42 // Иоанн Златоуст, свт. Творения. Т. 10. Кн. 1. СПб, 1904. С. 433.
Флоренский П., свящ. Столп... М., 2017. С. 169.
См.: Павловы послания: комментированное издание. М., 2017. С. 109.
Игнатий (Брянчанинов), свт. Отечник. Соб. Соч. Т. 6. М., 2011. С. 36.
Софроний (Сахаров), архим. Преподобный Силуан Афонский. Мн., 2003. С. 208.
См.: там же.
См.: Бальтазар Г. У. Космическая литургия. М., 2021. С. 310.
См. там же. С. 309.
Последование малого образа, еже есть мантия // Требник монашеский. М., 2003. С. 21–26.
Адаменко В., свящ. Требник на русском языке. Н. Новгород, 1927. С. 176.
Иоанн Дамаскин, преп. Точное изложение православной веры. 3, 18 // Цит. по: Флоренский П., свящ. Столп и утверждение истины. М., 2017. С. 170.
S. Joannes Damascenus. Expositio fidei // PG 94, 1077.
Напр., см.: Иоанн Дамаскин, преп. "Точное изложение православной веры". 2, 22. М., 2019. С. 203.
Аналогичны переводы А. А. Бронзова (Иоанн Дамаскин, преп. "Точное изложение православной веры". 3, 18. М., 2019. С. 314) и С. М. Зарина (Полное собрание творений св. Иоанна Дамаскина. Т. 1. СПб., 1913. С. 283).
Пеликан Я. Христианская традиция: история развития вероучения. Т. 1. М., 2007. С. 306.
См.: Герасимова И. А. П. А. Флоренский о противоречии (логико-методологический анализ) //Логические исследования. 2012. Т. 18. C. 89.
Там же. С. 90.
«Грех преизобиловал через закон, поскольку через закон пришло познание греха». Амвросий Медиоланский, свт. Послания. Cl. 0160, 9.63.8.82 // Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I–VIII веков. Новый Завет. Т. VI. Тверь, 2003. С. 229.
Там же. С. 92.
Флоренский П., свящ. Столп... М., 2017. С. 170.
См.: Иосиф Исихаст, монах. Выражение монашеского опыта. СТСЛ, 2006. С. 26.
Филарет (Дроздов), свт. Молитвы // URL: azbyka.ru/otechnik/Filaret_Moskovskij/molitvy
См.: Иоанн Кронштадтский, св. прав. Моя жизнь во Христе. Киев, 2006. С. 558.
Герасимова И.А. П.А. Флоренский о противоречии (логико-методологический анализ) // Логические исследования. 2012. Т. 18. C. 93.
Там же.
Там же. С. 94.
Там же.
Там же.
Там же. С. 95.
См.: Антоний, митр. Сурожский. Труды. Кн. 1. М., 2012. С. 231, 411. Ср.: «Истина есть сущее». Дионисий Ареопагит. О божественных именах // Дионисий Ареопагит. Корпус сочинений. СПб., 2017. С. 264.
Флоренский П., свящ. Столп... М., 2017. С. 172–173. Это же противопоставление использует св. Иоанн Кронштадтский: поскольку Бог есть Сущий, то отпавший от Него диавол есть виновник не сущего, мечтательного, прéлестного. См.: Иоанн Кронштадтский, св. прав. Моя жизнь во Христе. Киев, 2006. С. 524.
По учению преп. Максима, зло не обладает в сущих никакой сущностью, природой, ипостасью, силой или деятельностью. См.: Максим Исповедник, преп. Вопросоответы к Фалассию. М., 2021. С. 25. См. также его комментарий к: Дионисий Ареопагит. О божественных именах // Дионисий Ареопагит. Корпус сочинений. СПб., 2017. С. 167–224 (здесь широко представлено обоснование тезиса о безыпостасности зла). См. ссылки преп. Максима о нечестивцах: он прошел и нет его; ищу его и не нахожу (Пс.36:36); и будут как бы их не было (Авд.1:16).
Флоренский П., свящ. Столп... М., 2017. С. 173.
Там же. С. 182.
Разрешение антиномии возможно «лишь в фактическом преобразовании самой действительности, при каковом синтез тезиса и антитезиса переживается как факт, как прямая опытная данность, опирающаяся в своей оправданности на Триипостасную Истину». Там же. С. 216.
Там же. С. 214.
См.: Резвых Т. Н. Кантианские мотивы в обосновании идеи спасения в книге «Столп и утверждение Истины» / «Философствовать в религии». М., 2017. С. 54.
Флоренский П., свящ. Столп... М., 2017. С. 258.
См.: Андроник (Трубачёв), иг. Путь к Богу. Книга 3. СП, 2015. С. 64.
Там же. С. 64.
Флоренский П., свящ. Столп... М., 2017. С. 246.
Там же. С. 251.
Андроник (Трубачёв), иг. Путь к Богу. Кн. 3. СП, 2015. С. 64.
Там же. С. 65.
См.: там же.
См.: Флоренский П., свящ. Столп... М., 2017. С. 214.
См.: Андроник (Трубачёв), иг. Путь к Богу. Кн. 3. СП, 2015. С. 65.
См.: там же. С. 66.
Т. Н. Резвых в разделении «самого» и «самости» видит влияние кантовского различения умопостигаемого и эмпирического характеров как ноуменального и феноменального в человеке. См.: Резвых Т. Н. Кантианские мотивы в обосновании идеи спасения в книге «Столп и утверждение Истины» / «Философствовать в религии». М., 2017. С. 63. Это утверждение вызывает несогласие, так как «сам» и «самость» не находятся в отношении ноумена и феномена, «самость» не выявляет образ Божий.
Вместе с тем невозможно отрицать влияние кантовской философии на мысль Флоренского, характер этого отношения справедливо обозначен как амбивалентный. См.: Haney F. M. Pavel Florenskij und Kant – eine wichtige seite der russischen Kant-Rezeption / Kant-Studien. 2001. No 92. S. 81.
Ср.: «Не смешивай человека – этот образ Божий – со злом, которое в нем, потому что зло есть только случайное его несчастие, болезнь, мечта бесовская, но существо его – образ Божий – всё-таки в нём остаётся». Иоанн Кронштадтский, св. прав. Соб. Соч. в 6 т. Т. 1. Моя жизнь во Христе. Киев, 2006. С. 435.
Разделение Флоренским личности на два «я» находит критику: Лосский Н. О. История русской философии. М., 1991. С. 218–219.
Фиксация Флоренского на этих апостольских словах не позволяет согласиться с утверждением, что в случае распада самого и его самости происходит уничтожение человека: «Когда это единство [идеального и эмпирического] нарушается, человек уничтожается...» Павлюченков Н. Н. Религиозно-философское наследие священника Павла Флоренского. М., 2013. С. 172. Вопрос об уничтожении человека также можно рассмотреть антиномически: благодаря Богу как Жизни вечной можно говорить о «живущих как о бессмертных, но с другой стороны – и как о небессмертных, – потому что они не сами по себе имеют возможность бессмертно быть и вечно жить, но – от животворящей <...> Причины». Дионисий Ареопагит. О божественных именах // Дионисий Ареопагит. Корпус сочинений. СПб., 2017. С. 244.
Напр., у того же ап. Павла: 1Кор. 6:9–10; Рим. 2:5–8; 6:23; 2Кор. 2:15,16; Фил. 3:19; 2Фес. 1:6–9; Евр. 10:26, 27.
См.: Иоанн Златоуст, свт. Беседа 9 // Иоанн Златоуст, свт. Творения. Т. 10. Кн. 1. СПб, 1904. С. 88; Анастасий Синаит, преп. Вопросы и ответы. М., 2015. С. 279; Феофилакт Болгарский, св. блаж. Толкования на Апостол. М., 2004. С. 229; Марк Ефесский, свт. Опровержение латинских глав относительно очистительного огня. Слово первое // Цит. по: Св. Марк Ефесский и Флорентийская уния. М., 1994. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Mark_Efesskij/slovo-pervoe-ob-ochistitelnom-ogne/
Максим Исповедник, преп. Вопросы и недоумения. М., 2010. С. 173.
Андроник (Трубачёв), иг. Путь к Богу. Кн. 3. СП, 2015. С. 66.
Флоренский П., свящ. Столп... М., 2017. С. 280. Эта же мысль прослеживается в его работе 1904 г. «О суеверии и чуде».
Там же. С. 282–283.
Там же. С. 303.
Там же.
Слова переданы свт. Григорием: Григорий Богослов, свт. Слово 43 // Григорий Богослов, свт. Творения: В 2 т. Т. 1. М., 2010. С. 535. Ср.: «разумное животное», «одуховлённое животное». Феофан Затворник, свт. Собрание писем в 5 т. Т. 5. М., 2012. С. 46.
Флоренский П., свящ. Столп... М., 2017. С. 324. В этом письме Флоренский говорит, что речь веры – символическая, своё знание вера облекает в образный язык, «последовательными противоречиями» – ещё одно обозначение антиномии – прикрывающий высшую истинность и глубину созерцания. Там же. С. 339.
Флоровский Г., прот. Пути русского богословия. Мн., 2006. С. 485.
Флоренский П., свящ. Столп... М., 2017. С. 327.
Там же. С. 329.
Там же. С. 335.
См.: Флоренский П., свящ. У водоразделов мысли. Т. 1. М., 2017. С. 366.
Ср. употребление слова «ипостась» преп. Максимом Исповедником в смысле совокупности всего тварного как целостности, универсальной субстанции: «[Святые] не разделяя, разложили существование (ὑπόστασιν) всего на сущность, различие и движение...» Максим Исповедник, преп. Амбигвы. М., 2020. С. 364. Συνάψαντες δὲ πάλιν τῇ κινήσει τὴν θέσιν, καί τήν κράσιν τῇ διαφορᾷ, εἰς οὐσίαν καί διαφοράν καί κίνησιν τήν τοῦ παντός ἀδιαιρέτως διέκριναν ὑπόστασιν... PG. T. 91, 149b. Col. 1136B.
Флоренский П., свящ. Столп... М., 2017. С. 352.
См.: Павлюченков Н. Н. Религиозно-философское наследие священника Павла Флоренского. М., 2013. С. 99.
Поскольку в твари присутствует отпечаток Творца, «то истинная и созидательная Премудрость, восприемля на Себя принадлежащее отпечатку Её, справедливо говорит о Себе: Господь созда Мя в дела Своя». Афанасий Великий, свт. Против ариан слово второе // Афанасий Великий, свт. Творения: В 3 т. Т. 1. М., 2015. С. 294.
См.: Флоренский П., свящ. Столп... М., 2017. С. 346. «Господь созда Мя начало путей Своих... значит: Отец тело... совершил Ми есть (Евр. 10:5) и созда Мя для человеков, ради человеческого спасения». Свт. Афанасий Великий. На ариан слово второе // Свт. Афанасий Великий. Творения. СТСЛ, 1902. Т. 2. С. 323. Аналогичное толкование свт. Григория Богослова: «Поелику здесь находим слово созда, и другое ясное речение: раждает мя (Притч. 8:25), то объяснение просто. Сказанное с присовокуплением причины припишем человечеству, а сказанное просто, без присовокупления причины, отнесем к Божеству». Свт. Григорий Богослов. Слово 30 // Свт. Григорий Богослов. Творения: В 2 т. Т. 1. М., 2010. С. 364.
Флоренский П., свящ. Столп... М., 2017. С. 347.
«Конечно, нет никакого сомнения, что у свв. отцов под словом София весьма нередко разумеется Слово Божие, Вторая Ипостась Пресвятой Троицы...». Там же. С. 374.
Там же. С. 354.
См.: там же. С. 358–362.
Там же. С. 356.
См.: Андроник (Трубачёв), иг. Путь к Богу. Кн. 3. СП, 2015. С. 72.
Там же. С. 396.
«Пределом» этого письма автор обозначает уяснение церковного сознания: «нет ничего более чуждого целям моей работы, как желание изложить “свою” систему <...> если тут, в моей работе, есть какие-нибудь “мои” взгляды, то – лишь от недомыслия моего, незнания или непонимания». Там же. С. 363.
См.: Зеньковский В., прот. История русской философии. М., 2001. С. 790.
См.: Шмеман А., прот. Три образа // Шмеман А., прот. Собрание статей 1947–1983. М., 2009. С. 857.
См.: Ваганова Н. А. Софиология протоиерея Сергия Булгакова. М., 2011. С. 15–276.
Например, аскетизм и ценность твари, девство и духоносность, ведение Премудрости и любовь к телу, подвиг и познание Истины, удаление от тли и любовь – автор уподобляет парно-противоположным граням правильного 10-гранника. См.: Флоренский П., свящ. Столп... М., 2017. С. 357. Грани данной фигуры не находятся строго друг против друга, каждая грань лежит напротив двух смежных. Указанные стороны духовной жизни также далеки от диаметральности, говорить об их противоположности можно только в самом не строгом смысле. Предложенное сравнение их с правильным 10-гранником вполне точное, сам же пример расходится с теорией антиномизма.
Флоренский П., свящ. Имена // Флоренский П., свящ. У водоразделов мысли. Т. 2. М., 2017. С. 244.
См.: Флоренский П., свящ. Столп... М., 2017. С. 324. С. М. Половинкин говорит о 26 антиномических смыслах, придаваемых Флоренским Софии в разное время. См.: Половинкин С. М. Антиномическое понимание Софии у священника Павла Флоренского // Софиология и неопатристический синтез: богословские итоги философского развития: Сборник научных статей. М., 2013. С. 44.
«Бог благоволил, чтобы Премудрость Его снизошла к тварям, чтобы во всех вообще тварях и в каждой в отдельности были положены некий отпечаток и подобие Его образа». Афанасий Великий, свт. На ариан слово второе // Афанасий Великий, свт. Творения. Т. 1. М., 2015. С. 294.
Флоренский П., свящ. Столп... М., 2017. С. 354.
Василий (Кривошеин), архиеп. Богословские труды. Н. Новгород, 2011. С. 85. Согласно прот. Сергию Булгакову, данная антиномия представляет собой основную антиномию религиозного сознания. Булгаков С. Н. Свет Невечерний: созерцания и умозрения. М., 2001. С. 154. Здесь же указывается, что проблема антиномизма в мышлении наиболее радикально поставлена в книге «Столп и утверждение Истины». См.: там же. С. 154–155.
См.: Лосев А. Ф. Владимир Соловьев и его время. М., 2000. С. 204. О влиянии гностицизма на философию В. С. Соловьева см.: Козырев А. П. Соловьев и гностики. М., 2007.
См.: Соловьев В. С. Россия и Вселенская Церковь. Мн., 1999. С. 439. См. критику данного мнения в 701 сноске «Столпа»: «То, о чем учит С-ев, несомненно примыкает к савеллианству, к спинозизму, к шеллингианству, по крайней мере в его первом фазисе». С. 774.
Казарян А. Т. и др. Булгаков // ПЭ. Т. 6. М., 2003. С. 357.
Такая неразличимость характерна для: Ларше Ж.-К. «Последуя святым отцам...» Жизнь и труды протоиерея Георгия Флоровского. М., 2022. С. 26, 69, 78, 79, 82, 88, 102, 107, 111.
В Новом Завете φιλέω встречается около 20 раз, ἀγαπάω – около 100. См.: Ианнуарий (Ивлиев), архим. Жемчужины Нагорной проповеди. М., 2020. С. 198.
Флоренский П., свящ. Столп... М., 2017. С. 411.
Там же.
Там же.
См.: там же. С. 414.
См.: там же. С. 453.
См.: там же. С. 433.
См.: там же. С. 435–436.
См.: там же. С. 440.
Ср.: «Соединённые [любовью] друг с другом, мы имеем одну душу, хотя и носим два тела <...> [любовь] может соделать единое и невозмутимое тождество по духу во многих или во всех». Максим Исповедник, преп. Вопросоответы к Фалассию. М., 2021. С. 17.
Флоренский П., свящ. Столп... М., 2017. С. 440.
Там же.
Там же. С. 439.
Там же.
Там же. С. 441.
Там же. С. 422.
Там же. С. 420.
Там же.
Там же.
Там же. С. 421.
См.: там же. С. 421. Ср.: градация свидетелей Богоявления на Синае, представленная у свт. Григория Богослова: 1) Моисей, 2) Аарон, 3) Ифамар и Елеазар, 4) старейшины, 5) простолюдины. Григорий Богослов, свт. Слово 32 // Григорий Богослов, свт. Творения: В 2 т. Т. 1. Слова. М., 2010. С. 399.
Флоренский П., свящ. Столп... М., 2017. С. 421.
См.: там же. С. 415–416.
См.: там же. С. 416.
См.: там же. С. 462.
Там же. С. 479.
Исаак Сирин, преп. Слово 32 // Исаак Сирин, преп. Слова подвижнические. М., 2012. С. 234–235.
Флоренский П., свящ. Столп... М., 2017. С. 473.
Там же. С. 476.
Там же. С. 153.
См.: там же.
См.: там же. С. 156.
См.: там же. С. 157.
Там же.
См.: Бирюков Б. В., Прядко И. П. П. А. Флоренский: философско-логические идеи как средство экспликации философско-теологических воззрений // Вестник Моск. ун-та. Сер. 7. Философия. 2011. No 1. С. 28.
См.: Прядко И. П. Противоречие в логических учениях начала ХХ в.: новаторские разработки Н. А. Васильева и П. А. Флоренского // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Философские науки. 2020. No 2. С. 106.
Cм.: Graham L., Kantor J.-M. Naming infinity: a true story of religious mysticism and mathematical creativity. Cambridge, London, 2009. Р. 6.
См.: Флоренский П., свящ. Столп... М., 2017. С. 497. Задача о трёх парикмахерах Аллене, Брауне и Карре, один из которых всегда находится в парикмахерской. Браун появляется в парикмахерской, только вместе Алленом. Рассматривается вариант, когда из парикмахерской выходят Карр и Аллен, где тогда должен быть Браун? См.: Rojek Р. Pavel Florensky’s Theory of Religious Antinomies // Logica Universalis. 2019. No 13. Р. 522.
Там же. С. 501.
См.: Сидоренко Е. А. Логистика и теодицея (Идеи немонотонной и паранепротиворечивой логики у П. Флоренского) // Сидоренко Е. А. Логика. Парадоксы. Возможные миры. М., 2002. С. 183.
См.: там же. С. 177.
См.: там же. С. 182.
См.: Герасимова И. А. П. А. Флоренский о противоречии (логико-методологический анализ) //Логические исследования. 2012. Т. 18. C. 79.
См.: Бирюков Б. В. Из истории математической логики в России: «задача Кэрролла» в трактовке о. Павла Флоренского. // Логические исследования. 1998. Т. 6. С. 169.
См.: там же. Б. В. Бирюков ссылается на публикацию: Сидоренко E.А. П. Флоренский: логика и теодицея // Тезисы докладов научной конференции «Современная логика: проблемы теории, истории и применения в науке». СПб., 1996.
Там же.
Там же.
Там же.
См.: Флоренский П., свящ. Столп... М., 2017. С. 502.
Бирюков Б. В., Прядко И. П. Проблема логического противоречия и русская религиозная философия // Логические исследования. Вып. 16. 2010. С. 59.
Бочаров В. А. Павел Флоренский и логика // Седьмые Смирновские чтения. Материалы научной конференции. Москва. 22–24 июня 2011. М., 2011. С. 122–125 // Цит. по: Герасимова И. А. П. А. Флоренский о противоречии (логико-методологический анализ) // Логические исследования. 2012. Т. 18. C. 78.
Бочаров В. А. Методологический атеизм научен // Религиоведение. 2004. No 2. С. 142–144.
См.: Bronnikov A. Florensky and science. In: Obolevitch, T., Rojek, P. (eds.) Faith and Reason in Russian Thought. Krakow, 2015. Р. 91, 113. // Цит. по: Rojek Р. Pavel Florensky’s Theory of Religious Antinomies // Logica Universalis. 2019. No 13. Р. 517.
Егоров Д. Ф. Письма Д. Ф. Егорова к Н. Н. Лузину // Историко-математические исследования. Вып. 25. М., 1980. С. 355.
См.: Моисеев В. И. Логика всеединства. М, 2002. С. 176.
Moore H. J. Antinomism in Twentieth‐Century Russian Philosophy: The Case of Pavel Florensky // Studies in East European Thought. 2021. No 73. Р. 62.
«Тautologies of propositional calculus». Rojek Р. Pavel Florensky’s Theory of Religious Antinomies // Logica Universalis. 2019. No 13. Р. 521.
См.: там же.
Rhodes M.C. Logical proof of antinomy: a trinitarian interpretation of the law of identity // TheАndros. 2005. No 2 (3) // Цит. по: Rojek Р. Pavel Florensky’s Theory of Religious Antinomies // Logica Universalis. 2019. No 13. Р. 528.
См.: Rhodes M.C. Note on Florensky’s solution to Carroll’s Barbershop paradox: reverse implication for Russell? // Philosophia. 2012. No 40. Р. 614. Данная опечатка перешла в: Florensky P.A. The Pillar and Ground of the Truth: An Essay in Orthodox Theodicy in Twelve Letters. Princeton: Princeton University Press, 2004. Р. 356; Флоренский П., свящ. Столп... М., 2017. С. 498. Исправлено в издании: Флоренский П. А. Столп и утверждение Истины: Опыт православной теодицеи. М.: АСТ, 2003. С. 393.
См.: Антипенко Л. Г. Флоренский П. А. о логическом и символическом аспектах научно-философского мышления. М., 2012. С. 5 (данная монография открывается посвящением Е. А. Сидоренко).
Иустин (Попович), преп. Творения. Т. 3. М., 2006. С. 187.
Преп. Иустин пишет о том, что Спаситель смертью побеждает смерть и «тем самым возводит тайну спасения к парадоксальной антиномии: “мертвое тело победило живого змия”. Эта над-умная антиномия и есть “θαῦμα μέγιστον” – “чудо величайшее” <...>. Распятый Христос <...> становится скандальной и безумной антиномией, которую можно принять лишь подвигом над-рациональной веры». Иустин (Попович), преп. Творения. Т. 1. М., 2004. С. 261. Ср. о смерти-успении Богоматери: смерть убоялась даже смотреть на неё, «эта “антиномия” живоносной смерти Богоматери не должна быть устраняема человеческими домыслами» западного богословия. Афанасий (Евтич), еп. Успение Пресвятой Богородицы у святого Иоанна Дамаскина // URL: azbyka.ru/otechnik/afanasij-evtich/uchenie-o-presvjatoj-bogoroditse-u-svjatogo-ioanna-damaskina
О. Иоанн говорит о «недавно опубликованных лекциях» Флоренского, прочитанных им в первые годы после революции, в которых намечено начало «захватывающего синтеза» религиозного и научного мировоззрений. Мейендорф И., прот. Пасхальная тайна. Статьи по богословию. М., 2013. С. 112. Вероятно, имеется в виду: Священник Павел Флоренский. Из богословского наследия / подг. к изд. по рукописи А. С. Трубачевым // Богословские труды. М., 1977. Сб. 17. С. 87–248.
Булгаков С., прот. Свет Невечерний: созерцания и умозрения. М., 2001. С. 155. Сравнение антиномий Флоренского и Булгакова намечено в статье Приможа Кречича (Люблянский университет): Primož Krečič. Development and Reality of Antinomy in Russian Religious Thought // Bogoslovni vestnik. 2012 No 4 (72). S. 653–664. Основной характеристикой, отличающей антиномизм Булгакова от антиномизма Флоренского, словенский исследователь видит в его трагизме (точно так же, как и Порус В. Н. Павел Флоренский: опыт антиномической философии культуры. М., 2006. С. 65). А. В. Ахутин обратил внимание на специфическую формулировку Булгакова: «критический антиномизм» как антипод догматическому рационализму, что напоминает происхождение кантовских антиномий. См.: Ахутин А. В. София и черт (Кант перед лицом русской религиозной метафизики) // Вопросы философии. 1991. No 1. С. 63.
Максим Исповедник, преп. Толкования // Дионисий Ареопагит. Корпус сочинений. СПб, 2017. С. 291 (речь идёт о явлении противоположности в широком смысле, например, мысли и чувства, воды и земли).
Андроник (Трубачёв), иг. Путь к Богу. Кн. 5. Фонд, 2018. С. 337. Понятие «антроподицея» использует Иустин (Попович), преп. Философские пропасти. М., 2004. С. 164, а также Сидоров А. И. Святоотеческое наследие... Т. 6. М., 2022. С. 443.
См.: Андроник (Трубачёв), иг. Путь к Богу. Кн. 5. Фонд, 2018. С. 337.
Флоренский П., свящ. Из истории античной философии. М., 2015. С. 176.
См.: там же.
См.: Андроник (Трубачёв), иг. Путь к Богу. Кн. 3. Фонд, 2015. С. 114.
Флоренский П. А. Пределы гносеологии // Богословский вестник. 1913 г. Т. 1. No1. С. 147–174 // См.: Флоренский П., свящ. Соч. в 4-х тт. Т. 2. М., 1996. С. 736.
Флоренский П., свящ. Введение в историю античной философии. Лекции 12, 13, 14 // Флоренский П., свящ. Из истории античной философии. М., 2015. С. 128–158.
См.: Флоренский П., свящ. Пределы гносеологии // Флоренский П., свящ. Соч. в 4-х тт. Т. 2. М., 1996. С. 35.
См.: там же.
Соловьев В. С. Кант / Статья из энциклопедического словаря / Соловьев В. С. Соч. в 2 т. 2-е изд. Т. 2. М., 1990. С. 454.
Флоренский П., свящ. Пределы гносеологии // Флоренский П., свящ. Соч. в 4-х тт. Т. 2. М., 1996. С. 36.
См.: Антипенко Л. Г. П. А. Флоренский о логическом и символическом аспектах научно-философского мышления. М., 2012. С. 49.
Флоренский П., свящ. Пределы гносеологии // Флоренский П., свящ. Соч. в 4-х тт. Т. 2. М., 1996. С. 36.
Там же. С. 51.
Там же.
Там же. С. 56.
Там же.
Там же. С. 57.
Там же.
Лосский Н. О. Обоснование интуитивизма. С. 207. // Цит. по: Флоренский П., свящ. Из истории античной философии. М., 2015. С. 135.
Там же.
Флоренский П., свящ. Из истории античной философии. М., 2015. С. 135.
Там же.
Каринский М. И. Классификация выводов. СПб., 1880. С. 88. // Цит. по: Флоренский П., свящ. Из истории античной философии. М., 2015. С. 139. «Всякая данность есть она сама» – общий тезис П. А. Флоренского и М. И. Каринского. См.: Шевцов А. В. Учение об истине: П. А. Флоренский и М. И. Каринский / «Философствовать в религии». М., 2017. С. 137.
См.: Флоренский П., свящ. Из истории античной философии. М., 2015. С. 140.
Там же.
Флоренский П., свящ. Пределы гносеологии // Флоренский П., свящ. Сочинения в 4-х тт. Т. 2. М., 1996. С. 36.
Там же. С. 34–35.
См.: Флоренский П., свящ. Из истории античной философии. М., 2015. С. 141.
Там же. С. 141–142.
Там же. С. 142. Ср.: Искрит и плещет Мир в игре, / А я – как будто на горе / И с высоты холодной мог / Увидеть время поперек. Флоренский П., свящ. Поэма «Оро» // Флоренский П., свящ. Все думы – о вас. СПб., 2004. С. 477.
Флоренский П., свящ. Из истории античной философии. М., 2015. С. 149.
См.: там же. С. 150.
Там же. С. 151.
Там же. С. 144.
Там же. 146.
См.: Флоренский П., свящ. Философия культа (Опыт православной антроподицеи). М., 2014. С. 49.
«В любви совершенно нет страха, однако без страха этот плод не может родиться в душе <...> Каким образом плод бывает без дерева, – я совершенно не могу изъяснить». Симеон Новый Богослов, преп. Гимн 2 // Симеон Новый Богослов, преп. Творения в 3 т. Т. 3. СТСЛ, 2017. С. 82. Описывая страх Божий преп. Симеон фактически пользуется антиномией: в любви нет страха, но без страха не созреть любви (одновременно предполагают и исключают друг друга); страх сковывает, любовь раскрывает; страх отмечает дистанцию, любовь сокращает её. Вторая часть фразы о том, что преп. Симеон не находит объяснения совместного действия любви и страха, подтверждает наличие противоречия, в котором страх не вытесняется любовью.
Там же. С. 30–31.
Там же. С. 31.
Там же.
См.: там же. С. 34. Иоанн Кронштадтский, св. прав. Дневник. Т. 16. 1871–1872. Тверь, 2008. С. 421. Ср.: «Крест образ Троицы». Иоанн Кронштадтский, св. прав. Мысли о Церкви и православном богослужении // Иоанн Кронштадтский, св. прав. Собр. соч. в 6-ти тт. Т. 2. Киев, 2006. С. 78.
Флоренский П., свящ. Философия культа. М., 2014. С. 34.
Возможен перевод: первообраз – образ – вместообразное. В рукописи Флоренского после ἔκτυπος дописано «или ἀντίτυπον, вместообразный». См.: там же. С. 507; «ἔκτυπος – изображение в виде рельефа, выпуклый». Древнегреческо-русский словарь / Сост. И. Х. Дворецкий. Т. 1. М., 1958. С. 503.
Флоренский П., свящ. Философия культа. М., 2014. С. 34.
Там же. С. 35.
Там же.
Там же. С. 52.
Там же.
См.: там же.
Там же. С. 53.
Там же.
Там же.
Там же. С. 54.
Там же. С. 54.
Там же. С. 54–55.
«Антиномии раскалывают всё наше существо, всю тварную жизнь. Всюду и всегда противоречия! И напротив, в вере, препобеждающей антиномии сознания и пробивающейся сквозь их все-удушливый слой, обретается каменное утверждение, от которого можно работать на преодоление антиномии действительности». Флоренский П., свящ. Столп... М., 2017. С. 482.
Флоренский П., свящ. Философия культа. М., 2014. С. 55.
Лосев А. Ф. Философия имени. М., 2009. С. 87.
См.: Флоренский П., свящ. Философия культа. М., 2014. С. 57.
Там же. С. 58.
См.: там же. С. 59.
Там же. С. 63.
Флоренский П., свящ. Около Хомякова (критические заметки) // Флоренский П., свящ. Соч. в 4-х тт. Т. 2. М., 1996. С. 294, 299–309.
Крайне сомнительным свидетельством называет А. Т. Казарян приводимый С. И. Фуделем рассказ М. А. Новосёлова о том, как он обсуждал с П. А. Флоренским его статью «Около Хомякова», «спорил и доказывал ему его “римско-магический уклон”». Фудель С. И. Об отце Павле Флоренском // Цит. по. Казарян А. Т. Примечания // Флоренский П., свящ. Богословские труды 1908–1922. СП, 2020. С. 315.
Ср. с приписыванием Флоренскому понимания «таинств в духе латинского магизма <...> Не слишком новая теория колдовства получает новый христианский костюм – на этот раз православный». Лурье В. М. Комментарии // Мейендорф И., прот. Жизнь и труды святителя Григория Паламы. М., 1997. С. 340–341.
См.: Флоренский П., свящ. Философия культа. М., 2014. С. 430.
См.: Андроник (Трубачев), иг. История создания цикла «Философия культа» // Флоренский П., свящ. Философия культа. М., 2014. С. 24.
См.: Антонов К. М. Как возможна религия? М., 2020. С. 430.
Флоренский П., свящ. Философия культа. М., 2014. С. 106.
Там же. С. 104.
Речь идёт об отрицании церковного культа, но вполне можно согласиться с В. Н. Катасоновым, что это место в кантовской философии занято культом гуманизма. См.: Катасонов В. Н. По следам «Философии культа» священника Павла Флоренского // URL: http://katasonov-vn.narod.ru/statji/razdel1/1– 5_v.n.katasonov_po_sledam_filosofii_kulta_svjash.htm
Флоренский П., свящ. Философия культа. М., 2014. С. 103. Ср.: Буди же слово ваше: ей, ей: ни, ни: лишше же сею, от неприязни есть (Мф.5:37); Буди же вам, еже ей, ей, и еже ни, ни: да не в лицемерие впадете (Иак.5:12); «загадочная улыбка» – это улыбка «Джоконды» Леонардо да Винчи, также негативно оцениваемой Флоренским с точки зрения учения о прелести (ложной духовности).
Там же. С. 112.
Резвых Т. Н. Флоренский – Розанов – Франк – Трубецкой: идея антиномии // Вестник Костромского государственного университета. Серия «Гуманитарные науки»: Энтелехия. 2009. No 19. С. 17.
В одном предложении С. Л. Франк применяет несогласуемые понятия витания и стояния: речь идёт о «свободном витании в средине или в единстве двух познаний <...> Более того: эта трансрациональная позиция – будучи, в отношении объединяемых ею противоречащих отвлеченных познаний, “витанием” между или над ними – сама по себе есть совершенно устойчивое, твёрдо опирающееся на саму почву реальности стояние». Франк С. Л. Непостижимое // Франк С. Л. Сочинения. М., 2000. С. 438. Также С. Л. Франк пишет: «Согласно известной (и никем не опровергнутой) кантовской “антиномии”, мы не можем мыслить или представить себе реальность ни подлинно бесконечной во времени, ни имеющей во времени какое- либо первое, абсолютное начало».
Там же. С. 367. В этой формулировке не видится никакого антиномизма, т. к. подлинно бесконечная реальность есть Бог, а реальность, имеющая во времени абсолютное начало, есть тварь, возникшая из ничего. Более того, антиномизм Франка распространяется и на Божественную реальность, когда он говорит «сущностной “парадоксальности” Бога». Там же. С. 709. «Подлинная реальность и правда как бытие “я с Богом” заимствует от самого существа Бога свою коренную сущностную парадоксальность». Там же. С. 710. Также неприемлемо разделение Франком (со ссылкой на антиномию) Церкви на идеальную, непричастную греху, и историческую, «реальности чисто земного, человеческого порядка». Франк С. Л. С нами Бог. М., 2007. С. 326.
Ср.: Максим Исповедник, преп. Вопросоответы к Фалассию. М., 2021. С. 213.
Флоренский П., свящ. Философия культа. М., 2014. С. 116. Также отметим: «Последняя точка опоры всех опор должна быть конкретным предметом культа, в высшем и полном смысле – Абсолютною Богочеловеческою воплощенною Личностью – Господом Иисусом Христом. Но Он вознесся; следовательно, Он должен быть дан тем, что Его заменяет в полной конкретности: такова Евхаристия». Там же. С. 119.
Там же. С. 117–118.
См.: Андроник (Трубачёв), иг. Путь к Богу. Кн. 6. СП; СПб., 2020. С. 315.
Флоренский П., свящ. Философия культа. М., 2014. С. 132.
См.: там же.
Там же.
Там же. С. 134. Ср.: Пусть не разливаются источники твои по улице, потоки вод – по площадям; пусть они будут принадлежать тебе одному, а не чужим с тобою (Притч.5:16–17).
Флоренский П., свящ. Философия культа. М., 2014. С. 134.
См.: Ларше Ж.-К. Исцеление духовных болезней. СП., 2018. С. 16.
Флоренский П., свящ. Философия культа. М., 2014. С. 133.
Там же. С. 136.
См.: там же.
Также пример выбора одной из сторон антиномии: «толстовствующий или иной морализм... либо, напротив, розановский имморализм». Там же. С. 139.
См.: там же. С. 137.
Там же.
Там же. С. 146–147.
См.: там же. С. 156.
Там же. С. 165.
Там же.
Там же. С. 170. Альтернативное мнение представлено: Евдокимов П. Н. Православие. М., 2002. С. 371–372. Мейендорф И., прот. Византийское богословие. Исторические тенденции и доктринальные темы. Мн., 2001. С. 214.
См.: Флоренский П., свящ. Философия культа. М., 2014. С. 182.
См.: там же. С. 178.
Там же. С. 164.
Там же.
См.: там же. С. 188.
Там же. С. 194.
Там же.
См.: Павлюченков Н. Н. Религиозно-философское наследие священника Павла Флоренского. М., 2013. С. 143. О схожем в символизме Флоренского и преп. Максима указывалось в § 2.2. «Идея дихотомии как основа антиномичности». О символизме свт. Григория см. в § 3.3. «Антиномии “конкретной метафизики” священника Павла Флоренского».
См.: там же.
Этот и другие исповеднические шаги о. Павла не позволяют согласиться с о. Георгием Флоровским, писавшим о Флоренском: «Он уходит с трагических распутий жизни, укрывается в тесную, но уютную келью». Флоровский Г. Томление духа // Путь. 1930. No 20. С. 102. О возможной личной неприязни о. Георгия к о. Павлу см. статьи Половинкина С. М. и Соболева А. В. в ежегоднике «Исследования по русской мысли». 2003. No 6.
Ср.: «За обедом, который император <Константин> дал отцам Собора, он сказал им: “Вы епископы внутренних дел Церкви, я – поставленный от Бога епископ внешних дел”». Болотов В. В. Лекции по истории древней Церкви. Т. 3. М., 1994. С. 50.
Флоренский П., свящ. Философия культа. М., 2014. С. 250.
Там же. С. 291.
См.: там же.
См.: там же. С. 292.
Там же. С. 356.
«В церковном сознании, мученики – святые; но можно не менее твердо сказать и обратное, что – святые – мученики. Подвиг христианской жизни, какова бы ни была она по своим внешним условиям, внутренно есть всегда мученичество, ибо есть отрывание себя от сего мира во имя иного мира». Там же. С. 375.
Там же. С. 364.
Биограф П. А. Флоренского сообщает, что когда его книга была уже написана, о. Андроник (Трубачёв) рассказал ему о появлении ещё одной версии гибели о. Павла: обществом «Мемориал» были обнаружены документы, свидетельствующие о том, что партию, в которой был Флоренский, не довезли до Ленинграда, а выгрузили в «Свирь-лаге» и там же расстреляли. См.: Миловатский В. С. На зов Божий. Земное и небесное в жизни священника Павла Флоренского. СПб., 2015. С. 222.
Флоренский П., свящ. Философия культа. М., 2014. С. 382.
Там же.
См.: там же. С. 382–396.
Там же. С. 396.
Там же.
Там же.
См.: там же.
Там же. С. 410.
Там же.
См.: там же. С. 330.
Флоренский П., свящ. У водоразделов мысли. Т. 1. М., 2017. С. 44.
Там же. С. 43.
Там же. С. 44.
Там же.
Там же. С. 45.
Там же. С. 46.
Московский институт Историко-Художественных Изысканий и Музееведения при Российской Академии Истории Материальной Культуры Наркомпроса. Там же. С. 100.
Там же.
Там же. С. 92.
Там же. С. 129.
Там же. С. 128.
Там же.
См.: Kuße H. Metadiskursive Argumentation. Linguistische Untersuchungen zum russischen philosophischen Diskurs von Lomonosov bis Losev. München, 2004. S. 78.
Там же. С. 465.
Флоренский П., свящ. У водоразделов мысли. Т. 1. М., 2017. С. 150. Далее в главе «Имеславие как философская предпосылка»: «Бытие, которое больше самого себя, – таково основное определение символа. Символ – это нечто являющее собою то, что не есть он сам, большее его, и, однако, существенно чрез него объявляющееся». Там же. С. 269.
Флоренский П. А. Детям моим. Воспоминания прошлых дней. М., 2004. С. 206.
Андроник (Трубачёв), иг. Путь к Богу. Кн. 1. М. 2012. С. 8. Ср.: «Символу доверяется невыразимое». Максим Исповедник, преп. Толкования // Дионисий Ареопагит. Корпус сочинений. СПб., 2017. С. 448.
Флоренский П., свящ. У водоразделов мысли. Т. 1. М., 2017. С. 153.
ἔργον и ἐνέργεια переводятся о. Павлом Флоренским как вещность и деятельность. См.: там же.
Там же. С. 156.
См.: там же. С. 165.
См.: Катасонов В. Н. Трансгуманизм: новая эволюционная утопия // URL: http://katasonov- vn.narod.ru/statji/razdel2/2–17_v.n.katasonov_transgumanizm_novaja_ehvoljucio.htm
Флоренский П., свящ. У водоразделов мысли. Т. 1. М., 2017. С. 226. Положение о неразрывности «плоти» и «духа» слова важно для понимания имяславческой позиции отца Павла, выраженной формулой «Имя Божие есть Бог, но Бог не есть имя», где имя берётся вместе со своим звуковым содержанием. Также и мысль не отделяется от слова, человек мыслит словами (что соответствует пониманию греческого λόγος как разума, слова и смысла).
Понятие естественной магии (не в смысле колдовства, а в смысле могущества над природными силами) используют М. Фичино, Пико делла Мирандола, Д. Бруно, Ф. Бэкон. См.: Лега В. П. История западной философии. Ч. 2. М., 2016. С. 18.
Лосев А. Ф. П. А. Флоренский по воспоминаниям Алексея Лосева // П. А. Флоренский: рro et сontra. СПб., 2001. С. 195.
Флоренский П., свящ. У водоразделов мысли. Т. 1. М., 2017. С. 258.
См.: там же. С. 253.
Флоренский П., свящ. Общечеловеческие корни идеализма // Флоренский П., свящ. У водоразделов мысли. Т. 2. М., 2017. С. 169.
Иоанн Кронштадтский, св. прав. Моя жизнь во Христе. Киев, 2006. С. 506. И даже совсем радикально: «В каждом слове – Бог-Слово». Там же. С. 512.
См.: Резниченко А. И. О смыслах имён: Булгаков, Лосев, Флоренский, Франк et dii minores. М., 2012. С. 37.
Kuße H. Кant, die Sprache und ihre Kritik bei Hamann, Florenskij und ander Holisten / Wer braucht Kant heute? // Beiträge der interdisziplinären Tagung vom 14. und 15. Oktober 2006 in Dresden. Dresden, 2007. S. 164.
Там же. С. 265.
Флоренский П., свящ. Примечания священника Павла Флоренского к статье архиепископа Никона «Великое искушение около святейшего Имени Божия» // Флоренский П., свящ. У водоразделов мысли. Т. 1. М., 2017. С. 316.
Иларион (Троицкий), свщмч. Творения в 3 т. Т. 3. М., 2004. С. 453.
Флоренский П., свящ. У водоразделов мысли. Т. 1. М., 2017. С. 267.
См.: там же.
Там же. С. 267–268. В тех же терминах даёт своё толкование преп. Максим Исповедник: «Всякий ум имеет сущность...затем силу, благодаря которой он одолевает трудности; и, наконец, энергию, благодаря которой, он, делая своё, пребывает благочестивым». Дионисий Ареопагит. Корпус сочинений. С толкованиями преп. Максима Исповедника. СПб., 2017. С. 92. В качестве примера преп. Максим приводит сущность огня, светлость которого есть его сила, а энергия – способность светить, т. е. энергия является раскрытием силы, содержащейся в сущности. См.: там же. С. 94.
См.: Флоренский П., свящ. Столп... М., 2017. С. 23.
См.: Флоренский П., свящ. У водоразделов мысли. Т. 1. М., 2017. С. 264.
Там же.
См.: Лосский В. Н. Боговидение. М., 2003. С. 162.
См.: Василий (Кривошеин), архиеп. Богословские труды. Н. Новгород, 2011. С. 85.
См.: Мейендорф И., прот. Жизнь и труды святителя Григория Паламы. СПб., 1997. С. 281.
Шпидлик, о. Томаш. Русская идея: иное вѝдение человека. М.; СПб., 2014. С. 72.
«ἁγίους μετόχους εἶναι τῆς οὐσίας τοῦ Θεοῦ ἐκεῖνος γὰρ μεθεκτὴν ἁπλῶς καὶ ἀμέθεκτον ἐτίθει ταύτην ἀλλ’ οὐχί τισι μὲν ἀμέθεκτόν τισι δὲ μεθεκτήν». S. Gregorius Palamas. Theophanes, sive de divinitatis et rerum divinarum communicabilitate et incommunicabilitate // РG 150, 932D.
Григорий Палама, свт. Трактаты / Пер. с греч. архим. Нектарий (Яшунский). Краснодар, 2007. С. 209.
«Ведь и мы становимся богами, а стать той же природы [что и Он] не можем». S. Athanasius Alexandrinus. Dialogi duo contra Macedonianos, 1, 14 // PG 28, 1313A.
«Ибо такова природа Царя моего – доставлять счастье». Григорий Богослов, свт. Стихотворения, 4, 84. // PG 37, 422А. Свт. Григорий Палама поясняет: «Ведь давать – не есть природа кого бы то ни было, но это по природе присуще благотворящему. И об огне сказал бы кто-нибудь, что его природа в том, чтобы устремляться вверх и изливать свет смотрящим, но движение не является для него природой». Григорий Палама, свт. Трактаты. Краснодар, 2007. С. 209.
И Златоустый отец, услышав от Крестителя, что «не мерою даётся Дух» (Ин.3:34), говорит, что он «хочет показать, что все мы мерой принимаем энергию Духа, – ибо Духом он здесь называет энергию, так как она делима», тогда как сущность неделима. Иоанн Златоуст, свт. Беседа на Евангелие от Иоанна 30, 2. PG 59, 174А // Цит. по: там же.
«Все мы всецело становимся богами кроме тождества по сущности». Максим Исповедник, преп. Послание 1. PG 91, 376AB // Цит. по: там же.
Божественная Благость «воспевается Непричастно Причаствуемая». Дионисий Ареопагит. О божественных именах // Дионисий Ареопагит. Корпус сочинений. СПб., 2017. С. 150.
Григорий Нисский, свт. Beat. 6. PG 44, 1269 A. // Цит. по: Василий (Кривошеин), архиеп. Богословские труды. Нижний Новгород, 2011. С. 638.
Василий (Кривошеин), архиеп. Богословские труды. Нижний Новгород, 2011. С. 638.
Бирюков Д. С. «Синэнергетическое откровение реальности»: Наблюдения о предыстории, источниках и содержании понятий «символ», «синергия», «энергия» у П. А. Флоренского в контексте рецепции паламизма в русской мысли начала XX в. // ВФ. 2020. No 6. С. 103‒115.
Там же.
Флоренский П., свящ. У водоразделов мысли. Т. 1. М., 2017. С. 281. Ср. антиномичное высказывание: «Имя Его есть Он Сам... простое Существо, в едином слове... заключающееся, и в то же время не заключаемое...» Иоанн Кронштадтский, св. прав. Моя жизнь во Христе. Т. 1. Киев, 2006. С. 499.
Значительный вклад в развитие данной антиномии принадлежит Псевдо-Дионисию Ареопагиту, который «довёл до логического совершенства традиционную для восточного христианства антиномию именуемости и неименуемости Бога». Иларион (Алфеев), митр. Священная тайна Церкви. СПб, 2007. С. 134.
Флоренский П., свящ. Письмо Щербову И. П. от 13 мая 1913 г. // Флоренский П., свящ. У водоразделов мысли. Т. 1. М., 2017. С. 309.
См.: там же. С. 308–309.
«Любомудрствовать о Боге можно не всякому <...> не всегда, не перед всяким и не всего касаясь...». Григорий Богослов, свт. Слово 27 // Григорий Богослов, свт. Творения: В 2 т. Т. 1. Слова. М., 2010. С. 328.
Флоренский П., свящ. У водоразделов мысли. Т. 1. М., 2017. С. 390.
Там же. С. 391.
Там же.
Там же.
Там же. С. 392.
Там же. С. 393.
Там же.
Там же. Ср.: Флоренский П., свящ. Философия культа. М., 2014. С. 52 (рассматривалось в § 3.2).
Флоренский П., свящ. У водоразделов мысли. Т. 1. М., 2017. С. 399.
Там же.
Там же. С. 417.
Там же. С. 417.
Там же.
Там же.
Флоренский П., свящ. История и философия искусства. М., 2017. С. 297.
См.: Флоренский П., свящ. У водоразделов мысли. Т. 1. М., 2017. С.454.
Флоренский П., свящ. У водоразделов мысли. Т. 1. М., 2017. С. 456.
См.: там же. С. 476–477. Примером поляризации в социальной действительности служат индивидуальный и государственный (над-индивидуальный) интересы. Разумное государство по Флоренскому сочетает их без каких-либо взаимных компромиссов, не смешивая их, но последовательно укрепляя каждый из этих интересов. «Государство должно быть столь же монолитно целое <...>, как и многообразно богатое полнотою различных интересов. <...> Капитализм – явление, ведущее в конечном счёте <к смерти>, но талантливые капиталисты – естественное богатство страны...». Флоренский П., свящ. Предполагаемое государственное устройство в будущем. М., 2009. С. 8.
Флоренский П., свящ. У водоразделов мысли. Т. 1. М., 2017. С. 479.
Там же. С.478. «Идея, единая в себе, является как сопряженность антиномически противолежащих полюсов, – как антиномия». Там же.
См.: Флоренский П., свящ. У водоразделов мысли. Т. 2. М., 2017. С. 156–157.
Там же. С. 157.
Там же.
См.: Письмо П. А. Флоренского В. Я. Брюсову от 05 декабря 1904 г. // Контекст. Литературно-теоретические исследования. М., 1991. С. 52–54; о спиритизме как усовершенствованном позитивизме: «Тут мы имеем дело с самым страшным и могучим врагом христианства...» Флоренский П. А. Богословские труды: 1902–1909. М., 2018. С. 80; также из лекции 1921 г.: «Лет через десять оккультизм будет также признан, как гипнотизм, спектральный анализ и т. д. У него уже не будет конфликта с позитивизмом... Это громадная опасность для Церкви...» Там же. С. 562.
«Флоренский был вполне сознательным оккультистом, хотя всегда отмежевывался от “официальных” теософских и оккультных кругов». Лурье В. М. Комментарии // Мейендорф И., прот. Жизнь и труды святителя Григория Паламы. Введение в изучение. М., 1997. С. 340–341.
На 384 страницах книги Н. К. Бонецкой о Флоренском слова «оккультизм», «оккультный» встречается более 90 раз, «магия», «магический» – более 120 раз, причём без пояснений, что под этими терминами подразумевается. Из контекста можно понять, что оккультизм автор не связывает с бесовской силой, а использует в качестве синонима таинственного. Бонецкая Н. К. Русский Фауст ХХ века. СПб., 2015. 384 c. (Ср.: occulta nature mysteria (скрытые тайны природы). Bernaldo de Quiros. De anima // Цит. по: Вдовина Г. В. Интенциональность и жизнь М.; СПб., 2019. С. 144; ac mentis oculis tectum, et occulum (спрятанный от глаз ума, скрытый). Lossada L. De anima // Цит. по: там же. С. 371).
«И очень характерно, что в своей работе он [П. Флоренский в «Столпе»] точно отступал назад за христианство, в платонизм и древние религии, или уходил вкось, в учения оккультизма и магию. Об этом он задавал темы и студентам для кандидатских сочинений (о К. Дю-Преле, и Дионисе, по русскому фольклору)». Флоровский Г., прот. Пути русского богословия. Минск, 2006. С. 487.
«...Протаскиванье какой-то магической мистериальности ...под видом ортодоксального Православия». Хоружий С. С. Миросозерцание Флоренского. Томск, 1999. С. 4.
«Христианский историзм вытесняется оккультно-мистическим онтологизмом...» Гаврюшин Н. К. Русское богословие. Очерки и портреты. Нижегородская духовная семинария, 2011. С. 483.
Андроник (Трубачёв), иг. Примечания. Там же.
Флоренский П., свящ. У водоразделов мысли. Т. 2. М., 2017. С. 176.
См.: там же. С. 177.
Там же. С. 101.
Там же. С. 85.
Там же.
Флоренский П., свящ. Иконостас // Флоренский П., свящ. История и философия искусства. М. 2017. С. 61. Ср.: «Даже в такой системе, как гегелевская, в которой “другое” есть момент в полноте божественно-единого, этот момент, в конце концов, проглатывается, пожирается единым. Отдельное бытие должно быть готово исчезнуть в объемлющем его бытии». Бальтазар Г. У. Теологика. Т. 2. М., 2018. С. 139.
Гегель Г. Наука логики. М., 1998. С. 31.
«In all the twenty volumes of Hegel's “complete works” he does not use this “triad” once...» [В всех 20-ти томах собрания сочинений Гегель ни разу не использует эту триаду] Mueller G. The Hegel Legend of «Thesis-Antithesis-Synthesis» // Journal of the History of Ideas. 1958. No 3. Vol. 19. Р. 411.
См.: Гегель Г. Наука логики. М., 1998. С. 96–97. И здесь есть точки соприкосновения философов, но уже безотносительно к антиномизму: «Всё проходит, но всё остаётся. Это моё самое заветное ощущение, что ничего не уходит совсем... Ценность пребывает...» Флоренский П., свящ. Письмо от 6–7 апреля 1935 г. / Флоренский П., свящ. Все думы – о вас. Письма семье из лагерей и тюрем 1933–1937 гг. СПб., 2004. С. 95.
«Представление о сверхрациональности жизни ведёт Флоренского к отрицанию ключевого для гегелевской диалектики момента синтеза противоположностей». Антонов К. М. Как возможна религия? Ч. 1. М., 2020. С. 416.
Гегель Г. Наука логики. М., 1998. С. 97.
Данные обобщения не безусловны. Например, Гегель указывает на антиномию в простом объекте: «Die Kategorien, die Bestimmungen des Seins, sind einfach; aber die Bestimmungen, welche nicht die ersten Elemente ausmachen, die des Wesens, sind es nur insofern, als entgegengesetzte Momente darin zur Einfachheit reduziert sind. Indem nun eine solche Kategorie von einem Subjekte prädiziert wird und durch die Analyse jene entgegengesetzten Momente entwickelt werden, so sind beide von dem Subjekt zu prädizieren, und es entstehen dadurch antinomische Sätze, deren jeder gleiche Wahrheit hat [Категории, определения бытия, просты; но определения, которые не обнаруживают первых элементов, элементарные определения сущности, являются таковыми лишь постольку, поскольку противоположные моменты в них сведены к простоте. Таким образом, когда такая категория высказана субъектом, и путем анализа развёртываются её противоположные моменты, то оба момента должны быть высказаны субъектом, в результате чего возникают антиномические положения, каждое из которых одинаково истинно]». Hegel G. Phänomenologie des Geistes und Logik, § 69 // Hegel G. Philosophische Propädeutik // URL: https://www.marxists.org/deutsch/philosophie/hegel/propaed/index.htm (дата обращения: 27.02.2022).
В качестве примера объективного антиномизма можно привести феномен государства, в котором, согласно Гегелю, снимается «противоречие» семьи и общества. См.: Гегель Г. Философия права. М., 1990. С. 287.
Флоренский П., свящ. Столп... М., 2017. С. 482.
Бибихин В. В. Язык философии. СПб., 2007. С. 279.
«Божественная энергия бывает причастна и делится неделимо, и именуется, и мыслится неким образом <...>, а сущность непричастна, неделима и безымянна» Соборный акт 1351 г. РG 151, 736–738 // Цит. по: Василий (Кривошеин), архиеп. Аскетическое и богословское учение святителя Григория Паламы // Василий (Кривошеин), архиеп. Богословские труды. Н. Новгород, 2011. С. 93–94.
Флоренский П., свящ. Письмо В. В. Розанову от 10.08.1909 г. // Розанов В. В. Собр. соч. Литературные изгнанники. Кн. 2. М.; СПб., 2010. С. 32
Ельчанинов А., свящ. Епископ-старец // Путь. Париж, 1926. No 4. Цит. по: Андроник (Трубачёв), иг. Епископ Антоний (Флоренсов), старец московского Донского монастыря. СП, 2019. С. 27.
Флоренский П., свящ. Детям моим // Флоренский П., свящ. Из моей жизни. М., 2018. С. 68.
Там же. С. 68–69.
Флоренский П., свящ. В санитарном поезде Черниговского дворянства // Флоренский П., свящ. Из моей жизни. М., 2018. С. 351.
Флоренский П., свящ. Письмо В. В. Розанову от 10.08.1909 г. // Розанов В. В. Собр. соч. Литературные изгнанники. Кн. 2. М.; СПб., 2010. С. 32
Флоренский П., свящ. Письмо В. В. Розанову от 10.05.1909 г. // Там же. С. 24.
Термин введен Эйгеном Блейлером, который считал амбивалентность (двойственность переживания) признаком шизоидности. См.: Stotz-Ingenlath G. Epistemological aspects of Eugen Bleuler's conception of schizophrenia in 1911 // Medicine, Health Care and Philosophy: journal. 2000. No 2. Vol. 3. P. 153–9. Используется в богословской литературе, напр.: Бальтазар Г. У. Теологика. Т. 2. М., 2018. С. 104, 106; параллельно с понятием антиномии: Давыдов О. Б. Откровение Любви. Тринитарная истина бытия. М., 2020. С. 112, 171, 599.
Лэнг Р. Д. Расколотое «Я» / Пер. с англ. СПб., 1995. С. 7.
Там же. С. 91.
См.: Коптева Н. В. Особенности онтологической уверенности и отчуждения, соответствующие неврозу и норме / Известия Уральского федерального университета. Серия 1. Проблемы образования, науки и культуры. 2017. Т. 23. No 2 (162). С. 73.
Шмеман А., прот. Дневники. 1973–1983. М., 2009. С. 64–65. Мысль о. Александра можно сравнить с парадоксально высказанными взглядами Анри де Любака о Церкви: принадлежит Богу – принадлежит людям; видима – невидима; исторична – эсхатологична. См.: Любак А. Парадокс и тайна церкви. Милан, б.г. С. 31. Ср.: «антиномическая экклезиология» Сидоров А. И. Святоотеческое наследие... Т. 6. М., 2022. С. 440, 443.
Иустин (Попович), преп. Достоевский о Европе и славянстве. СПб, 1998. С. 44.
Иустин (Попович), преп. Философские пропасти. М., 2004. С. 172.
См.: там же. С. 168.
Флоренский П., свящ. Детям моим // Флоренский П., свящ. Из моей жизни. М., 2018. С. 139.
«Кандидатское сочинение писал на самостоятельно намеченную тему “Об особенностях плоских кривых, как местах нарушений непрерывности”; это сочинение предполагалось сделать частью работы общефилософского характера “Прерывность, как элемент мировоззрения”». Флоренский П., свящ. Флоренский П. А. [Автореферат] // Флоренский П., свящ. Соч. В 4-х тт. Т. 1. М., 1994. С. 37.
Там же.
Там же. С. 124.
Там же. С. 131.
Там же. С. 187.
Вероятно, требование советской идеологии вынуждает Флоренского пользоваться эвфемизмом: «Логос – начало эктропии», что привело Н. О. Лосского к выводу об искажении философских взглядов Флоренского в этой статье: «Здесь постарались сделать почти все для того, чтобы превратить христианскую философию Флоренского в философию агностического натурализма». Лосский Н. О. История русской философии. М., 1991. С. 216.
Флоренский П., свящ. Флоренский П. А. [Автореферат] // Флоренский П., свящ. Соч. В 4-х тт. Т. 1. М., 1994. С. 39.
Умов Н. А. Эволюция мировоззрений в связи с учением Дарвина (сокращённое изложение) // Антология философской мысли. Русский космизм. М., 1993. С. 113.
См.: Антипенко Л. Г. П. А. Флоренский о логическом и символическом аспектах научно-философского мышления. М., 2012. С. 19.
Флоренский П., свящ. Флоренский П. А. [Автореферат] // Флоренский П., свящ. Соч. В 4-х тт. Т. 1. М., 1994. С. 40.
Там же.
Там же. C. 38.
Герасимова И. А. П. А. Флоренский о противоречии (логико-методологический анализ) //Логические исследования. 2012. Т. 18. C. 87.
См.: Флоренский П., свящ. Письмо сыну Кириллу с Соловков 13.05.1937 года // Флоренский П., свящ. Соч. В 4– х тт. Т. 4. М., 1997. С. 702. Опираясь на работу Павлюченкова Н. Н. Архимандрит Серапион (Машкин) и его «Система философии». М., 2016, мы делаем вывод, что каких-либо заимствований из творчества Машкина учение Флоренского об антиномии не имеет (проблема поднята в исследовании Пентковского А. М. Архимандрит Серапион Машкин и студент Павел Флоренский (Новые материалы) // Символ. 1990, No 24. С. 205–228).
Флоренский П., свящ. Столп... М., 2017. С. 482.
См.: Трубецкой Е. Н. Свет Фаворский и преображение ума // П. А. Флоренский: pro et contra. СПб., 2001. С. 295, 297, 300, 302, 303.
Флоренский П., свящ. Философия культа. М., 2014. С. 55.
См.: Флоренский П., свящ. П. А. Флоренский [Автореферат] // Флоренский П., свящ. Соч. в 4-х тт. Т. 1. М., 1994. С. 39.
Там же. С. 40.
Максим Исповедник, преп. Амбигвы. М., 2020. С. 660.
