Раздел II. Образ патриарха Никона в истории культуры: вторая половина XX – начало XXI в.
«Столп благочестия неколебаемый»: образ Патриарха Никона
Никон, Патриарх Московский544 (Шмидт В. В., 2010г.)
(л. 19) родился в 1605-м году в деревне, подсудной к Нижнему Новгороду, от простых родителей и наречен при святом Крещении Никитою. С малолетства прилежал он к чтению духовных книг и жил он несколько времени в монастыре св. Макария в шестидесяти верстах от Нижняго Новгорода на реке Волге, у благочестиваго одного отшельника, возбудившаго в нем склонность к монастырской жизни. Отец препятствовал тогда ему в предпринятом им пострижении и он, сделавшись священником, оставил место своего пребывания и пошел в Москву. Там, пожив в брачном состоянии десять лет и прижив троих детей, умерших в младенчестве, развелся с женою по общему с нею согласию и препроводив ея в Алексиевской монастырь, что в Москве, сам отправился в Анзерской скит, так называемую обитель, находящуюся на Белом море, (л. 19об.) на острову, не в дальнем разстоянии от монастыря Соловецкаго.
Сей монастырь не обнесен оградою, ибо море вместо оной ему служит. Келий считается в нем числом до двенадцати, разставленных вкруг острова по берегу, на две версты в разстоянии одна от другой. В каждой из них живет по одному монаху, который кроме церковной службы препровождает жизнь свою в глубочайшем уединении, питаясь подаянием, состоящем в хлебе и рыбе, присылаемых с матерой земли или привозимых рыбаками. Церковь стоит на самой середине острова в двухверстном почти от каждой келии отдалении. Монахи собираются в нея всякую субботу, препровождают всю ночь и до полудни следующаго дня в Божественной службе, а потом обратно возвращаются в свои кельи. Так же бывает в праздничныя дни, и кроме сего они друг с другом не видятся. Такая жизнь понравилась священнику Никите, который и постригся там в монахи и наречен Никоном.
После сего он ездил с начальником того монастыря Елеазаром в Москву для собрания денег на сооружение каменной церкви, откуда при возвратном прибытии, произшедше (л. 20) между ними неудовольствие, принудило Никона выехать из острова, где он находился три года, и уплыть с ему другом на малом судне к матерой земле. Приближаясь уже к устью реки Онеги, захвачены они были жестокою бурею, угрожавшею им не малое время погибелью; но наконец прибившею их к малому острову, отстоящему от устья реки той на 10-ть верст: сей назывался Ки остров и также и Крестным островом, которое наименование и получил он от того, что Никон на память спасения своего поставил на оном крест. Он поволил тогда же обещание, основать тут и монастырь, которое в течение времени и выполнил, назвав монастырь сей Крестным.
Потом Никон пришел в обитель Кожеозерскую, казавшеюся ему удобною к продолжению жития по правилам Анзерскаго скита, ибо хоте он там подвизатися и принят был в число монахов, однако удалялся от прочих братий и на другом острову построил себе келью, занимался там рыбною ловлею, составлявшею его пропитание и не ходил в монастырь, как токмо для отправления Божией службы. Столь строгая жизнь привела его в большее почтение у всей братии, так что по преставлении вскоре их (л. 20об.) игумена, они единодушно избрали его в сие звание, в которое он и был поставлен митрополитом Афонием в Новгороде. Провед три года в Кожеозерской обители, Никон поехал в Москву для нужд монастырских и сделался по сему случаю известным Царю Алексию Михайловичу, принявшему его весьма милостиво и повелевшему Патриарху Иосифу поручить ему в управление один из монастырей Московских.
Таким образом, будучи посвящен в архимандрита Новоспасскаго, в 1649 году хиротонисан в митрополита Новгородскаго, а в 1654 по особенной милости государевой возведен в Патриаршеское достоинство, пребывая прежде сего почти безотлучно в царствующем граде.
С 1656 года под смотрением Никона началось исправление церковных книг, для чего и привезено было большое количество рукописей из Афонской горы и из других мест Греции. В предыдущем же 1655-м году издание Библии в Москве было сделано также его старанием.
В 1658 году (л. 21) сей любезный Царю и народу Патриарх публично сложил сан свой и выпросил у Государя позволения препроводить остальную жизнь свою в удалении от мира, избрал к исполнению желания своего Воскресенский монастырь, который незадолго перед тем начал строить, оставаясь в нем с именем Патриарха. Здесь провождал он свободное время в собирании Российской летописи: конечно по примеру Нестора, коей первый две части и были напечатаны.
В 1666 году собранным нарочно Собором Никон лишен Патриаршескаго достоинства и сослан в Ферапонтов монастырь, что в Белозерском уезде.
По кончине же Царя Алексия Михайловича переведен он по указу Царя Феодора Алексиевича в Кириллов, а на конец по прозьбе его братии545 повелено возвратиться ему в монастырь Воскресенской, которого он, однако ж не доехав умер на дороге 17 августа 1681 года.
Тело его принесено в сию обитель и там, по царскому указу, предано земле пат риаршим погребением. Уже по смерти его Царь Феодор Алексиевич изходатайствовал у греческих Патриархов письменное определение, по которому Никон паки принят в число Патриархов.
Русь в своем историческом развитии, восприняв христианство как парадигму существования и образ жизни546, оказалась включенной в перспективу «осевого времени» христианской цивилизации и уже не могла оставаться на периферии глобальных процессов и неизбежно становится «осевым пространством»547 мира.
Историческая наука связывает с именем Патриарха Никона эпоху второй половины XVII в., когда русское общество находило в себе силы, чтобы, преодолевая период Смутного времени, становиться мощнейшим государством на Евразийском континенте и активно влиять на политику и духовную жизнь народов, когда Русь окончательно осознала себя исторической преемницей Ромейского царства и охранительницей наследия Вселенского Православия, защитницей и государственно-политическим гарантом Православной Эйкумены, когда Русь сформировала-утвердила модель миропорядка на миссионерско-экклезиологических и ортодоксально-аксиологических основаниях, становясь неотъемлемой частью геополитической картины мира в системе международных отношений, с особой функцией устремленной ответственности и обеспечения международной стабильности сочленением полюсов этого мира в аспекте не только физиократическом, но всегда более актуальном – метафизическом548.
Одной из ярчайших национальных личностей-пассионариев христианской цивилизации вслед за Константином Великим, Иоанном Златоустом, Патриархом Фотием явился русский Патриарх Никон, которому суждено было оказывать серьезное влияние на духовно-политические процессы как в Русском православном царстве, так и в Православной Эйкумене в целом: Московская Русь совершенствовала-трансформировала принципы и механизмы своего государственно-политического устройства, церковно-государственного и церковно-общественного взаимодействия, формирования национальных центров просвещения и образования, законодательной, военно-политической, социально-экономической базы, вырабатывала-формировала свою геополитическую картину мира и модели международного взаимодействия.
Нетрадиционное для древнерусского образа жизни и восприятия «цивилизационное время» требовало активных и масштабных действий, которые были предприняты главой Русской Церкви в «симфоническом» взаимодействии с Царем549. Величие деяний и масштаб наступавших социальных преобразований выразились в титуловании Патриарха Никона Великим Государем и уравнивании его в социально-государственной иерархии с Великим Князем – Русским Самодержцем550.
Грандиозность надвигавшихся перемен в масштабе цивилизационного взаимодействия, неподготовленность к ним русского общества на всех его уровнях, выражавшаяся в приверженности догматичному охранению традиционного уклада и образа мысли, а также политическое слабоволие, нерешительность, стремление к «тихости» и обеспокоенность сохранением династической преемственности со стороны Царя вызвали процесс, границами которого стал социальный аутизм значительных групп людей, именующих себя старообрядцами551 (вернее – обрядоверами стоглавого толка), с одной стороны, и лишение Патриаршего достоинства и ссылка Святейшего Никона – с другой.
Осуждение и ссылка Патриарха Никона явились узловым событием для дальнейших судеб Отечества. Завершился мир жизни, где всеопределяющим и всеорганизующим началом было святоотеческое православие, которое как в некую ссылку уходило вместе с Патриархом Никоном; на смену шел монархический абсолютизм. С Патриархом Никоном, его стремлением к торжеству Истины в мире дольнем и правоправной славой Горнего в образцах византийской традиции и наследия уходила великая эпоха возможностей для единства православного мира и стяжания образа Святой Руси, уходила эпоха воспитания персонифицированной личности в лоне Церкви в законе благодати Христовой и созидания социально-государственной мощи, ярким примером служения которым и образцом подражания был Святейший Патриарх Московский и всея Руси Никон.
В наступавшие после Патриарха Никона эпохи живому «глухостью» и «ревностью о вечности в прошлом» обрядоверию суждено было преодолевать себя уже не в духе церковного послушания, христианской любви и кротости, а крутостью Петровских реформ, екатерининской моделью англосаксонского просвещения, французским гуманизмом и александровскими дарованиями свобод. Эпохи Петра I, Екатерины II и Александра I были не менее значительны для истории России тем, что, как и в эпоху Святейшего Никона, титанические усилия вновь были направлены на преодоление «вечности в прошлом» ради стремления к утверждению и созиданию великой Руси «цивилизационного времени» в ее имперском облике, но уже на принципах монархического абсолютизма и цезарепапизма. Соработниками же Государей российских в эти периоды становились не Святители земли Русской, а государственные ведомства и учреждения с их государевыми подданными из Тайной канцелярии, министерств иностранных и внутренних дел, Святейшего Правительствующего Синода и др.
Еще в детстве будущий Патриарх Никон552 проявил неудержимый интерес к духовным знаниям: в двенадцатилетнем возрасте тайно ушел в монастырь прп. Макария Желтоводского и стал послушником. Через пять лет по настоянию родни женился и спустя два года (в 19 лет) принял священный сан. Вступив в должность приходского священника, иерей Никита явил в себе множество пастырских добродетелей: известность о нем дошла до Москвы, и он получил предложение переехать в столицу. Около девяти лет о. Никита провел в Москве. Однако, зря суету и непостоянство мира сего, и желая ко спасению обрести путь удобный553, по обоюдному согласию с женой они решили оставить мир: о. Никита удалился в Анзерский скит Соловецкого монастыря, где принял в 1636 г. монашеский постриг от прп. Елеазара с именем Никон в честь сщмч. Никона, епископа. († 251 г., память 23 марта / 05 апреля).
Духовные подвиги его были внушительны – прочтение в течение суток всей Псалтири, совершение тысячи земных поклонов с Иисусовой молитвой и др. Прп. Елеазар предсказал, что Никон впоследствии будет Святителем.
В 1639 г. иеромонах Никон покинул Анзерский скит и перешел в Кожеезерскую обитель, а с 1643 г. он игумен этой обители; в 1646 г. назначен архимандритом Ново-Спасского монастыря в Москве (при нем возведен величественный Спасо-Преображенский собор; в этот период он выступает челобитчиком и заступником перед Царем о скорбящих и нуждающихся).
11 марта 1649 г. архимандрит Никон собором архиереев во главе с Патриархом Иосифом и Патриархом Антиохийским Макарием возведен в сан митрополита Новгородского и Великолуцкого. На Новгородской кафедре он занимался церковным строительством, благотворительностью, исправлением нестроений в монастырской и приходской жизни. Митрополит открыл четыре богадельни и устроил во время голода на владычном дворе «погребную палату». Помощником Никона по распределению милостыни был блаженный юродивый Василий Босой.
Во время восстания в Новгороде в 1650 г. митрополит Никон показал себя мужественным пастырем, готовым положить душу свою за врученное его окормлению стадо – он вышел к бунтовщикам со словами: Дети, я всегда проповедовал вам истину. Ничто земное не устрашает меня. Я, как пастырь, пришел спасти вас от возмущающих вас волков. Избитый едва не до смерти, он кротостью и молитвой привел народ к покаянию и прекращению бунта. В благодарственном письме Царь Алексей Михайлович называл Никона новым страстотерпцем, крепкостоятельным пастырем, крепким воином и страдальцем Царя Небесного и своим собинным другом.
Дар прозорливости и духовного водительства позволил митрополиту Никону воспитать из монахов, несших послушание в Новгородском архиерейском доме, великих подвижников земли Русской. В 1651 г. ризничий преосвященного Никона иеромонах Мисаил был рукоположен в архиепископа Рязанского и Муромского (преосвященный Мисаил стал миссионером, крестившим татарское и мордовское население Рязанского края; Русская Церковь прославляет святителя Мисаила в сонме Рязанских святых). Ризничим митрополита Никона после иеромонаха Мисаила стал иеродиакон Лаврентий, рукоположенный им в 1654 г. в архиепископа Тверского и Кашинского и переведенный в 1657 г. на кафедру митрополита Казанского и Свияжского.
Митрополит Никон был ревностным пастырем Церкви Христовой, постоянно назидающим свою паству словом божественной премудрости. Историк Церкви митрополит Макарий утверждает554, что в то время среди архиереев не было проповедника, равного Святителю Никону. Неустанно поучаясь в заповедях Божиих, Святитель искал в житиях святых пример для подражания. Он написал ряд трудов: «Житие преподобного Иакова Боровичского…», изданное в 1659 г. типографией основанного им во образ святой горы Афон Иверского Валдайского монастыря в книге «Рай мысленный»; «Слово о Животворящем Кресте», «Слово на моровое поветрие», «Духовные наставления христианину», «Возражение или Разорение…», «Духовное завещание» и др.555, явившиеся яркими памятниками письменности русского Средневековья. Он же, по-видимому, является и автором рукописной «Книги глаголемой описание о российских святых», дошедшей до нашего времени в виде нескольких списков; под его Святительским омофором был составлен полный русский летописный свод, получивший именование «Никоновская летопись»556; он же «руку приложил» к совершенно неизученным и не введенным в научный оборот интереснейшим памятникам557: «Толковое Евангелие», «Палея», «Тропник»558, «Ирмологион», «Псалмы, месяцесловы, алфавиты»559 восходящие к новой культурной и научно-просветительской традиции, формировавшейся в Святого Живоносного Воскресения Христова монастыре Нового Иерусалима, созданном Патриархом по подобию Святой Палестины с храмом Гроба Господня и во образ Иерусалима Небесного560.
Митрополит Никон активно занимался собиранием святынь: в Успенский собор Московского Кремля были перенесены святые останки Патриархов Иова и Гермогена, из Соловецкого монастыря – мощи митрополита Филиппа (данное событие подтверждало признание царской властью прегрешений против Церкви и общественное покаяние и заложило фундамент будущего «симфонического» взаимодействия светской и духовной властей). Никон лично глубоко почитал Святителя Филиппа, как и Петра, Макария, Гермогена и Иова, чьи страдания за веру и стояние в законе благодати Христовой, за должный духовный авторитет Церкви в обществе, за ограничение безудержного самоуправства царской власти и стремление к владению Церковью, чье участие в созидании Российской державы в образе Святой Руси стали для Никона образцом и примером служения.
Став Патриархом, Никон продолжил созидание Святой Руси, активно участвуя в утверждении государственной мощи на основах святоотеческого предания: так, при нем были открыты мощи (прославлен в лике святых) Великого Князя Даниила Московского; на северных рубежах Руси по образу Крестного монастыря, который под Иерусалимом стоит на месте крестного древа, и во образ явленного Константину Великому на небе Креста, знамением которого он утверждал и защищал Православную Эйкумену, основан Крестный Кий-островский монастырь с утвержденным в нем великим крестом-мощевиком (ок. 300 святых Православной Вселенной), сооруженным для молитвенного охранения пределов Православной Вселенной и Российской державы как ее единственной заступницы и хранительницы. Патриарх регентствовал над государством и обеспечивал обозами русское войско; умелыми политическими шагами он способствовал объединению славянских народов – Великой, Малой и Белой России, приняв под святительский омофор малороссов, белороссов, валахцев561 …
По кончине Патриарха Иосифа Царь, видя, что никого нет равного митрополиту Никону в разуме и во утверждении благочестия, по совету со всем освященным собором понудиша его престол Патриарший прияти 25 июля 1652 г. Святитель Никон всячески отказывался, ссылаясь на свое «недостоинство» и предвидя, что его патриаршество будет недолгим и завершится исповедничеством, подобным подвигу Святителя Филиппа, Иоанна Златоуста.
Первые три года его патриаршества явили образ заветной «симфонии» царской и церковной власти, когда, как писал сам Патриарх Никон в предисловии к Служебнику, изданному в 1656 г., священство Божественным служит, царство же человеческим владеет и о сем печется. Вкупе же уставы и правила Святых отец, яко от Святаго Духа вдохновенны, облобызающе приемлют и держат. Святейший Никон задачу Патриарха понимал и видел в том, чтобы удержать развитие Российской государственности и народности в святоотеческих традициях, в то время как в русском обществе уже намечалось отступление от веры и Церкви, формализовавшееся в «Уложении» 1649 г., согласно которому учреждался Монастырский приказ как светский орган управления церковными имениями, делами и судным производством.
Церковь не стены и кровля, но каноны и пастыри духовные, – говорил Патриарх Никон. Тяготея сердцем к строгому соблюдению церковного устава, он в первую очередь упорядочил богослужение, а также многие стороны церковной жизни. Считая монашество краеугольным камнем Православия, он всячески поддерживал монастыри, ревнуя об их благочинии. Да и на Патриаршество он смотрел как на игуменство в большом монастыре.
Никон напомнил, что «Поместная Церковь есть только часть единой Вселенской Церкви, что между частями этой Церкви должно быть каноническое общение и согласование». Заботясь о единстве веры, Патриарх Никон занимался исправлением новин, внесенных в богослужебные книги, обряды и чины в течение прошедших веков, пока Русь жила «сама в себе». В XVII в. «невежество помрачило чистоту нашего древнего вероучения изобретением новых, неизвестных Церкви, догматов; обезобразило величественный чин богослужения искажением богослужебных книг и обрядов, многогласием в пении и чтении. По воле Творца в избытке наделенный высокими дарования ума, воли и чувства, и строгостию долгаго пустыннаго уединения воспитавший и утвердивший в себе дух ревности по славе Божией и спасении людей, Никон смело и могущественно восстал против суеверия одних и вольномыслия других нововводителей отечественной Церкви. Этим двум ложным направлениям, раздиравшим Церковь, Патриарх Никон противопоставил истинное: восстановление и утверждение в отечественной Церкви совершенного согласия и единения с Церковью Восточной в учении веры, обрядах богослужения, и правилах церковного управления»562. Константинопольский Патриарх Паисий, поддерживая деятельность Патриарха Никона, писал в грамоте 1656 г.: Бог просвети тя во времена наша, да очистятся вся неудобная, и да исправятся.
Патриарх Никон принимал все меры к тому, чтобы в Русской Церкви не было смут и противостояний. В частности, при условии послушания Церкви разрешил служить по старым книгам, допуская разность мнений в вещах, не затрагивающих существа веры. Митрополит Макарий считает, что «если бы Никон не оставил кафедры, раскола в Русской Церкви не было бы»563.
Оставляя Патриарший престол, Святейший Никон свидетельствует: Не больше ли войны – гнев царский?.. Из Москвы я отошел не без ведома царева: Царь знал, что гневается на меня без правды. И от него приходили ко мне… и я им говорил, что иду из Москвы от немилосердия Государя, пусть ему будет просторнее без меня; а то, гневаясь на меня, он не ходит в церковь, не исполняет своих обещаний, данных при нашем избрании на Патриаршество, отнял себе суд церковный, велел судить нас самих и всех архиереев и духовный чин приказным людям.
Понимая губительность подобных притязаний Царя в отношении Церкви, Патриарх Никон также сознавал, что открытое сопротивление царской власти со стороны власти духовной может вызвать в России смуту, разрушающую религиозную основу русского бытия – любовь народа к Церкви-матушке и Царю-батюшке. После длительных молитвенных размышлений он выбрал единственно возможный для себя путь: незаконным притязаниям не подчиняться, в открытое противостояние не вступать; указывая на нетерпимость положения, рассчитывая на отрезвление и покаяние светской власти, оставить кафедру Московского Первосвятителя и удалиться в Воскресенский монастырь. Тому были примерами многие Святители Церкви Христовой, и Иоанн Златоуст в частности, образ служения которого всегда предстоял Патриарху Никону564.
По удалении в Воскресенский монастырь Никон жил в нем самым строгим подвижником, представляя собой для братии образец иноческих трудов. Каждый день по окончании Литургии он со слезами выслушивал молебен Пресвятой Богородице, поемый во всякой скорби душевной и обстоянии. Патриарх Никон всегда и везде являлся примером трудолюбия, исправности и благоразумной опытности: первый исходил на всякое дело и после всех полагал конец своим трудам. Он продолжал составлять летопись, изображая превратности царств, народов и частных людей. В этом уединенном занятии Патриарх точнее узнавал цену своего крестного испытания. Среди строгих подвигов благочестия Никон не забывал и дел милосердия, которое составляло как бы душу его жизни: всех странников и богомольцев Святейший приказывал поить и кормить по три дня даром, в монахи принимать безвкладно, всем давая платье за счет обители. В праздники он всегда трапезничал с братией и сам лично омывал ноги богомольцам и заезжим путникам.
В «Возражении…» в разорении 20-го вопроса-ответа Патриарх Никон подробно изложил также учение о священстве и царстве: Священство и самаго царства честнейши: престол священства поставлен на небеси по глаголу Божию: елика бо аще свяжете на земли, будут связаны на небесех (Мф. 18, 18). Что может сравниться с этою честию: суд от земли восходит на небо чрез священника, который поставлен посредником между Богом и человеками. Сего ради и цари помазуются от священнической руки, а не священники от царской; ибо меньшее от большаго благословляется. Царю вверено здешнее, а священнику Небесное; царю вверено попечение телесное, иерею же – душевное, царь долги имениям оставляет, священник же долги согрешениям; царь действует принуждением, а священник увещанием; царь имеет оружие чувственное, священник – духовное; царь имеет брань к сопостатам, сражается с врагами видимыми, священник же имеет брань к началам и властем тьмы. В разорении 24-го вопроса-ответа, говоря о церковных привилегиях, Никон свидетельствует: Мы не знаем инаго законоположника себе кроме Христа, который дал нам власть вязать и решить. Уж не эту ли привилегию дал нам царь? Нет, но он похитил ее от нас, как свидетельствуют его беззаконныя дела. Какие? Он Церковью обладает, священными вещами богатится и питается, славится тем, что все церковники – митрополиты, архиепископы священники и все причетники покоряются ему, оброки дают, работают, воюют; судом и пошлинами владеет565.
Такое обладание царя Церковью, по слову Патриарха, является антихристовым узаконением, свидетельствующим о духовном перерождении русской монархии, когда из защитника Церкви она начала превращаться в ее обладателя и распорядителя. Царь начал управлять Церковью не в совете с Патриархом, а преболе его. Усматривая в этом духовную катастрофу для России, Святейший Никон решительно свидетельствует, что земной град восстал на град Небесный, что царская власть беззаконно узурпирует власть духовную. Патриарх в такой ситуации становится номинальной фигурой, исполняющей волю самодержца. Таким Патриархом Никон быть не мог и не хотел.
Вынужденный уход Никона с Патриаршего престола представляется исповедническим подвигом стояния в вере и духе архипастыря, который спасал Церковь от грозящего ей поглощения государством, предвидя порабощение Церкви, доведенное до логического конца Петром I. Следствием этого должно было быть неминуемое разорение государства, о чем Патриарх Никон сообщает царю, описывая свое видение в тонком сне Святителей Московских, указавших на пожарище в царском дворце566. Патриарха Никона постигла судьба пророков, гонимых в отечестве своем и претерпевавших многие оскорбления и поругания.
Второй Собор по делу Патриарха Никона состоялся 7 ноября – 12 декабря 1666 г. Отметим, что два Восточных Патриарха, Александрийский Паисий и Антиохийский Макарий, участвовавшие в суде над Патриархом Никоном и решившие дело в угоду Царю и боярам, во-первых, не имели права судить Патриарха, так как сами были низложены со своих кафедр именно из-за этой поездки, а, во-вторых, были подкуплены московским правительством. Известный своей ученостью иеромонах Епифаний Славинецкий добавляет: О том, чтобы Никон чужд был архиерейства и священства, я не только писать, но и говорить не дерзаю. Я не нашел таких правил, чтобы архиерея, самовольно оставльшаго свой престол, но не отрекшагося архиерейства, отчуждали архиерейства и священства.
В приговор Собора включены нелепые вины Патриарха Никона: самовольное оставление престола, строительство монастыря Нового Иерусалима, требование поставить нового Патриарха по его, Никонову, благословению, обличения Царя и членов Собора, жестокое обращение с клиром и др. Выслушав приговор, Святейший Никон сказал: Никоне, Никоне! Вот за что все это тебе: не говори правды, не теряй дружбы. Если бы ты устраивал у себя богатые вечери и с ними угощался, то верно этого с тобой не случилось бы.
Низвергнув Патриарха Никона с Патриаршего престола, его недоброжелатели не только не могли истребить плодов его ревностного служения Церкви и государству, но прочно их утвердили соборным решением. М. В. Зызыкин говорит: «По судьбам Промысла, Патриарха Никона судил Собор, по составу своему почти вселенский, и непреложно утвердил на все времена плоды его пастырских трудов. Этот Собор умолил Царя и пастырей устроить училища для духовного просвещения, утвердил сделанные Патриархом Никоном исправления в богослужебных книгах, чинах и обрядах; постановил правило о неподсудности духовенства мирским судьям; изрек строгий суд на легкомысленных нарушителей уставов Церкви и т.д. С той поры Русской Церкви на бытовом уровне вменяется именование “никонианской”».
С 1666 по 1676 г. Святейший Никон находился в ссылке в Ферапонтовом монастыре. Терпеливый Никон не роптал на свою горестную участь, и за все благодарил Господа, молясь за своих врагов: Отче, отпусти им: не ведят бо, что творят. В письме к Царю Алексею Михайловичу Патриарх Никон открывает свой внутренний настрой: Сила Божия в немощи совершается; благоволю и аз в немощех моих и злостраданиях, зане елико внешний наш человек озлобляется, толико внутренний обновляется. Аз убо не точию страдати всеизволяю, но и умрети готов есмь правды ради, только бы не во твое царство… Мы на то обещались, что терпеть – претерпевый до конца той спасен будет… Терпеньем да течем на предлежащий нам образ взирающе, на Начальника веры и Совершителя Иисуса, Иже вместо предлежащия Ему радости претерпе крест и о срамоте не раде; темже убо да исходим к Нему вне стана, поношение его носяще; не имамы бо зде пребыающаго града, но грядущаго взыскуем567.
С 1672 г., когда Никону разрешен был свободный выход из келий, к нему стали приходить люди, страдавшие телесными и душевными недугами. Никон читал над ними молитвы, помазывал освященным маслом, давал лекарства. Больные получали исцеление. Никон так говорил о своем лечении: Являлся, де, ему, Никону, Христос часто в церкви тем образом, как пишется на иконе, и подал, де, ему благодать чаши лекарственной; и он, де, по тому явлению и по благодати неисчерпаемой чаши лекарственной исцелял и от того его лекарства Бог от болезней многих людей избавлял, а больше того его никто лекарству не учивал. В записях 1672–1675 гг. всех исцеленных значится 132 человека568.
В 1676–1681 гг. Никон находился в Кирилло-Белозерском монастыре, в котором условия заточения были ужесточены. Однако ни бедность, ни теснота, ни унижение не могли поколебать в нем твердого духа: он без малодушия переносил свои страдания и утеснения. Он носил на себе железные вериги и маленький серебряный ковчег со Святыми дарами. В таком расположении духа и с таким напутствием он всегда был истинным воином Иисуса Христа, облеченным во вся оружия Божия против слабостей плоти и искушений духов злобы поднебесной. Он всегда оставался истинным молитвенником, немощами которого стяжался образ Святой Руси и свидетельствовался подвиг страстотерпчества.
17 августа 1681 г. блаженный Никон в добром исповедании, благодаря Бога о всем, яко во страдании течение свое соверши, с миром успе, душу свою в руце Богу предаде, егоже возлюби… Тело же его невредимо отнюдь от вони злосмрадныя, аще и десятодневно пребысть; в толикое бо теплое время… цело и тлению не причастно бе569.
Царь же Благочестивый, непрестанно жалея о Никоне Блаженном, яко не поминается Патриархом… о сем соизволи восписати в Палестину ко всем четырем Вселенским Патриархом, – говорится в житии Святейшего. В сентябре 1682 г. от Вселенских Патриархов были получены грамоты. Патриарх Константинопольский Иаков писал, что Патриарх Никон, хотя был осужден за свои вины собором восточных и русских архипастырей и лишен святительского сана, но благодушно перенес свое наказание, многими и тмочисленными печалми и нуждами себе усмири, и многих печальных ради трудов в небесное Царствие вводящий путь возвратив, в терпении, озлоблении, в нужном пребывании постом и молитвами непрестанными и бденми всенощными, яко злато в горниле, искушен бысть, и яко всеплодие Бога живаго жертва явился, и не даде сна очима своима, ниже дремания на челе своем, ниже покоя составом своим, дóндеже блаженным сном уснув, благочестно к Господу отиде.
Обращаясь к причинам лишения Святейшего Никона патриаршего сана, Вселенский Патриарх замечает, что Никон осужден не яко неких вин ради душевных или телесных, елицы от благодати архиерейства отчуждают, ниже над Божественными догматы благочестий согреши, столп бо благочестия непоколебаемый знаем бысть, и Божественных и священных канонов оберегатель присноискуснейший, отеческих догмат, повелений же и преданий неизреченный ревнитель и заступник достойнейший: но яко человек, человечески болезнуя от малодушия некоего гневом и унынием побежден бысть570.
Собор, составившийся при Константинопольском Патриархе для рассуждения о восстановлении Никона в сонме Всероссийских иерархов, нашел благословным воззвать Никона к патриаршескому поминовению. Никон восстанавливается в сан Патриарха следующими словами: Преподобныя памяти возлюбленный брат наш, Господин Никон, бывший Патриарх Московский и всея Руси, вместо воздаяния и мздовоздаяния, показания ради долгаго преподобничества терпения, имеет прощение и разрешение от приключившагося ему соборнаго извержения, и да будет прощен в нынешнем веце и в будущем от Отца и Сына и Святаго Духа, святыя и Живоначалныя Троицы; восприяв же духовный хитон архиерейства, да приимет, яко Патриарх, всегда церковное поминовение, поминаем с прочими Патриархами московскими во священных диптихах, и по всяким именованным временам священных церковных последованиях безсумненно да сочитается в яве в сочисление прочих Патриархов московских, Патриархом же являемы и именуемы и поминаемы ни один да не сопротивится, подлинно тако да будет! тем же во оправдание издадеся сие прощение его (грамота Патриарха Иакова 5 мая 1682 г.).
***
Память Святейшего Патриарха Никона особенно почиталась в трех основанных им монастырях. Вскоре после его кончины архимандрит Ново-Иерусалимского монастыря Герман († 1682) написал эпитафию своему духовному отцу и учителю: Господень образ зде и Плакидов, ту лежит вторый в терпении Иов. Здесь же определены основания духовной жизни Патриарха Никона: следование Христу, крестоношение и стяжание терпения. Далее архимандрит Герман говорит об архипастырском служении Патриарха Никона, который Аки столп каменн или крепкий от древ / стояще твердо, яко в небо доспев. Завершаются стихи похвалой Царю Феодору Алексеевичу, вернувшему Патриарха Никона из ссылки и со слезами своими руками предавшему тело его земле, целя вред, яже подъял отец.
Архимандрит Герман первым определил для современников и потомков действия Царя Феодора Алексеевича по отношению к Патриарху Никону как искупление вины отца, подобно тому, как Царь Алексей Михайлович признал вину за Царя Ивана Грозного перед гробом Святителя Филиппа устами Патриарха Никона. Признание Патриарха Никона Небесным молитвенником за Царя свидетельствует о вере писавшего в дерзновение почившего Святителя пред Господом, иными словами, в его святость. В надписи XVII в. над входом в придел, где погребен Патриарх Никон, говорилось о нем как о жителе горнего Сиона, предстоящем пред престолом Божиим.
Традицию почитания Патриарха Никона как великого угодника Божия продолжил келейник Патриарха Иван Корнильевич Шушерин, трудами которого для потомков сохранено «Известие о рождении и воспитании и о житии Святейшего Никона, Патриарха Московского и всея России», которое во множестве списков разошлось по всей земле Русской и за ее пределами571. Часто в состав рукописных сборников включались, кроме жизнеописания, документы, свидетельствующие о Патриархе Никоне как о невинно осужденном и как о чудотворце, на Гробнице которого совершаются исцеления больных.
В 1686–1698 гг. архимандрит Воскресенского монастыря Никанор составил стихотворный «Летописец» – первое изложение истории монастыря Нового Иерусалима. Патриарху Никону в нем посвящены строки, которые звучат как церковные песнопения, прославляющие святого: …Апостольским преданиям и Святых отец / Юныя и старыя уча, аки отец, / Горняго ища, долняя вся презирая, / Щит веры имея, ко брани на бесов простирая, / О благочестии истинный бысть ревнитель, / И веры христианския присный хранитель…
Настоятель Воскресенского монастыря архимандрит Леонид (Кавелин) подготовил первое научное издание – «Известие о рождении, воспитании и о житии Святейшего Патриарха Никона» (М., 1871). В 1874 г. им был устроен в Воскресенском монастыре музей Патриарха Никона. Впоследствии этот музей стал образцом для музея Патриарха Никона в Иверском монастыре на Валдае и заложил традицию музейного дела в России.
О Патриархе Никоне как о Соловецком святом говорится в рукописи «Верное и краткое изчисление преподобных отец Соловецких…». О нем упоминает и составитель жития преподобного Елеазара Анзерского: Бысть же и ин ученик преподобному преславен именем Никон, иже бысть Патриарх царствующаго града Москвы и всей России. И той пречуден бысть в житии своем, и многу ревность о исправлении православия показа.
Почитание Патриарха Никона как святого сохранилось в Киево-Печерской лавре, где в 1875 г. была издана книга «Молитвенное призывание преподобных отцев Ближних пещер» со следующей молитвой: Стражие наши, путеводители и бесов отгонители Варвара Великомученица, Борис Страстотерпец, Глеб Страстотерпец, Игорь Мученик, Димитрий Ростовский, Феодосий Черниговский, Иов Почаевский, Никон Ново-Иерусалимский, Тихон Задонский, Иоасаф Белгородский, молите Бога о нас. Это молитвенное призывание сохранено и в издании 1992 г.
В 1891 г. была издана книга архимандрита Леонида «Святая Русь или сведения о всех святых и подвижниках благочестия на Руси (до XVIII века) обще и местно чтимых. Справочная книга по русской агиографии». В этой книге в число 795 святых включен и «Никон, Патриарх Московский и всея России».
О первосвятительском служении Патриарха Никона свидетельствует митрополит Макарий: «Патриаршествование Никона составляет эпоху в истории нашей Церкви. При нем началось соединение двух бывших митрополий, Киевской и Московской, и Никон первый начал называться Патриархом Московским и всея Великия и Малыя и Белыя России и всех земель северных и помория и многих государств. При нем и его главном участии действительно началось вполне верное и надежное по своим основам исправление наших церковных книг и обрядов. Никоном сделана была самая смелая из всех когда-либо у нас бывших и решительная попытка отстоять самостоятельность и независимость Русской Церкви от светской власти, хотя и кончившаяся для него неудачно. При Никоне чаще, чем когда-либо, происходили сношения Русской Церкви с Греческою по делам церковным, чаще, чем когда-либо, приезжали к нам высшие греческие иерархи и при их участии совершались у нас такие Соборы, каких ни прежде, ни после у нас не бывало. Да и сам Никон с его необыкновенным умом и характером и с его необыкновенною судьбою, представляет собою такое лицо, которое резко выдается в ряду других наших патриархов и всех когда-либо бывших в нашей Церкви первосвятителей». Он устроил три монастыря и сам всегда был примером истинно монашеской подвижнической жизни. Он занимался иконописанием.
По словам архиепископа Серафима (Соболева), опровергавшего обвинения Патриарха Никона в гордости и властолюбии, «благодать Святаго Духа была присуща ему с самых младенческих лет и проявлялась в нем в очевидной и поразительной мере до самой его кончины». Он отличался ревностью по Боге, которая высоко ценится в очах Божиих, «ибо все его действия показывают, что центром его жизни была не личная слава, а слава Божия, благо русской Церкви и государства»572.
«В Никоне с совершенной полнотой отразилось самосознание Русской Церкви, самосознание духовной власти, твердо разумеющей свое высочайшее призвание и высочайшую ответственность; отвергающей возможность каких-либо уступок и послаблений в святой области ее пастырских попечений, тщательно хранящей Божественный авторитет священноначалия и готовой исповеднически защищать его перед лицом любых искушений и скорбей»573, – такую оценку деятельности Патриарха Никона дал митрополит Иоанн (Снычев). Она свидетельствует о том, что Патриарх Никон при молитвенном обращении к нему мог бы быть таким же Небесным заступником для современной церковной иерархии, каким для него самого был Святитель Филипп.
Свою лепту в восстановление доброго имени Патриарха Никона внесло и XX столетие. Промыслом Божиим Патриарх Никон и по смерти своей способствовал восстановлению Патриаршества на Руси: выступая на Поместном Соборе 1917 г. в защиту Патриаршества, священномученик архимандрит Иларион (Троицкий) указал на пророческое осуществление слов Патриарха Никона, сказанных им при оставлении престола: Ухожу, чтоб ему, государю, просторнее было. Именно по этой причине было уничтожено Патриаршество при Петре I. Перед избранием Патриарха в 1917 г. все члены Собора совершили паломничество в Воскресенский монастырь Нового Иерусалима. При поставлении Патриарха Тихона ему были вручены крест, белый клобук и мантия Святейшего Патриарха Никона как благословение на подвиг исповедничества веры в годы лихолетья.
Среди исследовательской литературы XX в. особо следует отметить книгу М. В. Зызыкина «Патриарх Никон. Его государственные и канонические идеи» (Варшава, 1931–1939; М., 1995 – репринт), которая выполнена на основе зарубежных источников, в первую очередь работы В. Пальмера. Труд М. Зызыкина впервые вместо обычного объяснения дела Патриарха Никона его личными качествами обращает внимание на историческую перспективу духовной трагедии России и показывает, что именно в неправедном осуждении Первосвятителя Русской Церкви нужно искать ключ к развязке той драмы, которая вывела Россию не на путь одухотворения и воцерковления общественной жизни, а на путь «немецкой духовной колонии». В числе высказываний о Патриархе Никоне как о святом М. В. Зызыкин цитирует замечательные слова митрополита Антония (Храповицкого): Среди великих Вселенских Святителей Божиих имя Святителя Никона блестит, как яркая звезда первой величины на нашем духовном небосклоне.
Новое тысячелетие ознаменовано возможностью «услышать» Святейшего Патриарха Никона и постичь его мысли. «Спустя почти 350 лет после осуждения Святителя ему дали возможность говорить», – так бы сказал один из крупнейших ценителей памятников древнерусской письменности М. В. Ундольский574, который предпринимал попытку публикации выдержек из трудов Никона еще в 1886 г. В письме к историку А. Н. Попову М. В. Ундольский так писал о своей работе: «Мой больше чем полугодовой труд: Отзыв Патриарха Никона об Уложении Царя Алексея Михайловича – не пропущен Петербургскою цензурою по резким выражениям Святейшего автора Возражения. Что делать? Надо дать другой оборот: как при жизни Патриарха многое ему не удавалось, во многом ему грубо отказывали, так и через двести почти лет по его кончине не хотят выслушать его правдивого и весьма замечательного голоса о первом законодательном нашем памятнике… Буди всегда и во всем воля Божия!» (Русский архив. 1886. Кн. 2. № 5–8. С. 302).
В 2005 г., в канун 400-летия со дня рождения Патриарха Никона, увидели свет в издательстве Московского университета его творения, представленные в книге «Патриарх Никон. Труды» (М., 2004). 325-летию со дня кончины Патриарха Никона и 350-летию основания Воскресенского монастыря Нового Иерусалима посвящено и это трехтомное издание.
В ознаменование юбилейных дат, связанных с памятью Патриарха Никона, Министерство образования Российской Федерации выпустило информационное письмо, в котором говорилось: «Поколения ученых пытаются приблизиться к осмыслению “бунташного и темного” XVII в., эпохи Патриарха Никона, тех социально-политических и культурных процессов, которые начали период Нового времени в истории России и своей напряженностью во многом определяли и будут определять ее будущее.
2005–2006 гг. в истории Российского государства знаменательны 400-летием со дня рождения, 325-летием со дня кончины выдающегося церковного и государственного деятеля – Святейшего Патриарха Никона и 350-летием со дня основания крупнейшего духовного, культурно-просветительского центра Русского Православия – Воскресенского монастыря Нового Иерусалима – шедевра национальной и мировой архитектуры…
Министерство образования Российской Федерации, приветствуя усилия ученого сообщества в исследовании исторического прошлого нашего Отечества, направленные на обогащение как национальной, так и мировой науки, культуры, сохранение и укрепление традиций и ценностей, рекомендует: разработать и включить в планы научно-исследовательской работы на 2005–2006 гг. мероприятия, связанные с указанными юбилейными датами истории России»575.
В рамках подготовки к памятным датам Государственный исторический музей в 2003 г. провел первую в истории России выставку «Патриарх Никон и его время» и соответствующую научную конференцию576. В 2004 г. на базе Научно-исследовательского института гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия прошла Всероссийская научно-практическая конференция «Социальные конфликты в России XVII–XVIII веков», одна из секций которой была посвящена Святейшему Патриарху Никону577.
В 2005 г. ведущие научные центры России подготовили и провели:
Арзамасский государственный педагогический институт им. А. П. Гайдара совместно с Арзамасским отделением Всемирного Русского народного Собора и Арзамасским отделением общества Федора Ушакова – 5-ю Арзамасскую соборную встречу, посвященную 400-летию со дня рождения Святейшего Патриарха Никона578 (17–19 февраля);
Союз писателей России совместно со Всемирным народным собором и Центром духовно-патриотического воспитания им. святого праведного воина Федора Ушакова – соборную встречу, посвященную 400-летию Патриарха Московского и всея Руси Никона по теме «Преодоление средостения: Церковь, власть, народ» (16 мая)579;
Православная народная газета «Русь Державная» по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II при поддержке Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Г. С. Полтавченко организовала и провела крестный ход, посвященный единству славянских народов, воссоединившихся в единое государство трудами Святейшего Патриарха Московского Никона и Великого Государя Царя Алексия Михайловича в середине XVII в., а также одержавших победу в борьбе с фашизмом в XX в., по маршруту «Москва – Минск – Киев» (24 мая – 30 июля)580.
Администрация Истринского района Московской области при участии Московского Патриархата и Историко-архитектурного и художественного музея «Новый Иерусалим» – торжественные мероприятия, посвященные 400-летию памяти Патриарха Никона (6 июня)581;
Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации совместно с Московским государственным университетом им. М. В. Ломоносова – конференции «Патриарх Никон: “симфония” разделенных властей в истории и культуре»582 (7 июня) и «Созидание государства Российского: стояние в Духе» (XXXIII Сергиевские чтения, 24 ноября);
Государственный историко-культурный музей-заповедник «Московский Кремль» – выставку «Царь Алексей Михайлович и Патриарх Никон. ”Премудрая двоица”»583 и одноименную конференцию (27–28 сентября);
Научно-исследовательский институт гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия – Всероссийскую научную конференцию, посвященную 400-летию со дня Рождения Святейшего Патриарха Никона584 (27–28 октября);
11 ноября Министерство культуры Республики Мордовия объявило конкурс на создание памятника Патриарху Русской Православной Церкви Никону для г. Саранска585, который был открыт на юбилейных торжествах 5 августа 2006 г.586;
Санкт-Петербургский государственный университет – научную конференцию «Человек верующий в культуре Древней Руси»587 (5–6 декабря);
Государственная Третьяковская галерея, Историко-архитектурный и художественный музей «Новый Иерусалим», Научный центр восточнохристианской культуры, Министерство культуры Московской области – международный симпозиум «Новые Иерусалимы: Перенесение сакральных пространств в христианской культуре»588 (27–30 июня 2006 г.).
В Историко-архитектурном и художественном музее «Новый Иерусалим» стали регулярными Никоновские чтения589, открыта мемориальная экспозиция, посвященная Патриарху Никону и Воскресенскому монастырю Нового Иерусалима. Крупнейшие музеи – Кирилло-Белозерский и Ферапонтовский – также организовали юбилейные экспозиции590; Ферапонтовский музей на своем сайте начал публикацию трудов Патриарха Никона и материалов о нем – см.: http://www.ferapontovo.ru/index.php3?id=1033
В 2006 г. в Москве Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет издал «Никоновский сборник», посвященный 440-летию со дня рождения и 325-летию со дня преставления Патриарха Никона, в состав которого включены: второе из известных краткое «Житие Патриарха Никона» (подготовил А. Г. Авдеев)4 , статьи В. В. Лепахина «Иконическое зодчество Патриарха Никона», Н. А. Кочеляевой «“Проскинитарий” Арсения Суханова в контексте строительной деятельности Патриарха Никона» и др.; в журнале «Альфа и Омега» [№ 3 (47). С. 77–95] вышла статья архимандрита Макария (Веретенникова) «Святейший Патриарх Никон».
2007–2009 гг. были отмечены, пожалуй, наибольшей активностью591 в деле освоения наследия Святейшего Патриарха Никона – состоялись защиты четырех докторских исследований: В. В. Шмидта «Патриарх Никон и его наследие в контексте русской истории, культуры и мысли: опыт демифологизации» (РАГС, 2007), Н. В. Воробьевой «Историко–канонические и богословские воззрения Патриарха Никона» (ОмскГПУ, 2009), С. К. Севастьяновой «Литературно-публицистическое наследие Патриарха Никона: принципы работы автора середины – второй половины XVII века» (НовосибГПУ, 2009), Н. И. Сазоновой «Изменение богослужебного текста как направление трансформации религиозного сознания: на материале литургической реформы Патриарха Никона» (ТомскГПУ, 2009); вышли в свет монографические исследования, среди которых: Н. В. Воробьевой «Личность патриарха Никона в отечественной историографии» (Омск, 2007) и «Историко-канонические и богословские воззрения патриарха Никона» (Омск, 2008), С. К. Севастьяновой «Эпистолярное наследие Патриарха Никона. Переписка с современниками: исследование и тексты» (М., 2007), Н. И. Сазоновой «У истоков раскола Русской Церкви в XVII веке: исправление богослужебных книг при Патриархе Никоне (1654–1666 гг.) (на материалах Требника и Часослова)» (Томск, 2008); Г. М. Зеленской «Новый Иерусалим: Образы дольнего и горнего (Новый Иерусалим: Пространственная икона Святой земли)» (М., 2008) и «Новый Иерусалим: Альбомантология» (М., 2010; представлено как переработанное с дополнениями, правда, без указания составителя и редактора). Кроме того, посвященные наследию Патриарха Никона материалы систематически публикуются в журнале «Государство, религия, Церковь в России и за рубежом», – в частности, в 2009 г. в ознаменование 15-летия возрождения монастыря Нового Иерусалима был специальный выпуск к № 2 «Поруганно-порушенная и восстанавливаемая святыня: Святого Живоносного Воскресения Христова монастырь Нового Иерусалима (наследие Патриарха Никона)».
Благодаря осмыслению прошлого: в его главных персоналиях – Царе и Патриархе; в его главных институциях – государстве и Церкви; в его главных категориях – единичном и общественном – наше современное социально-историческое и духовное бытие становится более ясным и очевидным, так как «проблема Патриарха Никона есть проблема не только русского прошлого, но и русского будущего, связанная с проблемой действенной силы Православия в мире… Толчок, данный три века назад, привел к потере Россией христианского имени и образа Святой Руси… Падение Никона – та точка, тот перелом, около которых должно было обращаться дальнейшее религиозное и политическое развитие многих поколений»592.
Патриарх Никон: духовный свет сквозь века (духовная власть как духовная опора на все времена). (Дорошенко С. М., Юрчёнков В. А.)
Будем неизменно помнить свою недостаточность, и
если позволим себе коснуться сего великого предмета,
то не больше, чем как робкую попытку хотя бы немного
приблизиться к уразумению его до конца.
Архим. Софроний (Сахаров)
Рождение в царство непоколебимое
Сказание о житии Патриарха Никона – Отзывы о Патриархе Никоне – Настоятели Воскресенского монастыря Нового Иерусалима: живая история обители
Сказание о житии Патриарха Никона593
(л. 7 [а]) С небесе Небесных дел исправителем небесное лепотствоваше и хваление, Ангельское пение, ангелоподобными на земли возблиставшим сиятелствы, яко да ими же в жизни зде суще утесняхуся, по отшествии тем возвеличатся. Но да и последородным не будет в лишение подражания, ими же мощно бренными усты дом имамы, поне мало воспомянути таковых добродетели, яко да видяще дела добрая, прославят Отца иже есть на небесех, ибо по не едину якову либо мимотечных добродетелей искренность усмотривше язычницы, великия памяти знаки над гробом таковых поставляти обычай имяху состроены, над Ирон, ов убо того лицу (л. 7об.) подобие, ин пирамиды мудросотворенныя, ин же ина паки досточудная. Много паче должно нам оставити в подпоминании, аще не лица подобием, поне писма начертанием, в нем же бы зримо было последородными досточудное жителство, истиннаго Ироа церковнаго, крепкаго Христова храборника, преподобнаго в Православии воина, твердаго Адаманта в терпении, Святейшаго глаголю Патриарха Никона, Всероссийския Православно-Кафолическия Церкве пречуднаго Архипастыря, и его же наземнаго по Господе жителства, аще и малейшую часть припомянем, истинно небесных дел множество приобрящем, оставльше (л. 8) убо вся яже (до возшествия на престол Новгородский) бывшая от него. Начнем краткословяще от возведения, даже до преставления его припоминати исправления, яже быша сице.
Лета 7160 (1652)-го, в царство благочестивыя державы, Великаго Государя Царя, и Великаго Князя Алексия Михайловича, всея великия, и малыя, и белыя России Самодержца, егда возведен бысть на высочайший Московский Патриаршеский престол, Святейший Никон Патриарх, иже преждебывый Новгородския епархии митрополит, месяца иулия в 25 день, на память святыя богоматере Анны, его же правяше без дву недель, во всяце безмятежстве.
Потом же враг супостат (л. 8об.) всéя враждебныя плевы между Царем и оным. Он же дея место гневу отыде в строенный от него Воскресенский монастырь, Новым Иерусалимом называемый. В нем же поживе 8 лет, 4 месяца и 3 седмицы.
И 175-го, месяца ноября в 30 день, взят бысть из него в царствующий град, на собранный его ради собор: идеже благочестивый Царь, и Вселенстии Патриарси присутстующе, и правилным негли винам подпадша осудиша его сослати в заточение, того же лета, декабря в 13 день, на Бело езеро, в Ферапонтов монастырь. В нем же терпеливый сей быв терпяше всякую скорбь и тесноту 9 лет, и 6 месяц, со всяким благодарением.
И 184-го лета, по преставлении благочестивейшаго Государя Царя (л. 9) и Великаго Князя, Алексия Михайловича всея России, в царство сына его благочестиваго Государя Царя, и Великаго Князя Феодора Алексиевича, всея великия, и малыя, и белыя России Самодержца, преведен бысть из Ферапонтова монастыря, в Кириллову великую обитель. Идеже паки подъя с радостию несносныя скорби и нужды 5 лет, и 2 месяца.
Божиим же благоволением прошлаго 189-го лета, изволися царскому сердцу, да возвратит сего неложнаго пастыря, из толико долговременнаго заточения, послав убо повеле, да вземше честно привезут в царствующий град Московский. Ему же идущу оттуду, на пути разболеся, и присташа судном на Волге, против Толгскаго монастыря, (л. 9об.) и причастися Животворящаго Тела и Крове Христовы, и доплыша града Ярославля, и на реке Которосли, близ Спаскаго монастыря, в судне, успе о Господе, месяца августа в 17 день, в среду, в десятом часе дни, в последней четверти. Его же тело скуташа, и положиша в древяном гробе, и привезше в монастырь Воскресенский же успша, слез и плача Царь, и вси людие премноги исполнишася. И того же месяца в 26 день, взем честное тело сам благочестивый Царь Феодор Алексиевич своима рукама, положи в пречестную раку его, изсечену в камени, со псалмы и пении честне, в церкви Иоанна Предтечи, яже под Голгофою.
Поживе же всего 73 лета, 2 месяца, и 20 дней. (л. 10) Сицевое убо его дивное житие, аще бы пространству писма преподати, истинно без слез не было бы мощно читати, но молим вас, малое о нем читайте, великим его добродетелем подражайте, и долг имуще, поминайте, и молите Господа, иже да сподобит вас и с ним купно ликовати во вечном граде. Аминь.
***
Господь судил Святейшему Патриарху Никону жизнь многосложную, многоскорбную и многоплодную. Святейший понес труды и испытал радости высшего служения и тягчайшие скорби, как телесные, когда он после перенесенного в дороге увечья был без всякого попечения в Ферапонтовом монастыре, так и еще более тяжелые душевные – разного рода клевету, вплоть до обвинения в телесной нечистоте, предательство, в том числе Царем их теснейших духовных отношений, отношений отца и сына. Для шестнадцатилетнего Алексея Михайловича, одновременно пережившего потерю родителей и принявшего бремя ответственности за государство и общество, Никон, строгий монах и аскет, богатырь духа и чадолюбивый отец для пасомых, к тому же переживший утрату своих малых детей и на собственном горьком опыте знающий, что такое сиротская доля, являлся крепкой духовной опорой и любящим отцом.
Святейший Патриарх испытал многие ипостаси человеческого служения: отец семейства и священник, строгий монах-отшельник, настоятель монастыря – и отдаленного сурового, и столичного царского, архиерей, наконец, Патриарх всея Руси. Строитель и зодчий, книжник и государственный деятель, просветитель и строгий, но заботливый пастырь, отец монахам, страдалец в заточении, хранитель святых канонов и ревнитель отеческих преданий, столп благочестия непоколебимый – все это Святейший Патриарх Никон. Бог даровал нашему Отечеству такого исполина духа, такого любящего пастыря, такого исповедника веры Христовой и такого живого человека со всеми своими особенностями, что каждый может найти в жизни и деятельности Святейшего то, что для него близко и назидательно в современный момент жизни.
Главное в Патриархе Никоне – это живая вера, преизобилующая любовь, которой он жил, преображая вокруг себя все и призывая всех к преображению своей жизни и устроению ее во Христе. Известно множество примеров влияния личности Святейшего Никона на разных людей, его благодатной помощи притекающим к нему с верой как при жизни, так и по его отшествии в мир иной, его духовного авторитета как для лиц, облеченных властью, так и для простых людей, во все времена, в том числе и в наши дни.
Когда Собор неправо низложил Святейшего Патриарха и осудил его на заточение в Ферапонтов монастырь, множество людей провожали своего духовного отца и пастыря с воплями и слезами594. Добровольно поехали с ним в ссылку Воскресенского монастыря иеромонахи Памва и Палладий, иеродиаконы Иоасаф и Маркелл, старец Флавиан и два бельца – Клинского уезда монастырского села Завидова дьячок Тараско Матвеев и Костромского уезда домового патриаршего села Вятского Ипатко Михаилов595.
В заточении Господь даровал Святителю-страдальцу «благодать чаши лекарственной» – он стал врачевать страждущих от душевных и телесных болезней. Книги, которые велись в этот период его старцами, зафиксировали более сотни исцелений от разных болезней. Лечил Патриарх молитвой, освященным маслом, святой водой и разными лекарственными средствами природного происхождения596; помогали ему келейник иеродиакон Мардарий и другие старцы. Один из таких помощников, постриженник Патриарха старец Савин, собиравший для него травы и коренья, после взятия Святейшего «под караул» в Кириллов монастырь ушел из Ферапонтова монастыря и сам стал заниматься лечением, переходя от одного монастыря к другому597.
После пятнадцати лет страданий в заточении – сначала в Ферапонтове, а затем в еще более суровых условиях в Кирилловом монастыре – Святейший Никон, освобожденный Царем Феодором Алексеевичем, скончался 17 августа 1681 г. по дороге в Воскресенский монастырь Нового Иерусалима около Спасского Ярославского монастыря. Через десять дней, без признаков тления, был погребен патриаршим чином в Воскресенском соборе под Голгофой в присутствии Государя, царского синклита и множества народа. И с того времени сюда к его гробу стали приходить на поклонение и Цари, и простые люди. Происходившие здесь чудесные исцеления записывались в особую книгу598.
В мае 1682 г. Восточными Патриархами были подписаны разрешительные грамоты, которые отменяли определение Собора 1666 г. о Патриархе Никоне: сняли с Патриарха прещения, наложенные Собором, определи восстановить его имя в священных диптихах Православной Церкви и возобновить постоянное поминовение в ряду Московских Патриархов во всех установленных церковных последованиях. 30 января 1683 г. Русские Цари Петр и Иоанн благодарили грамотами Восточных Патриархов за разрешение Патриарха Никона и разорение наложенного на него соборного прещения «аки не бывшаго». С этого времени начинается открытое восстановление чести и славы Патриарха Никона в России. Патриарх Иоаким, прежде враждебно относившийся к Святейшему Никону, стал служить о нем торжественные панихиды не только в Московском Успенском соборе, но и ежегодно ездить для того в Воскресенский монастырь599.
Патриарх Никон всегда особо почитался в монастыре Нового Иерусалима: при гробе благоговейно хранились его вериги, которые Святейший Никон надел по своем отшествии из Москвы в 1658 г. и уже не снимал их до своей кончины. В возглавии гроба стояла чтимая Патриархом икона Божией Матери Одигитрии600, перед которой усердием почитающих погребенного здесь Святителя теплилась неугасимая лампада. При гробе находилась еще одна икона, медная складная, которую Святитель носил на груди, – столь же тяжелая, как и вериги601.
В монастыре была оставлена на память и благоговейно сохранялась схима Святейшего Патриарха, снятая с него перед погребением при переоблачении в полное патриаршее одеяние. Митрополит Филарет (Дроздов) взял схиму Патриарха Никона для приготовления собственной схимы, как предпочтительный образец перед теми, «какие взошли в употребление у новейших схимников»602.
В 1874 г. архимандрит Воскресенского монастыря Леонид (Кавелин, настоятельствовал в 1869–1876 гг.) собрал церковные и келейные памятные вещи Патриарха Никона и устроил в стенах монастыря церковный музей, положив тем самым начало будущим русским древлехранилищам.
В конце XVII в. при входе в собор, с левой стороны, находился портрет (тафтяной)603 Патриарха Никона, за которым сторож держал ключи от собора. Это – первое изображение Святейшего Никона, от которого произошло исцеление и с которым связано чудесное видение604. Живописное изображение Патриарха находилось и на патриаршем месте в соборе605. На хорах Воскресенского собора против придела св. Павла Исповедника также находился портрет Святейшего Никона. Одно время это была известная парсуна Патриарха, на которой он изображен в окружении братии606.
Со времени погребения Святейшего Никона в монастыре Нового Иерусалима в течение года неотменно совершались Божественная литургия и после нее панихида у гроба Патриарха в дни его памяти: 23 марта/5 апреля, святого преподобномученика Никона епископа и 199 учеников его, с ним пострадавших, – день тезоименитства Святейшего Патриарха; 24 мая/6 июня, преподобного Никиты столпника Переяславского чудотворца – день Ангела и день рождения Святейшего; 17/30 августа – день кончины Святейшего Патриарха; в Димитриевскую родительскую субботу, при этом большая соборная панихида совершалась также накануне, в пятницу; каждый вторник, кроме первой недели Великого поста, Страстной и Светлой седмиц, двунадесятых праздников и их отдания (зимой – в теплом соборном храме Рождества Христова). С 1849 г. по просьбе Московского мещанского общества ежегодно в Фомин понедельник совершалась в память Святейшего Патриарха Никона Божественная литургия и после нее панихида на его гробе «в благодарение ему за построение в самом центре России по образцу Иерусалимскому вечнаго и славнаго храма Воскресения Христова», на что ежегодно отпускалась от Общества особая сумма в 70 руб. серебром607.
«По особенному усердию Мещанского общества к столь знаменитому и единственному на Святой Руси храму Воскресения Христова и по благоговению к памяти блаженного Патриарха Никона, основателя сей многознаменательной обители, испросившего Москве от Святой Горы подобие Иверской Святыни»608 этим Обществом в Воскресенский монастырь была пожертвована икона Божией Матери Иверская, список с московской чудотворной иконы, облаченный в ее древний оклад: на средства Московского мещанского общества для московской «Иверской» был изготовлен новый оклад и вместе с тем сделан живописный список «в меру и подобие» прославленной святыни. Вновь написанная икона была облачена в древние драгоценные ризы с чудотворного образа и прислана в Новый Иерусалим. 25 мая 1852 г., в празднование Всем Святым, икона с крестным ходом от Елеонской горы была торжественно внесена в Воскресенский монастырь и установлена у западного входа в приделе святого Иоанна Предтечи.
Земным ангелом-хранителем Воскресенской обители была царевна Татиана Михайловна, которая глубоко почитала Святейшего Патриарха и всегда хранила в своем сердце благодарность за его попечение о Царственном семействе во время морового поветрия 1654 г., когда он, «не давая сна очима своима и веждома дремания», переезжал с царским обозом с одного места на другое в поисках безопасного от заразы и спокойного для них пристанища. Тяжело переживая осуждение и заточение своего духовного отца, царевна с еще большим усердием заботилась о его любимом детище – Воскресенской обители, оказавшейся в забвении и запустении после осуждения своего фундатора. Помощником в этом деле были ее крестовый дьяк, ближайший ученик и бытосписатель Патриарха, Иоанн Корнильевич Шушерин с сыном, также крестовым дьяком Михаилом.
Царевне Татиане удалось расположить сердце своего племянника, Царя Феодора Алексеевича, к облегчению участи опального Патриарха. Перед своей кончиной она заповедала попечение о святой обители своей племяннице – царевне Марии Алексеевне († 1723). Обе царевны до самой своей кончины преемственно жертвовали для поминовения Святейшего Патриарха по 100 руб. в год на ежедневное служение Литургии в приделе Усекновения главы Иоанна Предтечи, где погребен Святейший609.
Новоиерусалимская обитель, построенная по замыслу Патриарха Никона и его собственными трудами, всегда была царским богомольем. 17 июня 1657 г. Царь Алексей Михайлович вместе со своим семейством был на освящении первого соборного деревянного храма во имя Воскресения Христова и, стоя на высоком холма на востоке обители, получившем впоследствии наименование Елеона, произнес: Воистину благоволит Бог исперва место сие предуготовати на создание монастыря; понеже прекрасно, подобно Иерусалиму. Об этом свидетельствовала и надпись на утвержденном памятном кресте на Елеонской горе610. Все это и определило будущее этого места как Русской Палестины, а монастырю было усвоено именование Нового Иерусалима.
В 1678–1680 гг. Воскресенскую обитель посещал Царь Феодор Алексеевич611. Итогом этих посещений стало возобновление строительства монастыря, первое описание обители, восстановление богослужебных чинопоследований и образа жития братии, установленных Святейшим, и возвращение, хотя и посмертно, устроителя и владыки – Святейшего Патриарха Никона.
Завершение строительства совершилось благоволением и пособием Царей Иоанна и Петра, а также царевен Татианы Михайловны и Софьи Алексеевны. 18 января 1685 г. состоялось освящение величественного Воскресенского собора Патриархом Иоакимом, а все необходимое к освящению было пожертвовано царевной Татианой612. В это посещение царевна Софья указала место для строительства церкви «с трапезою теплою каменною и службы по чину Иерусалимскому»613. Совершительницей церкви стала царевна Татиана Михайловна, поскольку царевна Софья Алексеевна с 1689 г. стала невольной постриженицей Новодевичьего монастыря; новосооруженный храм был освящен во имя Рождества Христова 13 декабря 1692 г. Патриархом Адрианом.
11 июля 1694 г. посетили Воскресенский монастырь Цари Иоанн и Петр для осмотра оконченных работ по возведению церковных и монастырских зданий с оградою614. В 1699 г. Государь Петр приехал в святую обитель с желанием осмотреть место сражения его войск со стрельцами, происходившего с 17 июня по 10 июля 1698 г. под стенами монастыря, и в память об этом посещении оставил в монастыре свои Андреевскую ленту и знаки ордена615.
В 1744–1754 гг. посещала Воскресенскую обитель Императрица Елизавета Петровна. Она много сделала для монастыря: ее именным указом 19 июля 1749 г. монастырю было возвращено именование «Новый Иерусалим»616; на поновление Воскресенского собора, пострадавшего в 1723 г. от обрушения шатра над ротондой и пожара 1726 г., и на устроение новых приделов было пожаловано 30 тыс. руб.
Императрица Екатерина II также немало сделала для знаменитой обители: в 1769 г. пожаловала 3 тыс. руб. на устроение Святого Вертепа и «Вифлеемских» церквей в храме Рождества Христова; ее тщанием обновлен придел в честь Воздвижения Честнаго и Животворящаго Креста Господня на Голгофе. При своем посещении Императрица Екатерина оставила на память в монастыре Георгиевскую ленту как учредительница этого ордена617.
В 1797 г. монастырь Нового Иерусалима посетил Император Павел I со всей высочайшей фамилией и пожертвовал 149 тыс. руб. (его повелением вокруг земляной церкви равноапостольных Константина и Елены был ископан вентиляционный ров для отвода сточных вод). Во время этого посещения Павел I был в Богоявленской пустыни Святейшего, где «возлег на каменной постели и, поцеловав каменное возглавие, сказал: так-то великий Никон смирял себя! Труды его достойны уважения!»618.
В 1837 г. в сопровождении А. Н. Муравьева посетил монастырь наследник трона Цесаревич Александр Николаевич. После молитвенного поклонения Гробу Господню и осмотра Рождественского храма Великий Князь побывал в скиту Патриарха Никона, «чтобы ознакомиться там с оригинальным характером человека, которому пришло на мысль создать в своем Отечестве свой Иерусалим»619 (на память посещения он оставил свою подпись под портретом Святейшего Патриарха, находившимся в трапезной келье Святейшего). Узнав, что в Иерусалиме стены Гроба Господня обложены мрамором и над Гробом горит 36 лампад, Цесаревич изъявил желание украсить и здешнюю святыню. Украшение мрамором часовни было поручено митрополиту Московскому Филарету620, который 12 августа 1839 г. после крестного хода торжественно освятил благоукрашенную Кувуклию над Гробом Господним621.
В 1874 г. Воскресенский собор был обновлен тщанием действительного статского советника П. Г. Цурикова; 15 сентября освящен митрополитом Московским Иннокентием.
Последний раз монастырь встречал царственных паломников 12 апреля 1903 г.622 В этот день обитель посетил Государь Император Николай Александрович с императрицей Александрой Федоровной, а также Великий Князь Сергей Александрович с супругой, Великой Княгиней Елизаветой Федоровной, Великим Князем Димитрием Павловичем и Великой Княжной Марией Павловной в сопровождении многочисленной свиты. В приделе Усекновения главы Иоанна Предтечи, на гробнице Святейшего Патриарха Никона «его величество некоторое время пребыл в глубоком молчании, как бы внутренно молился, а потом изволил разспрашивать о веригах, висящих над гробницею, об иконе Владимирской Божией Матери, вышитой разными шелками, золотом и серебром; обращено было внимание и на изображение за престолом в приделе Иоанна Предтечи, в нише горняго места, так называемой Адамовой главы, которая находится под Голгофским камнем, и на которую, по иерусалимскому преданию, чрез разщелину Голгофской скалы падали капли крови Распятого Христа. По выходе из Предтеченского придела Их Величества и Их Высочества прикладывались к чудотворной иконе Божией Матери Троеручицы. Произведен осмотр всех 10 приделов на хорах и Ризницы. Осмотрели возле придела во имя Марии Магдалины образ Явления ей Спасителя в вертограде, вырезанный из разных дерев и приобретенный еще Патриархом Никоном»623.
Некоторые иностранцы, много слышавшие о монастыре Нового Иерусалима, с большим интересом осматривали эту русскую святыню. В 1699 г. посетил ее секретарь посольства Римской империи Иоганн Корб вместе с чрезвычайным Римским послом Гвариент-Ралли; Корб много писал о Новом Иерусалиме в своем дневнике, дивясь благочестию и набожности Русских Царей и народа. В 1711 г. здесь побывал Датский посланник Юст-Юль.
В 1714–1719 гг. в России с миссией в должности Брауншвейг-Люнебургского резидента был Фридрих Христиан Вебер, который составил одно из самых ярких описаний современной России – того, что удалось ему видеть, слышать или дознать от различных правительственных мест и лиц624. 10 марта 1716 г. с дозволения Императора Петра I Вебер посетил Воскресенский монастырь Нового Иерусалима, о чем сделал запись: «Осмотрев все замечательное, равно как и гроб погребеннаго там же Патриарха Никона, золотую церковную утварь и всю остальную сокровищницу… Некоторые Англичане, бывшие со мной и хорошо знающие толк в драгоценных камнях и жемчуге, уверяли, что драгоценности на всех этих одеждах и ризах неоценимы. Ризы, которыя носили умерший в 1702 году Патриарх Адриан и предшественник его святой Никон, хранились в двух особых сундуках, и одну из них, работы многоценной, 100 лет назад, прислали в подарок Греческие Патриархи. Митры и посохи, предносимые перед Патриархами, обиты золотом и богато усеяны драгоценными камнями; один из таких посохов подарил Московскому Патриарху отец нынешнего Персидскаго Государя… Я много слышал об этом замечательном Никоне…»625.
В 1780 г. Новый Иерусалим посетил Римский Император Иосиф II, путешествовавший под именем графа Фалькенштейна; 1848 г. – Его Светлость Князь Сербский Михаил Обренович; 1869 г. – митрополит Сербский Михаил626.
В 1888 г. приезжала на богомолье девятнадцатилетняя племянница абиссинского негуса Мария Михайловна Амонес в сопровождении двух монахинь Санкт-Петербургского Воскресенского Новодевичьего монастыря, где она воспитывалась.
На протяжении всего времени существования Воскресенского монастыря не пресекался поток паломников, желавших помолиться у святынь и поклониться их создателю, отслужить панихиду на его гробе. Неоднократно молился здесь А. Н. Муравьев и оставил описание своего паломничества627.
Шестнадцатилетним юношей посетил монастырь Нового Иерусалима М. Ю. Лермонтов и свои впечатления увековечил в стихах.
Оставленная пустынь предо мной
Белеется вечернею порой.
Последний луч на ней еще горит;
Но колокол растреснувший молчит.
Его (бывало) заунывный глас
Звал братий к всенощне в сей мирный час!
Зеленый мох, растущий над окном,
Заржавленные ставни – и кругом
Высокая полынь – все, все без слов
Нам говорит о таинствах гробов.
<...>
Пред мной готическое зданье
Стоит как тень былых годов;
При нем теснится чувствованье
К нам в грудь того, чему нет слов,
Что выше теплого участья,
Святей любви, спокойней счастья…628
Трижды приезжал в Новый Иерусалим митрополит Антоний (Храповицкий). Убедившись с юных лет в необходимости восстановления канонического строя Русской Церкви и горячо ревнуя об этом, владыка с раннего возраста заинтересовался личностью Патриарха Никона: тщательно изучив имевшуюся о нем литературу и вопреки преобладавшему в учебных руководствах взгляду на Патриарха Никона как на честолюбца, стремившегося захватить в свои руки прерогативы государственной власти, пришел к убеждению, что Святейший Патриарх Никон – «величайший человек русской истории за последние 200–300 лет, а может быть и во всей русской истории»629.
Впервые Преосвященнейший посетил святую обитель в 1893 г., вскоре после своего переезда в Москву в связи с назначением ректором Московской Духовной академии.
Внимание его приковала икона Господа Вседержителя с припадающими к Его стопам святителем Филиппом, митрополитом Московским и Святейшим Патриархом Никоном (была написана по заказу Патриарха Никона в 1657 г.). Митрополит Антоний впоследствии три раза заказывал себе точную копию этой иконы и дарил ее в новые церкви Волынской епархии. О памятной для него поездке Владыка написал в своей статье «Новый Иерусалим»630: «Не напрасно решили историки, что название гения принадлежит тому человеку, который свою личную мечту, свою внутреннюю жизнь сделает жизнью целого народа. Мечта Патриарха Никона – слить духовную жизнь русского народа с жизнью Вселенской Церкви, с жизнью верующей вселенной… Зависть и ненависть по отношению к Патриарху Никону его личные враги, а за ними и прочие русские шовинисты, простерли и на его гениальное создание и начали толковать о том, что самое наименование нового монастыря Иерусалимом оскорбительно для Христовой веры, которая будто бы знает один Иерусалим на Святой Земле… Новый Иерусалим преимущественно ненавистен врагам Христовым, как знамя православной русской культуры, простирающей свое влияние на русскую жизнь и призывающей наш народ к почитанию церковного приоритета»631.
Благоговейно чтивший память Святителя, митрополит Антоний часто обращался к нему в своих лекциях. Он говорил, что «чем больше изучаются наши исторические памятники, тем ярче и ярче выступает перед нашим мысленным взором светлый образ Святейшего Никона Патриарха – великого праведника»632, главным нравственным правилом которого была любовь633, что, по глубокому убеждению благочестивых русских людей, настанет время, когда этот великий угодник Божий будет прославлен на земле и причислен к торжествующей Церкви на небесах.
Лекция о Патриархе Никоне была прочитана Преосвященнейшим Владыкой и на Всероссийском соборе (1917–1918 гг.). Митрополит Антоний обратил внимание членов Собора на Патриарха Никона как на невинного страдальца от неправедного суда, которого Бог прославил чудесами. Лекция произвела глубокое впечатление на участников и во многом способствовала повороту настроения в пользу восстановления Патриаршества в России.
Еще одним веским аргументом в пользу восстановления Патриаршества стало предпринятое в 1917 г. по инициативе митрополита Антония паломничество участников Собора к месту трудов Патриарха Никона и его последнего упокоения – в Воскресенский монастырь Нового Иерусалима, – совершенное накануне избрания Патриарха, назначенного на 5 ноября. Богослужение совершал митрополит Евлогий (Георгиевский, 1868–1948).
Паломничество в Воскресенский монастырь, связанный с историческими традициями патриаршей власти, имело большое значение для членов Собора – оно способствовало внедрению в их сознание еще новой для них идеи патриаршего первосвятительского единовластия634. При интронизации Патриарха Тихона, происходившей 21 ноября 1917 г. в Успенском соборе, для облачения были взяты из Оружейной палаты ряса Патриарха Ермогена, мантия, митра и клобук Патриарха Никона, и жезл святителя Петра.
В 1931 г. в Варшаве вышла книга «Патриарх Никон. Его государственные и канонические идеи». Автором этого капитального труда, до сих пор остающегося самым полным и глубоким исследованием о великом Святителе, был М. В. Зызыкин (1880–1960), участник паломничества в Воскресенский монастырь в ноябре 1917 г. Именно во время Собора зародилась у него мысль об этой книге, «среди грохота разваливавшейся русской государственности и потуг возрождения Русской Церкви в реформе», когда «невольно вставали общие и вечные вопросы церковно-государственных отношений».
Патриарх Никон был лучшим выразителем идеи Патриаршества. «Личность Никона срослась с этим учреждением, – отмечал Зызыкин, – и по нему мы можем судить и о том, что такое было Патриаршество для русских православных людей»635. Зызыкин обратил внимание на то, что рассмотрение феномена Патриарха Никона важно не только для канонической государственно-правовой и исторической стороны его дела, но и для русского православного самосознания в смысле искупления своего греха перед Церковью и великим святителем Божиим, прославленным Богом удостоверенными чудесами. И в этом аспекте проблема Никона есть не только проблема русского прошлого, но и русского будущего, связанная с проблемой действенной силы Православия в мире636.
С закрытием монастыря в 1919 г. и всеобщим атеистическим воинственным помрачением духовная мощь Нового Иерусалима и его духовного столпа Патриарха Никона не оскудела, но в изменившихся условиях проявлялась по-иному. Новый Иерусалим явил народу Божию новомучеников. В лике святых прославлены: управлявший Воскресенским монастырем с 1907 по 1911 г. архиепископ Воронежский Тихон (Никаноров), принявший мученическую кончину в 1919 г. ст. ст. / 1920 г. н. ст. в Воронеже (был повешен в храме на царских вратах, память 27 декабря/9 января); наместник монастыря в сане архимандрита с 1911 по 1918 г. епископ Невельский Иона (Лазарев) (в 1937 г. расстрелян на полигоне в Бутово, память 8/21 октября); настоятель монастыря в сане архимандрита митрополит Петроградский и Гдовский Серафим (Чичагов), управлявший обителью немногим больше года, с февраля 1904 по апрель 1905 г., но этот год стал важной вехой в истории Нового Иерусалима и ознаменовался оживлением монастырской жизни и обновлением всего монастырского комплекса, третьего и последнего в истории монастыря. Кроме того, архимандрит Серафим переоборудовал монастырскую ризницу и музей Патриарха Никона, коллекцию которого он пополнил своими пожертвованиями, среди которых фотоснимок с иконы Спасителя «Приидите ко мне вси труждающиеся», писаной на полотне им же (митрополит Серафим расстрелян в Бутово в 1937 г., память 28 ноября/11 декабря).
Принятый архимандритом Серафимом в мае 1904 г. в послушники Исаакий Подлуцкий был пострижен в монастыре Нового Иерусалима с именем Исихий и стал последним архимандритом монастыря (в 1938 г. был расстрелян на Бутовском полигоне).
Вторая мировая война оставила неизгладимый след в истории монастыря – 10 декабря 1941 г. при отступлении немецких войск саперы фашистской дивизии СС «Райх» взорвали Воскресенский собор, башни крепостной стены и разрушили перекрытия Трапезных палат; территория монастыря была заминирована. Но и это страшное время засвидетельствовано незримым покровительством Святейшего Патриарха – остались неповрежденными строения и святыни, устроенные и освященные им самим: Голгофа с кипарисовым Крестом в меру Креста Господня, придел Успения Пресвятой Богородицы, где отпевали усопшего Святителя, придел Усекновения главы Иоанна Предтечи с захоронением Святейшего Патриарха, каменные узы Спасителя, камень повития, Гроб Господень, уникальные керамические иконостасы.
В послевоенное время закрытый монастырь с практически недоступной гробницей Святейшего Никона оставался духовной опорой для страждущих и ищущих спасения души. Кто имел возможность, тайно молился в монастыре и в скиту; кто не имел такой возможности, тот приходил в Гефсиманский сад к Силоамскому источнику, к патриаршему камню, лежавшему между Кедронским потоком и Богоявленским скитом, к Мамврийскому дубу, на гору Фавор. Их прогоняли дружинники, но паломники приходили снова и снова, приезжали из самых дальних мест.
В 70–80-х гг. XX в. в закрытых на реставрацию Воскресенском соборе и Богоявленском скиту молились, поминая Патриарха Никона, архиепископы Волоколамский и Юрьевский Питирим (Нечаев, с 1986 г. митрополит), Курский и Рыльский Хризостом (Мартышкин, с 2000 г. митрополит Виленский и Литовский), архимандриты Алексий (Кутепов, с 1984 г. наместник Троице-Сергиевой лавры, с 1990 г. архиепископ Алма-Атинский) с братией Троице-Сергиевой лавры, Евлогий (Смирнов, с 1983 г. наместник Свято-Данилова монастыря, с 1995 г. архиепископ Владимирский и Суздальский) с братией Данилова монастыря, священник Иннокентий (Просвирнин, с 4 февраля 1970 г. диакон, с 22 февраля 1970 г. пресвитер, с 1977 г. иеромонах Иннокентий, с 1981 г. архимандрит), игумен Серафим (Шлыков), протоиереи Лев Лебедев, Николай Попов, иерей Петр Филиппов и многие другие637, которым «несть числа», но обозначим лишь некоторых.
Протоиерея Льва (Лебедев, 1935–1998) Господь призвал к священническому служению из Ново-Иерусалимского музея, куда он пришел по окончании университета. Изучая все, что связано с Воскресенским монастырем и его основателем Патриархом Никоном, Лев Лебедев стал глубоко верующим человеком и принял священнический сан. В 1964 г. среди обломков довоенного музея в развалинах Воскресенского собора им был обретен запрестольный выносной кипарисовый крест Патриарха, в преднесении которого Святитель выходил на первое заседание судившего его Собора 1666 г.638
В начале 90-х гг. XX в. в Ново-Иерусалимском монастыре стала возрождаться церковная жизнь, сначала общинная, при храме святых равноапостольных Константина и Елены. Община не имела своего священника, но не оставалась без духовного наставничества. Помогал своим советом и духовным окормлением настоятель Покровского храма Истринского благочиния протоиерей Георгий (Тобалов; † 2008); всегда откликался на просьбы членов общины отслужить молебен настоятель храма Спаса-Преображения Господня в селе Бужарово о. Николай (Гусаков, впоследствии иеромонах Ермолай)639 – в праздник Богоявления 1993 г. он совершил первый после закрытия монастыря водосвятный молебен в церкви святых Константина и Елены, а также на Иордане. Большую духовную помощь получили члены общины от общения с последним Ново-Иерусалимским монахом, старцем архимандритом Иосифом (Софроновым; † 1993), к которому ездили в с. Внутово (место его последнего служения) за благословением и советом. Промыслом Божиим членам церковной общины посчастливилось встретиться у гробницы Святейшего Патриарха с архимандритом Иннокентием (Просвирниным, 1940–1994), молиться с ним, вести духовные беседы, получать пастырские наставления.
После возобновления в 1994 г. в Воскресенском монастыре монашеской жизни в святую обитель неоднократно приезжали для молитвенного предстояния у гробницы Святейшего Патриарха: епископ Красногорский Савва (Волков; глубоко почитая Святейшего, владыка пожертвовал на восстановление прежнего благолепия Голгофского придела Страстей Христовых необходимое сусальное серебро, собрал замечательную художественную коллекцию житийных сюжетов Патриарха Никона640); священникикоординаторы европейской организации «Помощь Церкви в беде», пожертвования которой помогли демонтировать разрушавшие изнутри ротонду и Гроб Господень строительные леса. Духовник Санаксарского монастыря схиигумен Иероним (Верендякин, 1932–2001), входя в храм св. Иоанна Предтечи, прежде всего клал три земных поклона пред алтарем и затем творил молитву у гроба Святейшего Никона (схиигумен Иероним и скончался в день памяти Патриарха Никона – 6 июня. 8 июня 2001 г., в день его погребения, на гробнице Патриарха приезжий священник по обетованию служил Литию с упоминанием за ней Святейшего Никона и новопреставленного схиигумена Иеронима).
Приходили на моление ко гробу Святейшего настоятель Черниговского скита Троице-Сергиевой лавры игумен Борис (Храмцов, 1955–2001), монашествующие из Нило-Столобенской пустыни, из Псково-Печерского монастыря и Киево-Печерской лавры, из Почаевской лавры и Оптиной Пустыни, греки со Святой горы Афонской и из Палестины, зарубежные архиереи, семинаристы и преподаватели Московской, Сретенской, Коломенской, Николо-Угрешской семинарий. В дни памяти Патриарха Никона молились на гробнице Святейшего братия Соловецкого монастыря, священство и прихожане храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках, где хранится Кийский крест, устроенный Патриархом Никоном для Крестного Кий-островского монастыря.
Сохраняются неразрывные духовные узы Воскресенского монастыря Нового Иерусалима с Белой Русью. Как некогда во времена Патриарха Никона на строительстве и благоукрашении монастыря трудились белорусцы, так и теперь в монастыре несут послушание выходцы из белорусских земель641. Сохраняя исторические связи и преемственность поколений, в 1997 г. от народа Беларуси Президент Республики А. Г. Лукашенко передал в дар восстанавливающейся обители два трактора «Беларусь».
Особенно ярко проявилось духовное влияние Святейшего Патриарха Никона на судьбы небольшого села в Оренбургской области с его храмом во имя Архистратига Божия Михаила. Настоятель его, иеромонах Виссарион (Варюхин), после паломничества в Святую землю и монастырь Нового Иерусалима возгорелся духом воспроизвести в своем храме образы святых мест Палестины. По благословению епархиального священноначалия в селе Октябрьском Оренбургской области появились подобия святых мест Палестинских – возник Малый Иерусалим.
Необыкновенный образ сильного духом Святителя, Патриарха Никона, неправедно отправленного в ссылку, с детства запечатлелся в душе отца Павла (Груздева, 1910–1996). В синодике духоносного старца, в котором длинный список имен разместился на шестидесяти страницах, первым стоит имя Святейшего Патриарха Тихона, отечески благословившего отрока Павла Груздева на монашеский путь, за ним следует имя Святейшего Патриарха Никона. Павел был воспитан в Мологском Афанасьевском монастыре, приписном к Воскресенскому монастырю Нового Иерусалима. Сильнейшее впечатление произвело на будущего старца и навсегда запало в душу монастырское предание о том, как в декабре 1666 г. опального Патриарха Никона везли в ссылку в Ферапонтов монастырь мимо Афанасьевского монастыря, и настоятель, ученик Патриарха Никона Сергий Прокофьев с братией вышли навстречу и «воздали честь опальному Патриарху, за что были избиты стрельцами и выгнаны из обители».
От места упокоения Святейшего Никона обратим свой взор на его родину, небольшое село Вельдеманово в Перевозском районе Нижегородской области. Чрезвычайно красивое, раскинувшееся вдоль оврагов на высоких холмах, оно стоит вдалеке от больших дорог. Жители его тихо, не напоказ, хранят память о своем знаменитом земляке, который мальчишкой бегал по здешним улицам, страдал от злой мачехи, учился у местного старца. 22 мая 1995 г., к 390-й годовщине со дня рождения Патриарха Никона, на месте его родового дома, на Красной Горке, трудами учащихся Вельдемановской школы во главе с учителем истории Н. И. Горюновым и учителем труда В. В. Евтиным был заложен камень с надписью: «Здесь родился Патриарх всея Руси Никон, 1605–1681 гг.» – и обнесен деревянной оградой, сделанной на школьных уроках. За памятным камнем стал присматривать живший неподалеку Г. И. Башкиров, который в 2000–2001 гг. установил неподалеку металлический памятный Крест, изготовленный вельдемановцем И. Вакеевым.
Внимание государства и Церкви к памяти Святителя на его родине ознаменовалось установлением к 400-летию Патриарха Никона большого щита перед въездом в село, сообщавшего, что в Вельдеманове в 1605 г. родился Патриарх Православной Русской Церкви Никон, и возведением памятной часовни на Красной Горке, где стоял родовой дом Патриарха. К сожалению, обустройство территории мемориала, так же, как и находящегося под горой источника, из которого еще ребенком Никита Минин черпал воду, и по прошествии нескольких лет после юбилея оставалось незавершенным. Эта заброшенность вместе с незавершающимся восстановлением полуразрушенного храма Казанской иконы Божьей Матери, на котором вместо золотых куполов и креста, сиявших еще несколько лет назад, теперь синие купола и деревянный крест, – все это производит удручающее, гнетущее впечатление642 и свидетельствует о достаточно формальном отношении к памяти Патриарха и фактическом разорении памятных и святых мест истории нашего Отечества.
Скажем еще несколько слов об источнике, поскольку с ним у автора связано и благодатное воспоминание – просто совершенное чудо, происшедшее в первую поездку в Вельдеманово в 1999 г.: вода из источника, набранная в тридцатиградусную жару в бутылку из-под кваса, через две недели хранения оказалась мутной и с запахом. Посетовав, что нечего будет привезти с родины Святейшего почитателям его памяти, я все же воду не вылила, а убрала. Вспомнив о ней через две недели в связи с поездкой в Новый Иерусалим, обнаружила, что вода была кристально чистой, без запаха и удивительно вкусной, как и в источнике.
Происходящий ныне поворот в сознании многих людей к вечным ценностям Православия все больше высвечивает духовную сторону служения Святейшего Никона, его патриаршество, его первосвятительский подвиг. Для своего народа на протяжении многих лет он был прежде всего великой исторической личностью, великим государственным деятелем, поднявшимся от простой крестьянской избы на самую вершину власти.
Большая родина Патриарха Никона – Мордовия – еще с 90-х гг. XX столетия обозначила его в ряду выдающихся людей, поместив его портрет первым в галерее Дома Правительства Республики, а в год 400-летия со дня рождения Святителя почтила своего соотечественника памятным поклонным крестом из черного мрамора с надписью: Его Святейшеству, Патриарху всея Руси Никону от мордовского народа, торжественно установленным 28 мая 2005 г. в селе Вельдеманово с южной стороны от Казанской церкви. К 325-летию со дня кончины Святителя в Саранске установлен первый в России памятник Патриарху643, выполненный мордовским скульптором Н. М. Филатовым.
Особая тема – значение Патриарха Никона для жителей города Истры644 Московской области, его влияние на их жизнь. Многие из приезжающих в этот город отмечают приветливость, какую-то особую душевность и чуткость местных жителей. Не побоимся утверждать, что причина этому – Ново-Иерусалимский монастырь, который для многих открывает Святейшего Патриарха Никона, и это навсегда отражается на всей последующей жизни645. Для примера приведем несколько историй.
В первой половине 30-х гг. XX в. в Воскресенском монастыре была вскрыта гробница Патриарха. В соответствии с былыми порядками для формального соблюдения законности была создана комиссия, в которой принял участие сотрудник истринской милиции, родственник Р. И. Шорец, бывшей в те годы девочкой-подростком. Происшедшее вскрытие произвело на него столь сильное впечатление, что он сразу после этого пришел к своему брату и рассказал о вскрытии гробницы Патриарха Никона: долго не могли снять верхнюю плиту646, подводили ваги, а когда все-таки открыли гробницу, то больше всего людей поразило, что все было абсолютно цело, Патриарх лежал как живой, особенно запомнилось лицо. Потом стали снимать облачения, но когда стали браться за нижнее, то все рассыпалось в прах. Так запомнила этот рассказ племянница – участница комиссии, присутствовавшая при разговоре. Эмоциональное впечатление было настолько сильным, что рассказ врезался в ее память на всю жизнь647.
После окончания войны в монастыре Нового Иерусалима были зарубежные архиереи, поименно нам они неизвестны. Они приезжали, чтобы лично удостовериться в разрушении знаменитого монастырского архитектурного комплекса, который был включен как свидетельство преступлений фашистов против человечества в материалы Нюрнбергского процесса. В ходе визита они просили местное руководство дать им провожатого из местных старожилов и обязательно беспартийного. Можно удивляться, но такой человек нашелся в городском совете – им был Н. Ф. Грузов. Из рассказов о том знаменательном событии в кругу семьи его невестка пересказывала наиболее запомнившееся: «Комиссия осмотрела монастырь. По окончании работы перед собором были накрыты столы белыми скатертями (возможно, что и молебен был отслужен) и было угощение. Архиереи сказали властям, что Церковь может восстановить монастырь, но их предложение было отклонено. После этого визита в течение нескольких лет от приезжавших приходили письма, в которых они интересовались положением монастыря, положением верующих, но Н. Ф. Грузов, по понятным причинам, никогда не отвечал»648.
После возобновления жизни Воскресенского монастыря, в 1994 г., впервые со времени восстановления в Русской Церкви Патриаршества, Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь своим присутствием почтил Святейший Патриарх Алексий II. 25 августа в Воскресенском соборе он совершил торжественный молебен, осмотрел монастырские строения, прошел к скиту и Иордану649. 6 декабря 1997 г. Его Святейшество совершил освящение храма Рождества Христова, а 16 декабря 1999 г. – придельной церкви Успения Пресвятой Богородицы в Воскресенском соборе. Каждое богослужение Святейший Патриарх заключал проникновенным словом, исполненным почтения и любви к Патриарху-страстотерпцу, призывал к возрождению достойной и спасительной монашеской жизни на месте подвигов и упокоения Святителя.
6 июня 2005 г. впервые после закрытия обители в день памяти Святейшего Патриарха Никона была совершена архиерейским чином Божественная литургия и соборная панихида на гробнице Патриарха.
Новый Иерусалим, любимое детище Патриарха Никона, живет свою новую историю. 2008 г. открыл ее новый этап: сменился наместник – теперь это игумен Феофилакт, на самом высоком уровне принято решение о восстановлении монастырского комплекса650. Предыдущие поколения сохранили, что могли, из наследия Патриарха. Сумеют ли преемники новейшего времени полюбить этот дар и правильно им распорядиться, сохранив и преумножив вложенное в святую обитель ее фундатором и взросшее преизобильными плодами духа, что так ощущает открытая добру душа любого, высокообразованного и самого простого, верующего и далекого от религии, человека, приходящего в Новый Иерусалим.
От Патриарха Никона «изливалась поразительная – могучая и добрая – духовная сила, способная легко покорять сердца людей. Основными составляющими этой мощи являлись глубокая молитвенность, большой жизненный опыт, многолетний аскетический подвиг в самых суровых условиях, цельность души в ее стремлении к Богу, отрешенность от земных страстей, необыкновенное спокойствие, порожденное внутренней независимостью, поразительная прямота и честность (Никон никогда не умел хитрить), живой ум, бодрость духа, большая начитанность, прекрасное знание Священного Писания, умение вести беседу даже с сильными мира сего непринужденно, без робости, но с должным почтением. Это было то природное благородство души, которое не редкость в простом верующем русском народе и которое всегда вызывает восхищение»651.
Отзывы о Патриархе Никоне652
В. Ш.653: Анализ и обобщение историографической традиции, сложившейся в вопросах оценки роли и деятельности Святейшего Патриарха Никона, дают основание утверждать, что отечественные историки, как правило, имеют предвзятое мнение, их исторический вердикт далек от объективности. Более заботясь о себе, своем положении и признании со стороны государственной власти, нежели о научно-исторической правде, эти ученые мужи охотно принимали на веру приписываемое Патриарху Никону дворцовой легендой стремление к захвату царской власти. Не утруждая себя тщательностью в изучении архивных материалов, они были словно флюгер, творили «свою историю», которая пропагандировалась властью, ими же обеленной. Все это вряд ли содействовало открытию Правды, торжеству Истины и оттого и никак не способствовало становлению государства и развитию гражданского общества. Создается впечатление, что в своей духовной беспечности и бытийной безответственности и власть, и обеспечивающие ее – избрáнные от научно-интеллектуальной элиты и клира – изгладили из своей памяти непреходящий принцип: в плюющего в свою историю будущее стреляет из пушки.
Практически никто из исследователей до последнего времени не обращал внимания на то, что так называемая историографическая критическая традиция была заложена людьми, не радевшими о величии и могуществе России, а работавшими на подрыв. Прежде всего в истории Патриарха Никона мрачный след оставил Паисий Лигарид. Именно составленное Лигаридом описание бесчинного Судного собора 1666 г. (организованного им же вместе с Царем и Приказом тайных дел), в котором на будущие времена внушались якобы присущие Первоиерарху Русской Церкви гордость, тщеславие, жажда власти, брали наши именитые отечественные историки за исходный пункт в объяснении личности и поступков Патриарха Никона.
Вместе с тем важен и следующий факт: бывавшие в России иностранцы стремились как можно больше узнать о Патриархе Никоне и его деятельности и сделать его мысли доступными и своему правительству, и своему народу. Так что научно-исследовательская позитивная историография в большей степени, чем российскими, сформирована европейскими историческими и обществоведческими школами. При этом бросается в глаза следующий факт: отечественная специализированная реферативно-обзорная научная и популяризаторская литература при появлении позитивных исследований, связанных с именем Патриарха Никона, обходила их стороной – они практически не упоминались; если же были какие-то публикации, то зачастую необъективные и формальные. Возникает ощущение, что исторически с именем и делом Святейшего Патриарха Никона был связан идеологический заговор, защищенный и обеспеченный государственными силами.
***
Среди иностранцев, оставивших после Паисия Лигарида свое суждение о Патриархе Никоне, нужно различать лиц, бывших при Московском дворе вскоре после его патриаршества, и лиц, знавших о Святейшем лишь по слухам.
Отзыв о Патриархе Никоне иностранных православных иерархов, имеющих право судить высших духовных лиц, дается в грамоте Константинопольского Патриарха Иакова от 5 мая 1682 г. (также в грамотах и остальных Вселенских Патриархов – Александрийского, Антиохийского и Иерусалимского): «…и в прошлых годех бывший Патриарх Московский и всея Руси кир Никон… столп благочестия неколебаемый знаем бысть, и Божественных и священных канон оберегатель искуснейший, отеческих догмат повелений же и преданий неизреченный ревнитель, но заступник достойнейший: но яко человек человечески болезнствуя от малодушия некоего гневом и унынием побеждаем бысть, которых ради вин… умноживше ссоры… и обличен и повинен осужден по закону церковному наказанию и оставлению патриаршескаго достоинства, яже благосовестнее приняв многими и тьмочисленными печальми и нуждами себе усмири и… яко злато в горниле искушен бысть… праведно и достойно благоприятнаго мужа онаго от извержения возменяем…».
Доктор Коллинс, в качестве капеллана сопровождавший в Москву компанию английских купцов, писал в 1660 г. о Патриархе Никоне: «Патриарх глава во всех церковных делах, очень почитаем Его Величеством, но из-за какого-то неудовольствия он удалился в свой монастырь два года назад… Бояре говорят, что Никон, если бы имел власть и время, захватил бы 1/3 государства; но когда Никон предложил условия своего ухода и заметил, что патриарший дом может же чем-нибудь содействовать его содержанию, ибо он увеличил его доход до 20 000 руб. ежегодно, то они не смогли согласиться».
Барон Мейерберг, прибывший в Москву 25 мая 1661 г., источником своего осведомления имел двор. «О причинах падения Патриарха Никона, – писал он, – существуют разные толки. Наиболее вероятное объяснение у тех, кто приписывает его падение страсти нововведений и его неугомонному настроению, которым он вовлек Россию в войну сначала с Польшей, и затем с Швецией».
Архидиакон Кокс (сведения о нем напечатаны в 1792 г. в Лондоне), сопровождавший лорда Герберта в его путешествии в Польшу и Россию, называет Патриарха Никона человеком выдающихся способностей, просвещения и добродетели, смелым патриотом и самым верным советником и слугой Царя, падение которого вызвано завистью и злобой придворных, не могших вынести его превосходства.
Кульчинский (униат) выдавал за факты сплетни, распускаемые врагами Патриарха Никона, почему и писал, что «Никон хотел носить титул Папы по примеру Восточных Патриархов, писавшихся иногда Папами, что будто у него заготовлены были папские регалии», а также разные другие несуразности о Патриархе Никоне, приписывая ему католичество.
Пихлер в своем сочинении «Gеschichtе dеr kirchlichеn Trеnnung zwischеn dеm Oriеnt und Occidеnt» опровергает опубликованные Кульчинским небылицы о Патриархе Никоне.
Lеvеsquе в четвертом томе «Histoirе dе Russiе» касается участия Патриарха Никона во внешней политике Московского государства: «Никон содействовал своим мнением войне с Польшей. Шведская война вытекла из нее. Когда пришлось снять осаду с Риги, когда успехи в Польше стали менее значительны, Алексей отнес все несчастья к советнику. В событиях Царь был виновен не менее Никона. Но Никон увидел перемену чувств в Царе и не захотел играть при дворе в столице смиренное лицо опального фаворита; он ушел на дело простого монаха в Воскресенский монастырь».
Обвинение Патриарха Никона в развязывании Шведской войны повторяется у немецкого историка Hеrmаnn’а в «Gеschichtе von Russlаnd», причем окрашивается заботами Патриарха о православных Ингрии и Карелии: «Если Никон имел своим влиянием преимущественное участие в начале Польской войны, то одновременно он надеялся поставить под русское господство православных жителей Карелии и Ингерманландии и поощрял ради этого Царя к войне со Швецией в Ливонии. После неудачного исхода с этим начинанием охладело к Никону то доверие, которое делало из Никона закон для Царя… [Никон] он удалился в Воскресенский монастырь не из противодействия светской власти, а вследствие порухи чести, несовместимой с его духовным положением и непереносимой для его достоинства».
А. Стэнли, писавший о Святейшем Никоне в первой половине ХIХ в., преисполнен великого почитания к характеру и деятельности Патриарха: «Неоспоримо, Никон есть величайший характер в летописях русской иерархии, и даже между деятелями своей Восточной Церкви немного можно указать таких, которые могли бы сравняться с ним, как церковные политики… Через всю глубокую мглу, которая лежит над нами, можно разглядеть оригинальный характер человека, соединяющего со своенравным упрямством переросшего избалованного ребенка редкий юмор и неутомимую энергию западного политика».
Стэнли считал Патриарха Никона первым русским реформатором и великим иерархом, понявшим, «что настало время дать жизнь обрядовым церемониям и нравственное направление набожным чувствам русской религиозности». Разрыв между Патриархом и Царем Стэнли объясняет продолжительным отсутствием Царя в походе и неудачей Шведской войны. Описывая гробницу Патриарха в Воскресенском монастыре, Стэнли пишет: «Здесь покоится он, далекий от идеального типа святого характера, оставив, однако же, своей Церкви пример, в котором она нуждается, решительного и деятельного руководителя, призванного и прославленного, когда признание и слава были уже слишком поздни». Для Стэнли остались непонятыми взгляды Патриарха Никона, но он оценил его могучую природу, нравственную независимость, прямоту, бескомпромиссность в борьбе, полное отсутствие человекоугодничества и признал в нем одного из величайших иерархов всей Восточной Церкви.
Thеinеr в своем сочинении «L’Еglisе schismаtiquе Russе d’арrès lеs rélаtions récеntеs du рrétеndu Sаint-Synod» пишет: «По Иосифе I вступил Никон, человек дивного величия духа, воистину достойный занимать Патриарший престол… Это – первый и единственный русский Патриарх, поступавший по чувству долга и по достоинству своего служения. И он пал жертвой власти, которую пугало его величие. Антиохийский и Александрийский Патриархи, приглашенные Царем, имели смелость соединиться, чтобы погубить своего товарища. Они скрепили нечестивый суд Царя против Патриарха, ревностного в поддержании авторитета его узурпированной теократии». Thеinеr считал, что падение Патриарха Никона нанесло смертельный удар Русской Церкви.
Tondini в «Réglеmеnt еcclésiаstiquе dе Рiеrrе lе Grаnd» называет Патриарха Никона одним из самых ученых людей своей эпохи, о чем пишет: «Среди Московских Патриархов оказался один с духом поистине епископским; это был Никон, занимавший Патриарший престол во времена Царя Алексея Михайловича, отца Петра I. История Церкви при Патриархе Никоне, это история крайней борьбы, выдержанной этим Патриархом ради спасения независимости духовной власти… Никон, осужденный своими собратьями по епископату (1666), пал, но пал, как мученик».
Раlmiеri в своем последнем сочинении «Lа Chiеsа Russа» считает, что «с Никоном, непоколебимым в своих требованиях, прекращается моральная свобода русской иерархии». Рассматривая реформаторство Петра I в области церковной, он делает заключение, что это – результаты той системы, которую выдвигали Патриаршие свитки 1664 г. о высшей безграничной власти Царя, и что «наследники византийского сервилизма подтвердили свои теории, дойдя до срывания с неустрашимого Никона знаков его достоинства». Раlmiеri, видимо, восторгается, что низложенный Патриарх бросил им в лицо упрек в уничтожении священства ради денег, но говорит, что борьба Патриарха Никона с Царем ради прав иерархии кончилась поражением, ибо русский епископат привык склоняться под железной палкой гражданской власти.
В. Пальмер более всего содействовал выяснению основ идеологии Патриарха Никона. Он тщательно исследовал «Судное дело» Патриарха, вникая в каноническую предпосылку каждого объяснения Святейшего на суде и исходя из воззрений самого Предстоятеля, изложенных в «Возражении или Разорении…» (Пальмер перевел этот фундаментальный труд средневековой русской мысли на английский язык и опубликовал для научно-общественных нужд цивилизованного мира). Таким образом, ему удалось глубже, нежели другим, понять личность Святейшего и проникнуться его учением: «Чем больше мы изучаем характер Никона, тем менее находим оснований обвинять его в каком-либо из тех недостатков, которые навязывались ему его врагами. В нем не было ничего похожего на незнание или забвение различия и пределов между духовной и гражданской властью, никакой склонности к мирскому или духовному надмению».
В церковно-общественной деятельности Святителя Православной Церкви Пальмер видит образец тех отношений, в которых должна стоять духовная власть к власти гражданской: «Во всю продолжительную борьбу, составившую его жизнь, мы видим, чего он требовал для себя и от себя лично: именно строгого покаяния и самоумерщвления за грехи свои и своего народа, скудной пищи, жесткой, как камень, постели и изголовья, и тяжелых вериг. После несправедливого осуждения и низложения он не позорит своих врагов, не покровительствует отпадению от Церкви, которая сама была участницей в неправде, но неуклонно содержит истину».
Пальмер не только показывает каноничность действий Патриарха Никона, но и углубляет проблему – показывает значение борьбы Патриарха для Церкви, для России и любого государства, осуществляющегося в христианской цивилизации.
М. В. Зызыкин в своем трехтомном труде показывает Патриарха Никона как поборника идеи «симфонии» государственной и церковной власти, заимствованной из древнего византийского права. Точка зрения М. В. Зызыкина согласуется с заключениями не менее состоятельного ученого – М. Спинки.
* * *
Как XVII, так и XVIII в. были неблагоприятны для выяснения дела Патриарха Никона. Духовный регламент с его сообщениями о «замахах», имевшими в виду Патриарха Никона («да не помянутся бывшие и у нас подобные [папским] замахи»), и торжество Синодального правления над Патриаршеством не могли содействовать установлению истины. Петр I не только отменил Патриаршество, но и постарался унизить память о самом ярком представителе его, Патриархе Никоне654. В 1700 г. он запретил властям Воскресенского монастыря Нового Иерусалима построение церкви во имя преподобного Александра Свирского на месте кончины Святейшего Никона Патриарха, хотя митрополит Ростовский Иоасаф (к нему обратились власти Воскресенского монастыря в связи с тем, что крест, поставленный на месте кончины Святителя, смыло вешними водами) 22 июня 1700 г. дал благословенную грамоту на строительство этого храма. Построенный Патриархом Никоном Иверский монастырь был присоединен Петром I к нововозведенной Александро-Невской Лавре, куда из обители были перевезены лучшие колокола и некоторые драгоценные сосуды.
При Екатерине II среди историков, представляющих различные взгляды, – от В. Н. Татищева до церковного историка Петра Алексеева – Патриарх Никон вызывал сарказм, нападки и осуждение.
О властолюбии Патриарха Никона и о его якобы католических поползновениях вслед за Кульчинским повторяет В. Берх, на которого в свою очередь ссылался биограф Патриарха Иоакима И. Смирнов, осуждавший Патриарха Никона за то, что «он шел в сторону прямо противоположную потребностям времени».
М. М. Щербатов считал, что государственной власти следует остерегаться стремления Церкви захватить власть и быть начеку, памятуя историю Патриарха Никона.
Н. М. Карамзин писал, что самодержавный Император Петр I отменил патриаршую власть как бесполезную для Церкви и вредную для единовластия Государей. Он даже не ставил вопрос, мог ли по канонам Царь отменить Патриаршество, и где и когда был нанесен Патриаршеством вред царской власти.
Ю. Ф. Самарин, имевший в своем распоряжении некоторые официальные документы, признавал, что многие обвинения против Патриарха проникнуты личной ненавистью и носят признаки грубой клеветы, что «вообще в этой многосложной и великой тяжбе Царя с Патриархом правда и неправда, действительные вины Никона и клеветы, на него возведенные, важное и ничтожное так перемешано и сбито, что, вероятно, уже оно не предстанет никогда во всей ясности и строгости». В своем понимании Патриарха Никона Самарин обвиняет Святейшего в противном духу Православия желании неограниченной, самодержавной власти: «Вообще замысел его клонился к тому, чтобы основать в России частный национальный папизм», – делает заключение историк.
Большой корпус официальных документов по делу Патриарха Никона, как многие неоправданно полагают, впервые использовал С. М. Соловьев. Но нужно помнить, что документы для копирования отбирались недоброжелательной к Патриарху правительственной партией без особой скрупулезности, а потому предвзято и односторонне. Именитый историк утверждал, что «взгляды Никона на отношения между царской и патриаршей властью расходятся с преданием Восточной Церкви, как они утверждены в русской истории».
В. М. Ундольский – один из немногих ученых, основательно изучивший труды Святейшего, борьбу Патриарха Никона с Монастырским приказом считал преувеличенной, вмешательства со стороны Царя в дела Церкви не усматривал даже тогда, когда митрополит Крутицкий обращался к Царю с предложением выбора лиц для поставления в епископы и архимандриты. Изучая «Возражение или Разорение…» Патриарха Никона, Ундольский не сумел понять, что критика Патриарха направлена, собственно, на набиравшую силу секуляризацию и цезарепапистские настроения Царя. В этой связи можно лишь заметить: чтобы оценить «Возражение…», надо встать на точку зрения самой Церкви.
Приписывая суждения Патриарха Никона в его «Возражении…» его «крутости», Ундольский тем не менее свидетельствует: «Станете ли вы рассматривать богатейшие вещи патриаршей ризницы, обратитесь ли к памятникам зодчества от Патриаршего дома до монастырей Иверского и Ново-Иерусалимского с монументальным памятником с (доселе единственным) храмом Воскресения, везде увидите гений Никона. Самое Возражение, писанное не в спокойном расположении духа («огорчевался от великия кручины»), не ясно ли доказывает, что Никон имел способности необыкновенные, обладал обширным знанием Священного Писания, соборных правил, писаний святоотеческих и ко всему этому, при отличной памяти, был находчив до невероятности».
Н. И. Костомаров из рассмотрения церковно-обрядовых справ (по Костомарову, реформ) сделал заключение, что благочестие Патриарха Никона не шло далеко за пределы обрядности: «Буква богослужения приводит ко спасению; следовательно необходимо, чтобы эта буква была выражена как можно правильней. Таков был идеал Церкви по Никону. Буква обряда давно уже камнем лежала на русской духовной жизни, эта буква подавляла богатую натуру Никона». Святейший Патриарх, «ревностно взявшись за дело достижения единообразия церковной обрядности, логически должен был сделаться борцом за независимость и верховность своей патриаршей власти». Костомаров в своих рассуждениях не касается канонической оценки деятельности Патриарха Никона, но признает его одним из самых крупных, могучих деятелей Русской Истории.
Митрополит Московский Макарий, как бы продолжая традицию Лигарида–Соловьева, говорил о властолюбии Святейшего Патриарха Никона: «Никон при всем уме не умел поставить себя на такой высоте, как следовало бы по отношению к своему царственному другу, не умел сдерживать своей необузданной гордости и властолюбия и с упорством оставался верен тому началу, которое высказал еще при избрании его на патриаршую кафедру, т.е. чтобы сам Царь слушал его во всем как Патриарха. В своей дружбе с Царем Никон желал быть лицом господствующим и позволял себе такие вещи, которые не могли не оскорблять Государя, и, повторяясь нередко, неизбежно должны были вести к столкновению и размолвкам, взаимному охлаждению друзей и, наконец, привести к разрыву». Но митрополит Макарий сам же ограничивает это положение: «Как далеко ни простиралась власть Патриарха Никона, он никогда резко не выступал из пределов по отношению к царской власти». Борьба Патриарха Никона против цезарепапизма представлялась митрополиту Макарию борьбой Патриарха за личное господство, он неоднократно цитирует Паисия Лигарида, тем самым изобличая источник убеждения в гордости и властолюбии Патриарха Никона.
В. О. Ключевский останавливался преимущественно на психологической стороне церковных преобразований Патриарха Никона и рассматривал историю в контексте раскола. Причину раскола Ключевский видел прежде всего в столкновении иностранного влияния с традиционным древнерусским мировоззрением. Принимая на веру мнение боярской партии о покушении Патриарха на царскую власть, Ключевский считал, что решительные действия государства против таких претензий Патриарха Никона привели к низложению последнего. Вместе с тем ошибочность понимания идей Святителя (верное понимание требует изучения подлинных сочинений) не помешала Ключевскому оценить их духовную силу: «Из русских людей XVII века я не знаю человека крупнее, своеобразнее Никона. Но его не поймешь сразу: это – довольно сложный характер и, прежде всего, характер очень неровный. В спокойное время, в ежедневном обиходе, он был тяжел, капризен, вспыльчив и властолюбив, больше всего самолюбив… Но это едва ли были его настоящие коренные свойства. Он умел производить громадное нравственное впечатление, а самолюбивые люди на это неспособны. За ожесточение в борьбе его считали злым; но его тяготила всякая вражда, и он легко прощал врагам, если замечал в них желание пойти ему навстречу, с упрямыми врагами Никон был жесток. Но он забывал все при виде людских слез и страданий; благотворительность, помощь слабому или больному ближнему была для него не столько долгом пастырского служения, сколько безотчетным влечением доброй природы… По своим умственным и нравственным силам, – заключает Ключевский, – Никон был большой делец, желавший и способный делать большие дела, но только большие. Что умели делать все, то он делал хуже всех; но он хотел и умел делать то, за что не умел взяться никто».
Н. Ф. Каптерев, повторяя основополагающие суждения Паисия Лигарида о Патриархе и подкрепляя их подобными суждениями иных, доказывая при этом подкупность Собора 1666 г., оживил традиционную критическую линию историков, осуждающих Патриарха Никона за гордость и властолюбие, простирающиеся до пределов восхищения на себя царской власти. По мнению Каптерева, Патриарх Никон достиг невиданного могущества благодаря благоволению Царя, но это не было могущество Церкви; со временем Царь понял, что деятельность Патриарха не приносит пользы обществу и государству, а это в свою очередь и привело к разрыву с «собинным другом».
П. В. Знаменский считал, что значение Патриарха Никона держалось единственно на его личной силе и на любви к нему Царя – опорах недостаточно прочных. «Орудием, которым эти опоры были подломлены, – писал профессор, – были многочисленные враги Никона, действовавшие против него со всем усердием личного раздражения. Прежде всего своим великим государственным, крутым характером, привычкой сталкиваться со всеми, власть имеющими, он вооружил против себя сильную партию бояр… Все эти люди зорко следили за Патриархом, ловили всякий случай, где он слишком резко выставлял свою власть, перетолковывали каждый его опрометчивый шаг, а таких шагов много допускал горячий человек, не умевший владеть собой и не обращавший внимания на то, что говорил и что делал… Наконец, против Патриарха было все духовенство, раздраженное его строгостью, недоступностью, жестокими наказаниями, усиленными поборами в патриаршую казну и на войско и доведенное им до последней степени приниженности».
П. Н. Милюков полагал, что Церковь, будучи с монгольских времен выражением единства русского народа, нуждалась в правовом основании фактического положения, что и попытался сделать Патриарх Никон, проповедуя идею превосходства священства над царством. Однако со смертью Патриарха Филарета обстоятельства изменились, и государство начало борьбу против старинных привилегий клира, так что даже Патриарху Никону пришлось только обороняться против притязаний государственной власти.
С. Ф. Платонов повторил суждения Соловьева: «Никон действовал властолюбиво и высокомерно не только по своей энергичной и властной натуре, но и по своим взглядам на назначение церковной власти: священство выше царства». По его мнению, «притязания Никона не имели почвы в русском быту, так как на Руси духовенство никогда не ставило себя выше князей и царей и не искало мирской власти и прямого воздействия на государственные дела». При этом Платонов отмечал, что «мнение греческих иерархов о неправоте Никона и об общем превосходстве царской власти над патриаршей было усвоено Московскими государями и подготовило в будущем полное подчинение Церкви государству».
***
В историографии сложилось и другое направление – позитивное (апологетическое), – которое видело в Патриархе Никоне выдающегося строителя кафолической Церкви и государственного деятеля, все помыслы и дела которого были направлены на благо общества, а проведенные церковно-обрядовая и книжно-семиотическая справы были призваны обуздать невежество и суеверие русского народа.
И. Шушерин был тем первым жизнеописателем Святейшего Патриарха Никона, благодаря которому для потомков сохранен его яркий, живой и деятельный образ. У него Патриарх Никон предстает человеком благочестивой жизни, ищущим прежде всего угождения Богу и все силы своей даровитой натуры отдающим служению Горнему. Не изобилуя фактами жизни и критическим к ним отношением, написанное Шушериным Житие задает основу для понимания нравственного облика Святейшего, а через это – прояснение главных стимулов его деятельности.
Вслед за Шушериным более обстоятельные жизнеописания Патриарха Никона были составлены священником С. Михайловским, Н. А. Сергиевским, Г. Георгиевским, протоиереем Стефаном Кашменским, Соколовым, А. А. Быковым (они содержат подробные перечисления заслуг Святейшего Патриарха перед Русской Церковью и государством), Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря архимандритом Аполлосом (Алексеевским) (его биография за подписью Н.А.А. чужда всяких обвинений Патриарха Никона в гордости и властолюбии. Автор не присваивает Патриарху идей, чуждых всему укладу его жизни; судьба Святителя, считает автор, является следствием интриг против него, а не каких-то «замахов» Патриарха).
Митрополит Платон (Левшин), не высказываясь определенно о правомочности суда над Патриархом Никоном, указывает на то, что истинные причины его осуждения были не те, что объявлены в судебном приговоре, а иные: зависть придворных вельмож и горячий, неуступчивый нрав самого Патриарха, который выговаривал Царю за нарушение прав церковных, чем и навлекал на себя гнев.
Митрополит Филарет (Дроздов) чрезвычайно тонко разбирает, действительно ли Патриарх Никон был лишен сана: «Если вы почитаете Никона, то согласитесь со мною не говорить, что он лишен сана. Лишение сана невозвратно: а его осуждение оказалось не невозвратимым. Провидение, постыжая страсти человеческие, которые хотят запутать его правду, страсти же употребляет иногда в орудия, чтобы явить свою правду. Знаменательно, что когда одне страсти усиливали осуждение Никона, другаго рода страсть – страх от народа – не позволила с него снять всего Патриаршаго. Видно, Провидение не позволяло, чтобы его низложение с Патриаршаго престола было совершенным лишением сана». Комментируя грамоты Святейшего Никона, имеющиеся в его судном деле, Преосвященнейший замечает: «Грамата, в которой Никон смиренно просит у Царя прощения, есть, по моему мнению, один из лучших оправдательных актов для его памяти; грамата, в которой он увещевает Царя прекратить гнев, защищается от обвинений в титле Государя, обличает в нарушении тайны патриаршаго архива и проч., кроме немногих примеров, жестоко приведенных, достойна Патриарха, соединяя дерзновение правды, с должным уважением Царю и скромным выражением о себе».
А. П. Щапов подробно развивает вопрос об участии бояр в деле Патриарха Никона и их союзе с расколоучителями, которым они облегчали деятельность ради общей цели – свержения Патриарха: «Вся вина Никона в том, что он по сильной вспыльчивости сердца, раздраженного самоуправством на бояр и по пламенной горячей ревности своей к правам Церкви и к достоинству высшей церковной власти, досадовал Царя за допущение бояр до необузданного самоуправства в делах Церкви и государства… Это не гнев злобы высокомерной против Государя, а невольная досада души сильной, пламенной, уязвленной злом. Это… недовольство друга государева тем, что козни бояр, вредные Церкви и государству, охладили к нему сердце Царя… Удивительно ли, что Никон, этот истинно замечательный гений своего века, световодитель, как называли его лучшие просвещеннейшие современники, vir prudentia et auctoritate egregius, как отзывались о нем иностранные наблюдатели внутренней жизни России во второй половине XVII века, удивительно ли, что великий Никон должен был испытать и встретить упорное противоречие и противодействие со стороны остальных отсталых, запоздалых ревнителей старины».
Архиепископ Черниговский Филарет (Гумилевский) на основании известий Коллинса и Мейерберга также обращает внимание на значительное участие бояр в разрыве Царя с Патриархом и на их негодование против Никона за исправление церковных книг, что имело главное значение в исходе борьбы.
Н. И. Субботин характеризует Патриарха Никона как человека, всей душой преданного заботам о пользе Церкви и государства, с прямым и ясным взглядом на вещи, умевшим встать выше суеверий и предрассудков своего века. Внезапное падение Патриарха он объясняет интригами его врагов, под влияние которых попал Царь Алексей Михайлович после завершения Польского и Шведского походов 1654–1656 гг.
Н. А. Гиббенет оказал огромную услугу историко-обществоведческим наукам и обществу в целом в разъяснении дела Патриарха Никона (он разобрал смешанные дела «судного дела», описал и опубликовал их, как они есть; он не ставил себе задачу интерпретировать и описывать идеологию Первоиерарха). «Никон, как человек, был доброй души, простой, не хитрый и не имел понятия об интригах, с помощью которых враждебная ему партия разрушила союз дружбы его с Царем, – пишет Гиббенет, – но, сознавая свой ум и свои нравственные преимущества, он гордо держал себя перед своими врагами, которым это самое и не нравилось. Никон понимал интриги своих противников, но не отвечал им, не собирал у себя партии, а оставался один».
Чиновник-архивист считал, что Патриарх Никон вмешивался в светские дела, поскольку хотел помочь бедным и беспомощным людям, заступиться за обиженных; что Святейший пытался очистить Церковь от ошибочных мнений и суждений, и, «если бы не случилось того обстоятельства, что Никон оставил Патриарший престол, то отделение раскола от Православной Церкви могло бы не состояться».
Митрополит Антоний (Храповицкий) дает высокую оценку личности Патриарха Никона и его заслуг перед Русской Церковью: «Главная его задача, – пишет митрополит Антоний, – ослабление русского церковного провинциализма. В Церкви Христовой не должно быть национальной обособленности; национальные различия, предания должны подчиняться единому общецерковному преданию. Этой вселенскости он давал явное предпочтение перед национализмом… Никон, учась у греков, отбрасывая национальное самолюбие, процветавшее у раскольников, показывал свое смирение».
Митрополит Антоний не находит у Патриарха Никона никакого властолюбия и честолюбия и особо останавливается на его неустрашимости, бесхитростности, прямолинейности, на ревности к славе Божией, просвещении ума. Логику отречения Патриарха Никона преосвященнейший Антоний видит в пренебрежении со стороны Царя их дружбой: «Наша жизнь дает примеры такой пламенной дружбы только в самой ранней юности, когда она возникает и связывается в умах идеалистов со всеми планами жизни, со всей ценностью последней, и, если дружба разрушается, то все планы ее признаются разбитыми… Дружба Царя и Патриарха восстановила благообразие общественной молитвы, исправила святые книги, присоединила Малороссию, привлекала в Москву Патриархов и ученых, побеждала поляков и шведов, и политически возродила Московию на степень величия третьего Рима в Царстве Божием».
Свидетельствуя о святости Патриарха Никона, митрополит говорит: «Придет время, когда Святейший Патриарх будет изображен не со смиренным молением кающегося грешника, а с тропарем, прославляющим его высокие добродетели и подвиги, подъятые во славу Божию».
Протоиерей Н. Ф. Николаевский подробно изучил отдельные периоды жизни Патриарха Никона, авторитетно подтверждая основные заключения позитивного отечественного историографического направления.
В августе 1882 г. редакция журнала Русский вестник констатировала: «Итак, все достоверныя изследования показывают, что причинами необычайнаго возвышения Никона от звания простаго крестьянина, а потом сельскаго священника, до высшаго духовнаго сана и дружбы с Государем, были его ум, таланты, образование и благочестие».
***
В период доминирования методологии и парадигмы исторического детерминизма (послеоктябрьский) исследований о Патриархе Никоне было не так много: писали Н. М. Никольский, В. С. Шульгин, М. Я. Волков.
В новейшей зарубежной историографии оценки событий исторического прошлого сложились в основном под влиянием работ русских эмигрантов.
Протоиерей Г. Флоровский, один из крупнейших знатоков русской духовности, считает, что неудачи в русском духовном развитии в XVII в. были вызваны отступлением от святоотеческого предания: Патриарх Никон, утверждая примат священства над царством, не выходил за рамки святоотеческого предания и как раз из него черпал свои идеи. А Царь, греки и старообрядцы выступили против традиции и собственно Патриарха.
По мнению А.В. Карташева, в конфликте государства и Церкви в середине XVII в. объективная историческая правда была на стороне государства, но неправильная защита государством своих прав, превратившаяся в насильственное довление правосознанию Церкви, делала правой и церковную сторону.
С. А. Зеньковский, автор одной из самых основательных книг по истории раннего старообрядчества, писал, что Патриарх Никон был увлечен мечтой о православной империи, которую внушили ему греческие иерархи. Чувствуя себя вершителем судеб всего православного мира, он терял голову и был готов превратиться в русско-греческого Вселенского Патриарха. Получив почти неограниченную власть, Патриарх стремился распространить ее и на государственный аппарат, что вызвало недовольство боярства, а неудачи в русско-шведской войне, вину за которые многие возлагали на Патриарха, усилили недоверие к нему со стороны Государя, ставшего более самостоятельным и самоуверенным в своих действиях.
Г. В. Вернадский считал, что главным делом Патриарха Никона была защита интересов Церкви от вмешательства государственной власти. Свои идеи Патриарх черпал из святоотеческой литературы и византийского законодательства. Ярким примером для него стало мученичество митрополита Филиппа и полновластие Патриарха Филарета.
Ф. Лонгуорт полагал, что Патриарх Никон был орудием дальновидной политики Алексея Михайловича, который использовал его авторитет для наведения порядка в церковной среде, преследуя тем самым цель восстановления в России сильной самодержавной власти.
Б. Н. Флоря считает, что в России на протяжении XIII–XVII вв. происходил процесс формирования духовного сословия, которое в разные исторические периоды стремилось освободиться из-под опеки светской власти. Но русское духовенство, в отличие от стран Центральной Европы, «было в большей мере группой людей, которых объединяло их общее подчинение власти епископа», что явилось одной из причин слабости противодействия клира абсолютистской политике Петра I.
Из современных авторов биографий Патриарха Никона можно назвать Н. С. Борисова, И. Л. Андреева.
Протоиерей Лев Лебедев пишет не только о справедливости поступков Патриарха Никона, но и о его святости. «“Если нельзя быть в любви и согласии, то нельзя быть вместе вообще” – вот формула действий Патриарха Никона» относительно царской власти, – считал о. Лев.
Архиепископ Серафим (Соболев) видит в Патриархе Никоне не только «величайшего защитника симфонии властей», но вместе с тем и «проповедника истинной самодержавной царской власти и поборника русской идеологии», а борьбу его рассматривает как «исповедническую защиту исконной русской идеологии», направленной на то, чтобы «Русское государство возглавлялось истинною царскою самодержавною властью, при которой только и возможно осуществление симфонии властей и, следовательно, – процветание Церкви и государства силою православной веры… Пусть Патриарх Никон, – писал владыка Серафим, – будет учителем всех русских православных людей в их стремлении к возрождению нашей Родины. Пусть он навсегда останется для нас чистым от того нарекания на его светлый великий образ, которое могло бы подорвать его авторитет в наших глазах, если бы имело под собой достаточное основание. Нам следует не обвинять его в непомерной гордости, а благоговейно преклоняться перед ним, чтить его вместе с простым верующим русским народом как праведного и благодатного светильника Русской Церкви и всемерно содействовать тому, чтобы в возрожденной России он был причислен к лику святых Российской Церкви».
Митрополит Иоанн (Снычев) дает глубокую характеристику личности Святейшего Патриарха: «Историки часто сетуют на то, что поведение Никона в споре с государственной властью было политически непродуманным, противоречивым и непоследовательным. Не умея объяснить этого в умном и волевом Патриархе, они придумали сказку о его “своенравии” и “тяжелом характере”. Слов нет, у каждого человека свои слабости, и Никон не был исключением, но вся его деятельность тем не менее была строго последовательна и ясно осознана; чтобы увидеть это, надо лишь взглянуть на нее с церковной точки зрения.
В Никоне с совершенной полнотой отразилось самосознание Русской Церкви, самосознание духовной власти, твердо разумеющей свое высочайшее призвание и величайшую ответственность; отвергающей возможность каких-либо уступок и послаблений в святой области ее пастырских попечений; тщательно хранящей Божественный авторитет священноначалия и готовой исповеднически защищать его перед лицом любых искушений и слабостей.
“Непоследовательность” и “противоречивость” поведения Патриарха, пример которых видят, как правило, в его “необъяснимом, непродуманном” решении оставить кафедру, коренятся на самом деле в глубинах православного мировоззрения… Разумея промыслительность происходящего, памятуя изречение Священного Писания о том, что “сердце царево в руце Божией”, Первосвятитель с определенного момента отстранился от придворной борьбы, полагая свою личную судьбу и будущее Отечества и Церкви полностью на усмотрение Божие».
***
Подводя итог, солидаризируемся с заключением М. В. Зызыкина: Патриарх Никон «...дал теорию Царя Православного, подчиняющегося и в своей личной жизни, и в общественной деятельности православному учению и правилам Церкви». Патриарх напомнил святоотеческую идею различия властей светской и духовной, он считал обязанностью Патриарха стоять за истину и за воплощение правды в жизни и говорил, что на это иерархи и поставлены. Зызыкин замечает, что в своем требовании непреложного соблюдения канонов как выражения Божественной воли Патриарх Никон шел по пути византийских ревнителей канонов, требовавших обязательности соблюдения не одних догматов, но и канонов.
Патриарх Никон отверг формы национального русского благочестия, он мыслил Русскую Церковь не как особую самодовлеющую силу, указывающую свет миру, а принимал ее в единении с прочими Поместными Церквами как часть целого. Для своего времени Патриарх Никон был консерватор в смысле отсутствия стремлений к изменению системы существующих органов власти, но он был радикальным преобразователем в смысле изменений найденного им stаtus quo при вступлении на Патриаршество. Но эти изменения мыслились им не как придуманная комбинация, а как воплощение святоотеческой традиции Иоанна Златоуста, Иоанна Дамаскина, Феодора Студита, которую он отстаивал всеми средствами, приличествующими православному архипастырю.
«Да будет он вспомянут, – восклицает Зызыкин, – как носитель своеобразной русской культуры, призывающей к расцвету всех человеческих дарований при неугасимом свете Церкви; да будет он вспомянут как представитель русского крестьянского мира, давшего, в лице своего представителя, одно из лучших проявлений народного гения… да будет он вспомянут как пророк Божий, предсказавший гибель своего Отечества, и да будет он сопричислен к Русским Первосвятителям Московским Петру, Алексию, Ионе, Филиппу и Гермогену как запечатлевший праведностью своей жизни и мученичеством непоколебимую верность Православию, которое и Никон понимал не как теорию, а как “истину, путь и жизнь”».
Настоятели Воскресенского монастыря Нового Иерусалима: живая история обители655
игумен Стефан – архимандрит Герасим – архим. Акакий – архим. Исайя – архим. Феодосий – архим. Тихон – архим. Филофей – архим. Варсонофий –архим. Герман I – архим. Никифор – архим. Никанор –архим. Герман II –архим. Арсений I – архим. Игнатий – архим. Антоний I (Баутин) – архим. Лаврентий (Горка) – архим. Киприан (Скрипицын) – архим. Мелхиседек I (Борщов) – архим. Карион (Голубовский) – архиеп. Петр (Смелич) – архим. Иларион (Григорович) – архим. Амвросий (Зертис-Каменский) – архим. Никон (Зертис-Каменский) – еп. Сильвестр (Страгородский) – архим. Павел (Пономарев) – архим. Аполлос I (Байбаков) – архиман. Платон (Любарский) – архим. Нектарий (Чернявский) – архим. Варлаам (Головин) – архим. Иероним (Понявский) – архим. Гедеон (Ильин) – архим. Мелхиседек II (Минервин) – архим. Иона (Павинский) – архим. Филарет (Амфитеатров) – архим. Афанасий (Телятев) – архим. Аполлос II (Алексеевский) – архим. Арсений (Нагибин) – еп. Агапит (Вознесенский) – архим. Мелхиседек III (Сокольников) – архим. Климент (Мажаров) – архим. Амфилохий (Казанский-Сергиевский) –архим. Дионисий – еп. Антоний (Радонежский) – еп. Петр (Екатериновский) – архим. Леонид (Кавелин) – архим. Вениамин (Поздняков) – еп. Христофор (Смирнов) – архим. Андрей (Садовский) – архим. Владимир (Филантропов) – архим. Серафим (Чичагов) – архиеп. Иустин (Охотин) – еп. Тихон (Никаноров) –еп. Александр (Головин) – еп. Трифон (Туркестанов) – архиеп. Иоаким (Левицкий) – еп. Палладий (Добронравов) – архим. Исихий. Вместо заключения.
Не будет преувеличением сказать, что в наибольшей степени вся важность, сила и глубина такого явления, как Патриарх Никон, выражена в его Новом Иерусалиме. Здесь сошлось все: и глубина замысла и талант его претворения в жизнь, всеобъемность богословских идей, красота и гармония материального и духовного, Божественная в своей простоте и доступности возможность познания и приобщения Небесной Истине, возможность не только прикоснуться к тайне спасения через переживание евангельских событий, связанных с земной жизнью Спасителя и его крестным подвигом, крестными страданиями, а фактически – возможность, если можно так выразиться, войти в икону непосредственно здесь, в земной жизни, вдохнуть аромат Небесного Иерусалима, предуготовленного верным.
Возможность приобщиться Иерусалиму Небесному через сугубую святость места, в котором на небольшом пространстве сошлись покаяние и плач о своих грехах перед Голгофским Распятием и ликующее «Христос Воскресе!» перед пустым Гробом Спасителя с надеждой на грядущую вечную радость о Господе, когда исполнятся слова псалмопевца «Воцарится Господь в Сионе и слава Его во Иерусалиме».
Историю творят люди, сообразуясь со своими представлениями о мире и своем месте в нем, хуже или лучше понимая Волю Божию для себя или совсем не разумея. Свое умное видение человек стремится воплотить в своей жизни, тем самым созидая свою судьбу, а в духовном плане и вечное бытие, о чем в свое время писал еще архимандрит Софроний (Сахаров): «Подпочвой исторических событий является духовное состояние людей. Видимое в них, событиях, не первично, оно есть проявление силы, заключенной в идее»656.
На всех этапах жизненного пути человеку приходится искать истину, и в этих создаваемых Промыслом Божиим условиях он или соработник Богу или противник, он преображает жизнь во всех ее ипостасях – личную, общественную, государственную, церковную, наконец, или не оправдывает возложенных на него надежд и оставляет это делание тем, кто придет после него.
«Все и вся в руце Божией», но человеку дана божественная свобода, и только он сам отвечает за свои труды на том месте, куда он определен Промыслом Божиим. История святыни – история особая: когда колеблется святыня – сгущается тьма, которую она была призвана рассеивать. Живая история Нового Иерусалима – повествование о его настоятелях [, а в них – и братии].
Собор, низложивший Патриарха Никона, одной из причин осуждения назвал строительство монастыря Нового Иерусалима. Взгляду, привыкшему оценивать события по духу мира сего, эта причина видится одной из многих, и не самой первой; более всего Патриарха обвиняют, и до сих пор, в гордости и отсутствии христианского монашеского смирения.
Смеем предположить, что именно устроение Нового Иерусалима было духовной первопричиной изгнания Патриарха, ибо «брань наша не против крови и плоти, но против духов злобы поднебесной», а они-то более всего и восстают против отнимающих души человеческие у дьявола и приводящих их к Богу. Именно так смотрели на историю человечества святые отцы, опытно прошедшие школу спасения.
Для наглядности приведем примечательный и яркий пример из недавнего прошлого.
В мае 1917 г. был отстранен от ректорства в Московской Духовной академии и переведен из Троице-Сергиевой лавры в Данилов монастырь епископ Феодор (Поздеевский). Известны внешние обстоятельства происшедшего, сам же владыка Феодор так рассказывал об этих событиях: «В Сергиеве чрезвычайно много бесноватых. Много их подходит к Святой Чаше. В Академической церкви как-то раз, когда я служил Литургию, я заметил, что кто-то упорно смотрит на меня злыми глазами. А когда причастники стали подходить к Чаше, среди них подошла девушка лет 20-ти, и я узнал глаза, устремленные на меня во время Обедни. После службы она осталась в храме, и я подошел к ней и узнал, что она дочь Сергиевского старожила. Придя домой и став на обычное правило, я не мог молиться. Внутренний голос повелел мне спасти несчастную от духа зла, который, как я ясно убедился в церкви, был в ней. Убеждение мое зиждилось только на особом холодном и тусклом взгляде глаз у девушки. Вела же она себя в храме благопристойно.
На другой день я посетил ее родителей и выяснил, что их дочь действительно больна, что она не может, молясь, читать Богородицу, и на нее нападает тоска при Святом Причастии. Эти сведения убедили меня в том, что девушка бесноватая, и я стал усиленно о ней молиться и совершил над ней чин изгнания бесов. В день совершения этого чина с ней произошла разительная перемена по отношению ко мне. Раньше она относилась ко мне с полным доверием и любовью, а после молебна перестала совершенно бывать у меня и скрывалась в дальней комнате, когда я посещал дом ее родителей. Она, по слухам, собиралась покинуть Сергиев, а это, по моему мнению, могло ее погубить, так как ей особенно покровительствовал преподобный Сергий.
Как-то, проезжая вечером по Переяславке, я увидел ее, несущую чемодан и направляющуюся к вокзалу. Я велел остановить карету, слез и приказал ей сесть со мною и отвез ее домой. По дороге она спросила меня, отчего я не пустил ее на вокзал, и уверяла, будто я был у нее утром и уговаривал уезжать из Сергиева. Я тогда принял ее слова за бред явно больной. Но едва только переступил порог своей комнаты, как услышал глухой смех и голос: “Перехитрил я тебя, не борись со мною, а то я тебя выгоню отсюда”. Я понял, что это голос темного духа, и, окропив крещенской водой комнату, заставил его умолкнуть. Заснуть, однако, в эту ночь мне не пришлось. Я все время думал о несчастной девушке, я начинал догадываться, что ее слова о том, что я был у них, не бред больного, а действие темной силы.
На другое утро я, вложив в Панагию часть мощей преподобного Сергия, отправился к больной. Дверь в их квартиру была отворена, никто не встретил меня в прихожей, и я прошел прямо в комнату девушки. Она сидела на постели, и против нее сидел мой двойник и убеждал ее немедленно покинуть Сергиев. Я, пораженный, остановился на пороге. Двойник обернулся ко мне и, указывая на меня девушке, сказал: “Этому не верь, это дьявол”.
– Ты лжешь, – сказал я и дотронулся до него Панагией. Двойник мой тотчас исчез и больше не тревожил девушки, которая оправилась совершенно от душевной болезни, мучившей ее с семилетнего возраста.
А меня через два месяца выгнали из ректоров Академии и из Сергиева. Когда я переехал в Данилов, ночью слышал голос: “Выгнал тебя из Сергиева, не спасай моих девушек”»657.
Патриарх Никон все время своего изгнания носил на груди ковчежец со святыми мощами. Он, имея тонкое духовное устроение, видимо, ощущал натиск темных сил, обрушившихся на него через злобу и неприятие многих самых разных окружающих людей, не осознающих того, что они являются орудием врага, и находил защиту и духовное укрепление в том числе и в этой святыне (мощевике).
Все это должно еще раз напомнить, какой величайшей святыней является Новый Иерусалим, смысл и значение которого все еще постигается и никак не сводится к духовному-просветительскому, историческому и проч. Этот смысл постигается, но никак не может быть постигнут до конца. XX в. осознал его не только образом святых мест древнего Иерусалима, но и образом Иерусалима – Града Небесного, а значит Иерусалима, в котором пребывает сам БОГ! и является его светильником. И тогда – какая же ответственность лежит на тех, кто так или иначе связан с этим монастырем? И каково служение Патриарха Никона, его строителя и фундатора, ныне навечно в нем упокоенного?
Святейший Патриарх Никон говорил: «Церковь – не стены каменные и деревянные, но закон и собрание благочестивых людей»658. В 1656 г. он заложил свой Святого Живоносного Воскресения Христова монастырь Нового Иерусалима, в который собрал разноплеменную братию.
Монастырская рукопись конца XVIII в. рассказывает, что случаем к сооружению Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря стало путешествие Патриарха Никона по Волоколамскому тракту в Иверскую обитель, а побудительной причиной – красота места в разсуждении окружнаго течения реки Истры, и благоприятность патриаршаго в путевых проездах отдохновения. Но как Патриарх Никон был духа великих предприятий, и притом отменною у Государя пользовался милостью, то главный к сооружению сего монастыря резон быть видится, принятое им намерение, дабы по примеру богородичного Иверскаго монастыря, в коем подражал он Афонской горе, еще заимствовать от Палестины в России Иерусалимский храм Воскресения Христова, вообще Храмом Святаго Гроба Господня именуемый; а сила и власть патриаршая по обстоятельствам тогдашних времен, особливо при благоволении монаршем, все ему обещать могли. По сему, к достижению намерения не осталось ему более, как только пристойного места усматривать, и усмотря, преклонять к согласию Государя, в чем он и преуспел659.
Воскресенский монастырь с самого своего основания был общежительным; настоятельство в нем Патриарх Никон учредил со второго года его основания архимандритское.
Игумен Стефан (1656–1658; с 1657 г. архимандрит)
Первый настоятель Воскресенского монастыря игумен Стефан до назначения состоял в клире Патриарха и был одним из приближенных к нему лиц. При нем было начато строительство монастыря, возведена первая деревянная церковь во имя Воскресения Христова и освящена Патриархом Никоном 17 июня 1657 г. в присутствии Царя Алексея Михайловича и синклита. Тогда же место, выбранное Патриархом для обители, и сам монастырь были впервые названы устами Царя Новым Иерусалимом. В сан архимандрита игумен Стефан был возведен 18 октября 1657 г., в день закладки каменного Воскресенского собора и установки памятного креста на холме, названном Елеон.
В январе 1658 г. по жалованной царской грамоте был учрежден торжок в деревне Котельниково, с которого архимандриту и братии был разрешен сбор таможенных пошлин. В апреле 1658 г. начато строительство соборного храма Воскресения Христова. В 1658 г. построен в 150 саженях от монастыря, на берегу реки Истры, скит, или отходная пустынь, и 22 июня Патриархом Никоном заложена в нем Богоявленская церковь водружением на месте будущего престола подпрестольного креста с памятной надписью. По челобитной архимандрита Стефана Патриарху Никону от 8 сентября 1657 г. обители дано подворье в Москве в Китай-городе на большой Ильинской улице «для игуменскаго и братскаго приезду».
2 мая 1658 г. архимандрит Стефан был посвящен Патриархом Никоном во архиепископа Суздальского и Тарусского. В начале своего епископского служения Стефан пострадал от доносов попа суздальской соборной церкви Никиты Добрынина (Пустосвята), будущего расколоучителя: 20 августа 1660 г. он был отозван с Суздальской кафедры и «ради пропитания» определен в Архангельский кремлевский собор для архиерейского совершения заупокойных служб по царям и князьям. После 1661 г. был в Борисоглебском монастыре близ Ростова, откуда возвращен в 1666 г. на Суздальскую кафедру и принимал участие в Соборе 1666 г., низложившем Патриарха Никона и осудившем его в ссылку. 15 октября 1672 г. пожалован саккосом. Архиепископ Стефан закончил свою жизнь печально, будучи 2 июля 1679 г. лишен сана и заточен сначала в Новгородский Лисицкий монастырь, а затем в Иосифо-Волоцкий, где и скончался в этом же 1679 г.
Архимандрит Герасим (1658–1665)
Архимандрит Герасим был ближайшим сподвижником Патриарха Никона, и управлял обителью в звании патриаршего наместника, поскольку Патриарх Никон все годы его настоятельства жил в Воскресенском монастыре;, изображен на парсуне «Патриарх Никон с клиром».
Осенью 1659 г. «работы по Воскресенскому монастырю остановились», поскольку «начатого строения окончить было некем и нечем»660, сам же Патриарх Никон выехал в свои монастыри Иверский и Крестный.
Архимандрит Герасим нес в обители многообразные труды по устроению монашеской жизни и духовному окормлению братии. В его настоятельство под начальством Святейшего Патриарха Никона собрались монашествующие и бельцы со всех концов России и из-за рубежа – греки и поляки, черкасы (малороссияне) и белорусы, новокрещеные немцы и евреи.
В январе 1661 г. архимандритом Герасимом было записано бывшее Патриарху Никону видение московских святителей в Успенском соборе661. Весной 1661 г. начинается переустройство отходной пустыни и завершается освящением в 1662 г. церкви свв. апостолов Петра и Павла, совершенном Патриархом Никоном. 23 октября 1661 г. закончено написание «Церковного устава и монастырского чина» Воскресенского монастыря – по замыслу Патриарха в обители должен был соблюдаться Иерусалимский устав с отправлением некоторых чинов, которые совершаются только в храме Гроба Господня. При архимандрите Герасиме окончен вчерне почти весь Воскресенский собор – доведен до сводов; в 1662 г. Патриархом Никоном освящены три придела Воскресенского собора: Голгофский, Иоанна Предтечи и Успения Пресвятой Богородицы. 16 октября 1662 (7171) г. в монастырь принесена чудотворная икона Божией Матери «Троеручица».
Как настоятель монастыря архимандрит Герасим принимал непосредственное участие в тяжбах, которые пришлось в этот период вести Патриарху Никону с соседями-вотчинниками.
На Благовещение 1665 г. Патриарх Никон вызвал опытных мастеров-плотников из Иверского монастыря, и они за одно лето возвели вокруг строящегося Воскресенского монастыря деревянный «город» с восемью башнями, четырьмя воротами, брусяной церковью на «градской стене» во имя Трех Святителей. Эти же мастера построили патриаршие кельи-хоромы.
В 1665 г. под наружной лестницей на Голгофу Патриархом Никоном были погребены иподиакон Никита Никитин, пострадавший за передачу в декабре 1664 г. Святейшему Патриарху писем от боярина Н. А. Зюзина, и мастер Петр Заборский, «рукодельных хитростей изрядный ремесленный изыскатель», потрудившийся в украшении соборного храма Воскресения «в ценинных и иных делах немалое время»662.
Архимандрит Герасим скончался в монастыре 5 декабря 1665 г. и был погребен, вероятно, на братском кладбище за алтарем Воскресенского собора663.
Архимандрит Акакий (1665–1669)
Последний назначенный самими Патриархом Никоном настоятель монастыря. Был поставлен в архимандриты 25 декабря 1665 г. из казначеев Воскресенской обители. Архимандриту Акакию и наместнику Леониду Патриарх Никон доверил в сентябре 1666 г. доставить Царю подарок для новорожденного царевича Иоанна Алексеевича – написанную им икону Честной главы св. Иоанна Предтечи с вложенной святыней – частицей крови святого – и благодарственное письмо за пожалованные по случаю рождения царевича деньги.
30 ноября 1666 г. архимандрит Акакий сослужил Патриарху Никону при совершении им своей последней Божественной литургии в Голгофской церкви недостроенного Воскресенского собора, потом вместе со всей братией провожал Святейшего Патриарха до креста на Елеонской горе, где Святейший подал последнее благословение братии и простился с ней.
При архимандрите Акакии завершился первый строительный период в истории Воскресенского монастыря, который справедливо назвать «патриаршим», поскольку он проходил под непосредственным руководством и при непосредственном и живейшем участии Патриарха Никона и который завершился с осуждением Патриарха 12 декабря 1666 г. Решением Собора, Воскресенский монастырь запретили именовать Новым Иерусалимом, всякое строительство в нем вскоре прекратилось, лучшие мастера были взяты в Москву.
3 декабря 1667 г. архимандрит Акакий, исполняя обычай, введенный Патриархом Никоном, приветствовал образом и хлебом царя Алексея Михайловича на храмовом празднике в Саввином монастыре и сказал ему, что в Воскресенском монастыре чин и устав церковный и звон, установленные Патриархом Никоном, особенные, не такие, как в других московских обителях, на что получил наказ хранить патриаршие установления и ничего не переменять664.
Архимандрит Акакий скончался в монастыре и погребен на братском кладбище за алтарем Воскресенского собора665.
Опубликована расписка от 11 января 1670 г. о принятии в монастырскую казну казначеем монастыря иеромонахом Исаией «росписи каменью» от архимандрита Акакия666. Это может быть ошибкой667, а может быть, к этому времени уже был назначен новый настоятель, и архимандрит Акакий сдавал дела, или смена архимандритов произошла не в 1669 г., как указано у арх. Леонида668, а в 1670.
Монастырская Опись 1669 г. сохранила подробное описание монастырских зданий того времени. Вокруг монастыря с трех сторон насыпан и обложен мелким диким камнем невысокий вал, с четвертой стороны, там, где течет река Истра, вал природный, а на валу поставлена рубленая деревянная ограда в две стены, с восемью шатровыми башнями, «внутри города кругом перила», все покрыто тесом. С наружной стороны ограды выкопан ров, со стороны вала выложенный лесом и присыпанный землей, а с другой стороны обложенный дерном. Над въездными воротами, расположенными в четырехугольной башне, в треугольном киоте – икона Воскресения Христова, греческого письма, «среди башни поставлены деисусы, 10 икон», в башне – часы с перечасьем, «польское дело», в воротах пушки, перед воротами – крытый тесом мост.
В монастыре деревянная соборная церковь Воскресения Христова, незавершенный каменный собор, строящийся по Иерусалимскому образцу, в котором освящены Патриархом Никоном три престола: Воздвижения Честнаго и Животворящяго Креста Господня, именуемого Голгофа, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, расположенного под Голгофой, и Успения Пресвятой Богородицы; 4 придела построены, но не освящены: 3 заалтарных и смежный с приделом Иоанна Предтечи; построены и не освящены приделы под колокольней, построена земляная церковь. На городской стене, у келий Патриарха Никона, церковь Трех Святителей. Кельи Патриарха Никона находились на левой стороне от ворот, рядом – две больничные кельи. Напротив патриарших сеней и крыльца был выкопан пруд, близ городовой стены располагался огород, недалеко был колодец, устроенный в каменной «палатке», покрытой тесовым шатром, со стороны Воскресенского собора на «палатке» был вырезан образ ангела, сидящего на камне. Недалеко от колодца находились две братских кельи.
В монастыре были выстроены хозяйственные постройки, кельи казенная, строительская, приказная, архимандричья и кельи братские. У городовых ворот находилась деревянная караульня, а под ней – тюрьма.
За монастырской оградой с правой стороны располагался гостиный двор и конюшенный двор. За монастырем находилась каменная церковь «на островку», отходная пустынь Патриарха Никона. Вокруг монастыря были устроены пруды, мельницы и овощные сады, или огороды669.
Архимандрит Исайя (1669–1671)
О нем почти ничего не известно. По оставлении настоятельства жил в обители на покое. В декабре 1679 г. подписал как бывший архимандрит челобитную братии Воскресенского монастыря Царю Феодору Алексеевичу с просьбой о возвращении Патриарха Никона из ссылки. Скончался, видимо, в монастыре и погребен на братском кладбище за алтарем Воскресенского собора670.
Архимандрит Феодосий (1671–1673)
В монастырских документах 1665–1669 гг. упоминается как иеромонах, строитель Воскресенского монастыря. До назначения в настоятели Воскресенской обители с 1670 г. был в сане архимандрита настоятелем Костромского Ипатьевского Троицкого монастыря. О дате и месте его кончины сведения разнятся. Возможно, он скончался в 1680 г. и погребен на братском кладбище за алтарем Воскресенского собора671, но, возможно, что и в 1674672. По данным монастырской Описи 1679 г., проживал на покое в Ипатьевском монастыре, был за что-то посажен в земляную темницу, скончался в схиме и погребен в том же монастыре673.
Архимандрит Тихон
Архимандрит Тихон по именному царскому указу был назначен настоятелем Воскресенского монастыря из Макарьева монастыря, откуда уже было и выехал к новому месту служения, но более о нем ничего не известно.
В Макарьево-Желтоводском монастыре в 1675–1677 гг. был архимандрит Тихон, который 19 января 1680 г. по именному указу был определен келарем Савво-Сторожевского монастыря. Возможно, именно о нем идет речь674.
Архимандрит Филофей (1673–1680)
Иеромонах Филофей исправлял должность казначея при Патриархе Никоне, заведовал патриаршей келейной рухлядью и собственной казной, в 1664–1666 гг. был строителем московского Воскресенского подворья. В управление монастырем вступил в декабре 1673 г.
В октябре 1674 г. архимандриту Филофею приказано было прислать в Москву «книги письменные, и харатейные, и латинские, и греко-латинские, пересмотря, и мощи преподобных отец Печерских, да саккос Цареградский»675. По этому указанию из монастыря и его московского подворья было взято в патриаршую ризную казну около 500 книг, в число которых вошли рукописи, привезенные Сухановым с Афона и посланные в 1658 г. к Патриарху Никону в Воскресенский монастырь, а также значительная часть книжных вкладов Патриарха. Верный ученик Патриарха Никона Герман, бывший в то время строителем монастыря, видимо, протестовал против такого разорения, потому что архимандриту Филофею велено было сыскать строителя Германа с товарищи «в бою и о срыве казенной печати и о ключах», и оба по патриаршему указу были наказаны плетью и шелепами за «учиненные бесчинства»676.
Он принимал в обители Царя Феодора Алексеевича с царским семейством трижды. Первый раз – 5–8 сентября 1678 г., когда Государь изволил распорядиться о восстановлении нарушенного с осуждением Патриарха Никона устава церковного и чина монастырского, завещанного им своим духовным чадам «хранить и впредь твердо и нерушимо», и повелел список устава прислать к нему. Второй раз – 5 декабря 1678 г., когда Царь Феодор Алексеевич пожаловал монастырю церковные сосуды и жалованную грамоту на две соляные варницы в Камских усольях, ему же был подан изложенный письменно «Устав обители и весь чин церковный», и он приказал архимандриту Филофею, строителю Герману и казначею Сергию «имянно», чтобы они хранили твердо и неизменно весь чин монастырский, как было при Патриархе Никоне. Третий раз – с 29 ноября по 1 декабря 1679 г. Плодом этого посещения было решительное объявление царской воли о продолжении начатого Патриархом Никоном строительства соборного храма Воскресения Христова по Иерусалимскому образцу. Вести это строительство пришлось уже другому настоятелю. 13 сентября 1679 г. по указу Царя Феодора Алексеевича дьяком Федором Тютчевым все церковное и монастырское имущество и книгохранилище было переписано.
Приезжая в Воскресенский монастырь, Царь останавливался в деревянных кельях Патриарха Никона, почему с этого времени они стали именоваться «царскими хоромами»677.
В январе 1680 г. архимандрит Филофей по царскому указу был уволен и оставлен за старостью в монастыре на покое. 15 февраля 1683 г. бывший архимандрит Филофей принимал в обители, оставшейся на тот момент без настоятеля, Патриарха Московского Иоакима, приехавшего впервые совершить поминовение Патриарха Никона после получения в сентябре 1682 г. разрешительных грамот Восточных Патриархов. Патриарх Иоаким пел панихиду у гроба Патриарха перед Литургией, которую он совершил на Голгофе, одновременно в приделе Иоанна Предтечи Литургию служил архимандрит московского Богоявленского монастыря за Ветошным рядом Амвросий. После Литургии Патриарх трапезничал с братией и жаловал всех милостыней.
Архимандрит Филофей скончался в монастыре и был погребен, вероятно, на братском кладбище за алтарем Воскресенского собора678.
Архимандрит Варсонофий (1680)
Переведен в Воскресенский монастырь в феврале 1680 г. из настоятелей Тихвинского Успенского монастыря Новгородской епархии. Здесь, в Тихвинском монастыре, в 1680 г. по заказу архимандрита Варсонофия для церкви Божией Матери Одигитрии города Калуги была написана икона Тихвинской Богоматери с 24 клеймами чудес, иллюстрировавших «Сказание о Тихвинской иконе», издавна распространенном в Новгородском крае. В настоящее время эта икона хранится в Музее древнерусского искусства им. Андрея Рублева679.
При Варсонофии в обители подошли к завершению строительства Воскресенского собора. 13–14 сентября 1680 г. он принимал в обители Царя Феодора Алексеевича с Царицей и царевнами.
25 октября 1680 г. архимандрит Варсонофий скончался Москве на подворье Воскресенского монастыря, отпевание его совершил в тот же день Патриарх Иоаким. По велению Царя Феодора Алексеевича архимандрит Варсонофий был погребен в церкви св. ап. Андрея Первозванного под колокольней Воскресенского собора, где сохранилась белокаменная плита с эпитафией. 2 декабря 1680 г. Царь Феодор Алексеевич посетил обитель и объявил братии о своем желании возвратить им их архипастыря на место умершего архимандрита Варсонофия и предложил подать ему прошение за своими подписями, которое и было ему подано на следующий день, при его отъезде.
Архимандрит Герман I (1681–1682)
Жил в обители с юных лет, был любимым учеником, пострижеником и келейником Патриарха Никона. В чине иподиакона изображен на парсуне «Патриарх Никон с клиром». Нес послушание уставщика обители. В монастырских документах 1673 г. упоминается как соборный старец, в 1674–1676 гг. – как строитель. Участвовал в составлении «Устава церковного и Чина монастырского», где были описаны особенности в пении, в чтении и во всяком благочинии церковном и монастырском, сложившиеся в обители при Патриархе Никоне. В марте 1681 г., по выбору Царя Феодора Алексеевича, был избран братией монастыря в настоятели. 12 июля по царскому указу он служил молебен о здравии новорожденного царевича Илии. В августе им было получено письмо Патриарха Никона к братии монастыря со слезной просьбой бить челом Государю о возвращении его в Воскресенский монастырь, ибо его «жития конец приходит»680. Новое челобитье новоиерусалимской братии не осталось безответным, и Феодор Алексеевич добился разрешения Собора и приказал возвратить Святейшего Никона в Воскресенскую обитель.
26 августа 1681 г. архимандрит Герман встретил гроб скончавшегося в пути Патриарха Никона и сам облачил Святейшего Патриарха в погребальные одежды, сослужил в чине погребения Святейшего и на следующий день провожал Государя из обители. Он начал вести записи о чудесных знамениях и исцелениях, бывших у гроба Патриарха. 28 января 1682 г. к архимандриту Герману приходил дворянин Матфей Оборин и рассказал о бывшем ему видении Патриарха Никона, помогшего ему отыскать пропавших лошадей.
17 июля 1682 г. заложена церковь свт. Николая Чудотворца близ южных врат Воскресенского собора водружением подпрестольного креста с памятной надписью. 11 сентября 1682 г. обитель посетили царевны Татиана Михайловна и Софья Алексеевна и избрали место для построения теплого соборного храма во имя Рождества Христова.
Архимандрит Герман имел чрезвычайные способности к церковному пению и духовной поэзии; в историю русской стихотворной культуры он вошел как выдающийся мастер акростиха, им написано множество церковных песнопений и две стихотворные эпитафии на гробницу Патриарха Никона.
Отошел ко Господу 11 декабря 1682 г. и погребен в церкви Андрея Первозванного под колокольней, где сохранилась вмурованная в западную стену белокаменная плита с резной стихотворной эпитафией, написанной летописцем и настоятелем Воскресенского монастыря в 1686–1698 гг. архимандритом Никанором. Отходя от жития сего, архимандрит Герман написал своей рукой духовную, в которой завещал братии и архимандриту, который будет после него, чин церковный писаный и неписаный хранить, «якоже ставися при отце нашем, да и сам сохранен будет от всякаго злаго поречения»681.
Архимандрит Никифор (1683–1685)
Управлял Воскресенской обителью с июля 1683 г. по январь 1686 г. (по другим данным, до 1685 г.)682. Откуда взят на настоятельство – неизвестно.
При нем в октябре 1683 г. в Воскресенский монастырь возвращена из Ферапонтова монастыря церковная утварь (более 20 предметов), пожалованная в свое время Царем Алексеем Михайловичем Патриарху Никону для церкви Богоявления, где Святейший слушал церковные службы.
4–6 декабря 1683 г. архимандрит Никифор принимал в обители Царя Иоанна Алексеевича с царевнами Татианой Михайловной, Софьей и Марфой Алексеевнами. При нем Патриарх Московский Иоаким дважды служил панихиды на гробе Патриарха Никона – 23 августа 1684 г. и 22 августа 1685 г. 18 января 1685 г. Патриарх Иоаким совершил освящение главного престола Воскресенского собора в присутствии Царя Иоанна Алексеевича с синклитом и в сослужении всего освященного собора, а на следующий день служил соборне панихиду по Патриарху Никону; архимандритом Никифором было написано «Сказание» на освящение собора. В этом же году освящен надвратный деревянный храм Входа Господня в Иерусалим. Архимандрит Никифор исходатайствовал льготы для крестьян монастырских вотчин, в частности, безвозмездный пропуск с хлебом и невзимание подвод под казенный извоз.
Скончался и погребен, вероятно, в Воскресенском монастыре на братском кладбище за алтарем Воскресенского собора.
Архимандрит Никанор (1686–1698)
Постриженик Патриарха Никона, видимо, принадлежал к числу тех литовских юношей, которых Царь Алексей Михайлович отдал Патриарху Никону по возвращении из Польского похода. Патриарх воспитал их при себе и сделал чтецами и певцами. В 1667 г. он хранитель монастырского книгохранилища, затем строитель Ильинского подворья в Москве, в 1674 г. строитель Галилейской пустыни на озере Велье. В 1678 г., будучи уставщиком, принимал участие в написании Устава, бывшего при Патриархе Никоне, и написал предисловие к нему. Им сочинен «Летописец обители Воскресенския, еже есть Новый Иерусалим»683, вырезанный на белокаменных плитах, вставленных на месте двери, ведшей снаружи Воскресенского собора на Голгофу.
В настоятели назначен 17 января 1686 г. из казначеев обители. Был первым историком обители и стихотворцем. Им составлена «Летопись» об основании Воскресенского монастыря, вырезанная на камне при южных дверях Воскресенского собора, и надпись-акростих на могилу архимандрита Германа I. В 1686 г. он принимал в обители митрополита Леонтия, прибывшего с Афона в Москву ради милостыни, расспрашивал его об особенностях иконы Божией Матери «Троеручица» и записал афонское предание, дополнив его другими историческими сведениями.
По просьбе архимандрита Никанора с братией в марте 1686 г. Воскресенскому монастырю была дана царская жалованная вечно утвержденная грамота «…дабы та святая обитель в православии и в благочестии и в изобилии в век непременно и неподвижно паче сияла… и для вечного блаженного поминовения государей Российского царствия и за всех сущих в ней православных христиан… и в той святой обители положено тело великого господина Святейшего Никона Патриарха Московского и всея Руси»684.
В 1690 г. было освящено несколько церквей: 6 апреля – церковь Всех Святых под колокольней, первоначально именовавшаяся Андрея Первозванного685; 29 апреля – придел архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных в Воскресенском соборе, под Голгофой, в котором в 1689 г. был погребен иподиакон и жизнеописатель Патриарха Никона Иоанн Шушерин; 12 сентября – земляная церковь свв. равноап. Царей Константина и Елены. В этом же году освящен придел во имя свт. Николая в южной части Воскресенского собора, к северу от колокольни, благоукрашенный на средства супруги Царя Иоанна Алексеевича Прасковии Феодоровны, и повторно освящена церковь Усекновения главы пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна, обновленная усердием царевны Татианы Михайловны после погребения в ней 26 августа 1681 г. Святейшего Патриарха Никона.
24 мая 1691 г., в день памяти прп. Никиты столпника Переяславского, в Воскресенском соборе сторожу Диомиду было видение Патриарха Никона, который преподал мир «всем на месте сем живущим» и, назвав себя «месту сему фундатором», повелел сказать «обителя сея порученному начальнику, чтоб в церкви Иоанна Предтечи над сим гробом моим во вся дни отправляли литургию и панихиды, пели бы память мою в сей день тезоименитаго моего угодника Никите Переславскому чудотворцу празднество, а близ гроба моего не погребали бы – утеснение мне чинят»686. При этом свечи лампады в соборе оказались воззженными. С того времени неопустительно стали ежедневно совершать Литургию и по субботам петь панихиды над гробом Патриарха, также и 24 мая отправлялась Литургия и панихида. В 1691 г. царевна Татиана Михайловна пожертвовала в Воскресенскую обитель «длань десныя руки» св. мц. Татианы в серебряном ковчеге. Впоследствии этот ковчег с мощами, помещенный в большой киот с резной сенью, был установлен в северной части Воскресенского собора, вблизи придела Рождества Пресвятой Богородицы.
13 декабря 1692 г. Патриархом Адрианом в присутствии царевны Татианы Михайловны было совершено освящение церкви Рождества Христова, сооруженной одновременно с тремя большими Трапезными палатами, примыкавшими к ней на втором этаже с запада, в 1686–1690 гг. иждивением царевен Татианы Михайловны и племянницы ее, правительницы Софии Алексеевны. Освящение церкви задерживалось в связи со случившимся вскоре по завершении постройки пожаром. Накануне освящения Татиана Михайловна вложила в храм икону Божией Матери Петровскую в золотом чеканном окладе, украшенном рубинами, сапфирами, изумрудом и жемчугом, список чудотворного образа, написанного митрополитом Московским Петром. 14 декабря Патриарх Адриан служил панихиду по Патриарху Никону.
В 1694 г. закончено строительство монастырской каменной ограды.
27 августа 1695 г. в Воскресенском монастыре «верховому комнатному истопнику» Ивану Ильину было видение Патриарха Никона, наказавшего его расслаблением за то, что, побывав в обители, тот не пел панихиды над гробом Святейшего. Ильин вернулся в монастырь и был исцелен после совершения панихиды687.
В мае 1697 г. освящена надвратная каменная церковь Входа Господня в Иерусалим. В 1696 г. разобрана деревянная церковь Воскресения Христова, стоявшая к югу от Рождественского храма, и к 1698 г. здесь усердием царевны Татианы Михайловны возведены каменные больничные палаты с церковью Трех Святителей, прежде бывшей на деревянной городовой стене при хоромах Патриарха Никона, освящена 18 апреля 1698 г.
Дальнейшая судьба архимандрита Никанора достоверно неизвестна. Возможно, он был погребен в Воскресенском монастыре на братском кладбище за алтарем Воскресенского собора688, но, может быть, был переведен в Воронежский Алексеевский Акатов монастырь. Во всяком случае, П. Строев указывает в числе настоятелей Акатова монастыря в 1700(?), 1703 и 1704 гг. архимандрита Никанора689.
По сведениям Е. Поселянина, архимандрит Никанор в XVII в. перевез икону Божией Матери «Троеручица» из Ново-Иерусалимского монастыря в Воронеж, в Алексеевский Акатов монастырь, где она почиталась чудотворной, о чем свидетельствовали многочисленные привески к ней690. Если действительно архимандрит Никанор стал настоятелем Алексеевского монастыря, то он мог взять список с этой иконы с собой при переводе в Воронеж. Алексеевский архимандрит Никанор возглавил 4 декабря 1703 г. погребение свт. Митрофана Воронежского; управлял обителью до 1704 г.
Архимандрит Герман II (1698–1699)
Выходец из Казани. Архимандритом Воскресенского монастыря назначен 13 октября 1698 г. из игуменов Казанской Раифской Богородицкой пустыни. В Раифскую пустынь он был взят из строителей Воскресенского монастыря по просьбе митрополита Казанского Адриана, будущего Патриарха (архимандрит Адриан был поставлен в митрополита Казанского и Свияжского 21 марта 1686 г., а во Патриарха – 24 августа 1690 г.) в 1689 или 1690 г для возобновления Раифской обители после опустошительного пожара 1689 г., который истребил все монастырские строения – «церкви Божьи со всею утварью и колоколами», как писал в челобитной Герман, возведенный в игумены Раифского монастыря. Он застал Раифскую пустынь в крайнем запустении. Лишившиеся пристанища старые и немощные иноки разошлись по другим монастырям, остальные жили на пепелище в утлых хижинах. Митрополит Адриан, видя преданность раифской братии своему монастырю, решил восстановить его в лучшем виде и уже в камне, для чего и вызвал из Нового Иерусалима иеромонаха Германа, «родом казанца», поручив ему восстановить обитель, имея образцами Тихвинский и Ново-Иерусалимский монастыри, в которых он жил. Трудами игумена Германа с братией при поддержке митрополита Казанского Маркелла с 1690 г. в Раифской пустыне были построены три церкви, настоятельские и братские покои, хозяйственные постройки, монастырская ограда с бойницами и пушками. При этом строительные работы производились под руководством иеромонаха Ново-Иерусалимского монастыря мастера-строителя Гермогена691.
Архимандрит Герман с 1698 г. был схимником. Скончался 26 июня 1699 г. и погребен у восточной стены Голгофского придела Воскресенского собора. Сохранилась каменная резная надгробная плита в наружной стене Голгофского придела.
В 90-е гг. XVII в. было закончено возведение основного комплекса Воскресенского монастыря, завершены строительством идеи, заложенные Патриархом Никоном, воплощенные и развитые его учениками и ближайшими сподвижниками. Построены и освящены каменные собор во имя Воскресения Христова с шестью престолами, церковь Всех Святых под колокольней, земляная церковь свв. равноап. Константина и Елены, теплый соборный храм Рождества Христова, церковь Трех Святителей при настоятельских покоях. Возведена каменная ограда монастыря с надвратной церковью Входа Господня в Иерусалим, за оградой на берегу реки Истры, переименованной в Иордан, – отходная пустынь с двумя церквами, Богоявления и апостолов Петра и Павла. Над памятным крестом на Елеонской горе поставлена часовня. Вокруг обители, вблизи и вдали, «учинены многия веси и наречены именами по образу древняго Иерусалима, яже есть: Иордан, Елеон, Фавор, Вифиния, Рама, Вифлеем, Самария, Сидон, Назарет, Капернаум, Галилея»692.
Архимандрит Арсений I (1699–1703)
Определен настоятелем Воскресенского монастыря из Новгорода 30 июля 1699 г. Архимандрит Арсений с братией обещались построить каменную церковь во имя прп. Александра Свирского на месте смытого вешней водой деревянного креста, поставленного на берегу реки Которосль на месте кончины Патриарха Никона, и 22 июня 1700 г. получили благословенную грамоту Ростовского митрополита Иоасафа на возведение сей церкви. Построение церкви было отменено Императором Петром I.
Архимандрит Игнатий (1703–1709 или 1710)
Об архимандрите Игнатии ничего не известно. В 1704 г. был освящен придел Поругания Господня, или Тернового венца, в юго-восточной части заалтарного обхода Воскресенского собора, изразцовый иконостас которого был устроен при Патриархе Никоне. В этом же году на келейные деньги иеромонаха Сергия (Турчанинова), ближайшего сподвижника Патриарха Никона, несшего в обители послушание строителя и литейщика колоколов, устроен придел в честь 12 и 70-ти апостолов у южной стены ротонды Воскресенского собора, вблизи примыкания к ней колокольни. В этом же году составлена ризничная и монастырская опись дьяком Феодором Сатмоновым.
В 1703–1710 гг. с кровель Воскресенского собора было снято белое железо и вывезено для покрытия кровли каменных служб в московском Даниловом монастыре, а воскресенский шатер покрыт тесом693.
Архимандрит Антоний I (Баутин) (1709 или 1710–1722)
Назначен настоятелем Воскресенского монастыря из московских церковников. При нем 10 августа 1710 г. была изготовлена «Таблица» с описанием истории написания первообраза иконы «Троеручица», «ведения ради сомнения имущих», и помещена рядом с иконой.
В 1710 г. им был получен указ Царя Петра Алексеевича об «определении содержанием», распространявшийся на 60 наиболее крупных монастырей, по которому монастырю в полное владение оставлялась часть земель, остальные поступали в ведение Монастырского приказа, восстановленного в 1701 г., и доходы с них забирались «в казну». В фактическое владение Воскресенскому монастырю было оставлено 8 вотчин, тогда как к концу XVII в. ему принадлежало 23 приписных вотчины и монастыри в 20 уездах. «Определение содержанием» ограничило также «штат» монастыря – 100 человек братии, и утвердило точные «оклады» – денежные сборы с каждой вотчины.
Из Нового Иерусалима был переведен настоятелем в московский Спасо-Андрониев монастырь, но остался в Воскресенском монастыре на покое, где и скончался 12 апреля 1724 г. Погребен у церкви Марии Египетской, на южной стороне. Белокаменная плита с эпитафией архимандриту Антонию расположена в восточной стене южного притвора Воскресенского собора.
Архимандрит Лаврентий (Горка) (1722–1723)
Родом малоросс или поляк, выпускник Киево-Могилянской академии, по окончании которой был учителем киевских духовных училищ. В 1713–1719 гг. игумен киевского Выдубицкого-Михайловского монастыря, прославился как один из беспокойнейших священнослужителей в Киеве. В 1718 г. вызван в Санкт-Петербург, где некоторое время был проповедником. В 1719 г. лишился всех своих постов без объяснения причин. Был другом Феофана Прокоповича; эта дружба и ввергала его в водоворот интриг тогдашнего времени, и помогала в жизненных перипетиях. 29 апреля 1722 г. он был переведен в Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь. Не успев вступить в управление монастырем, по рекомендации архиепископа Феофана Прокоповича был вызван из Нового Иерусалима для участия в Персидском походе и назначен старшим духовным начальником на суде, устроенном для обеспечения «низового похода» Петра I особого флота на Каспийском море (у берегов Астрахани), – обер-иеромонахом армии и флота и историографом похода; вместе с Императором пребывал в Астрахани694. В походе заболел и 3 ноября того же 1722 г. подал прошение об увольнении его в Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь.
Во время его настоятельства обрушился каменный шатер над ротондой Гроба Господня 23 мая 1723 г. на праздник Вознесения Господня, когда все бывшие в храме пошли крестным ходом к Елеонской часовне.
Через три месяца после этого события, 6 сентября 1723 г., архимандрит Лаврентий хиротонисан во епископа Астраханского и Ставропольского. Мы не знаем, что послужило причиной такого иерархического повышения. Может быть, его ученость и способности к работе на ниве просвещения и миссионерства, которые он продемонстрировал на епископской кафедре, проповедуя среди калмыков и учреждая греко-латинские школы в Вятке, обратной стороной которых была малая способность к делам практическом, без которой невозможно было восстановить собор.
Епископ Лаврентий обладал даром слова и был хорошим проповедником. Епископ Астраханский и Ставопольский Платон (Любарский) отзывался о нем как о человеке превосходных душевных и телесных дарований: «…ученостию славный муж, нравом прост, совестен, благочестив, нелицеприятен, непамятозлобен, только чрезмерно горяч и вспыльчив, но не надолго»695. Своими резкими действиями он нажил немало врагов, на него часто жаловались в Святейший Синод, почему и переводили из одной епархии в другую – с 7 сентября 1727 г. он епископ Великоустюжский и Тотемский, с 11 мая 1731 г. – епископ Рязанский и Муромский, с 26 сентября 1733 г. – епископ Вятский и Великопермский. Многие жизненные неурядицы привели преосвященного Лаврентия в марте 1736 г. к параличу. Скончался он 9 апреля 1737 г. и был погребен в соборе г. Вятки. До января 1738 г. Вятская кафедра оставалась вдовствующей, пока сюда не был назначен преемник архимандрита Лаврентия по Ново-Иерсулимскому монастырю Киприан (Скрипицын).
Архимандрит Киприан (Скрипицын) (1723–1727)
Переведен из Спасского Ярославского монастыря, которым управлял с 1719 г., и в августе 1723 г. принял настоятельство в Воскресенском монастыре. При нем обитель 17 сентября 1726 г. была разрушена большим пожаром, в огне которого сгорели деревянные палаты Патриарха Никона, все деревянные крыши, сильно пострадал Воскресенский собор, во Всехсвятской церкви под колокольней от падения колоколов были повреждены своды, стены, иконостас, при этом падении треснул колокол, на котором были вылиты святцы всего года и персоны Патриарха Никона, Царя Алексея Михайловича, Царицы и царевича. Из этого колокола позднее был перелит самый большой колокол в 515 пудов.
К восстановлению собора был привлечен один из лучших архитекторов – И. Ф. Мичурин; он стремился сохранить уцелевшие и воссоздать утраченные части храма для возрождения его в прежнем виде, но монастырских средств не хватало, и работы шли медленно.
27 сентября (другая дата – 30 октября)1 1727 г. архимандрит Киприан был переведен настоятелем в Дмитровский Борисоглебский монастырь, затем последовательно был настоятелем московских Знаменского, Спасо-Андроникова и Чудова монастырей. 31 декабря 1737 г. хиротонисан во епископа Вятского и Великопермского, но на место так и не выехал и управлял делами епархии заочно; с 18 мая 1739 г. – епископ Коломенский. С 4 марта 1739 г. – член Святейшего Синода. Преосвященного Киприана называли человеком «нешкольным». Скончался 16 июня 1740 г. в Санкт-Петербурге.
Архимандрит Мелхиседек I (Борщов) (1727–1736)
Был архимандритом Кашинского Клобукова (1715–1717), Старицкого Успенского (1717–1721), Дмитровского Борисоглебского (1722–1723), Иосифо-Волоцкого (1723– 1727) монастырей. Переведен в Воскресенский монастырь Нового Иерусалима в 1727 г. При нем 11 мая 1732 г. начато строение шатра над Гробом Господним, но архимандрит Мелхиседек был вызван в Санкт-Петербург, в который к 1 июня он уже прибыл, и работы были остановлены. В 1735 г. по доносу Феофана Прокоповича был взят в Тайную канцелярию в связи с делом Маркела Радишевского, автора запрещенного сочинения «Возражения на объявление о монашестве». В 1636 г. по суду отставлен от настоятельства и сослан в Сибирь. В апреле 1636 г. он уже упоминается как бывший настоятель. После освобождения 2 августа 1742 г. определен архимандритом Пафнутьева Боровского монастыря, но через четыре месяца отставлен и жил на покое; с 1744 г. – архимандрит Бизюкова Крестовоздвиженского монастыря. 20 мая 1748 г. к нему обратился его «ближний свойственник» историк В. Н. Татищев, собиравший древние русские манускрипты, с просьбой дать «обстоятельное известие, где какие древние истории в книгохранительницах находятся, а ежели в Бизюкове монастыре есть, то б прислал… для просмотра, ибо я ведал, – писал Татищев в своей «Истории Российской», – что он в книгах мало разбирался и меньше охоты к ним имел». Архимандрит Мелхиседек отослал ему три тетради, в которые были списаны материалы «о собрании русской истории». Как впоследствии определил Татищев, это были тетради, в которые архимандрит Мелхиседек во время пребывания в Сибири списал текст летописи, написанной первым Новгородским епископом Иоакимом в начале XI в. Спор о достоверности тетрадей начался со времен Татищева696.
Архимандрит Мелхиседек скончался в сентябре 1748 г. в Бизюковом монастыре.
Архимандрит Карион (Голубовский) (1737–1742)
19 июля 1737 г. переведен в Новый Иерусалим из настоятелей Спасского Ярославского монастыря, которым управлял с 1734 г. В период 30–40-х гг. в Воскресенском монастыре под руководством архитектора И. Ф. Мичурина перестраивался подземный храм равноап. Константина и Елены.
В 1742 г. архимандрит Карион был отставлен от настоятельства, а в начале 1743 г. направлен настоятелем в Саввино-Сторожевский монастырь; управлял им по 1752 г.
Архиепископ Белгородский и Обоянский Петр (Смелич) (1742–1744)
Архиепископ Петр, по происхождению серб, был в Москве ризничим при Суздальском митрополите Ефреме; с 1713 г. архимандрит Московского Симонова монастыря, был известен Петру I, который при открытии Синода 25 января 1721 г. назначил его советником и наградил панагией с правом ношения; с 1725 г. – архимандрит Александро-Невского монастыря в Санкт-Петербурге и в том же году получил звание «первейшего архимандрита во всей империи». В 1730 г. отрешен от управления, а в 1733 г. восстановлен в правах, но уже без звания «первейшего». Основал Александро-Невскую семинарию.
20 июня 1736 г.697 хиротонисан во епископа Белгородского и Обоянского с возведением в сан архиепископа. Пребывая на епископской кафедре, проявил себя как защитник духовного просвещения, много внимания уделивший развитию школьного образования, старавшийся при этом смягчить суровый школьный режим требованием избегать излишних и неосмотрительных наказаний. Был строгим архипастырем, искоренявшим суеверия и пьянство, подвергая виновных строгому наказанию, вплоть до отлучения от Церкви, категорически выступил против неизжитого обычая иметь в храмах свои иконы. Но взимал плату за обновление ставленых грамот священства, и по итогам представленных против него обвинений был уволен 11 сентября 1742 г. на покой в Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь на правах настоятеля.
18 марта 1743 г. Воскресенский монастырь, всегда бывший первостатейным именовавшимся «комнатною и царскою обителью, приписан будучи всяким правлением и ведомством к двору царскому», был поручен в управление первому Московскому архиепископу Иосифу, в ведомстве которого состоял по его кончину 10 июня 1745 г.698 Потом монастырь остался в ставропигии Святейшего Синода, «и повелено впредь писаться ставропигиальным, властям онаго быть в непосредственном ведомстве Святейшего Синода»699.
27 ноября 1744 г. архиепископ Петр скончался и был погребен в монастыре в Успенском приделе Воскресенского собора, у северо-западного столпа. В 1985 г. могила его была вскрыта.
Архимандрит Иларион (Григорович) (1744–1748)
Выпускник Киевской Духовной академии (1721). С 1726 г. иеромонах, префект Харьковского коллегиума; сочетал в себе достоинства ученого мужа и строгого подвижника, требовательностью к братии навлекал на себя неприятности. В 1733 г. возведен в сан архимандрита и назначен настоятелем Свято-Успенского Святогорского монастыря, в 1738–1740 гг. – архимандрит Николаевского Белгородского монастыря, переведен в Савво-Сторожевский монастырь, отсюда в начале 1743 г. переведен в московский Чудов монастырь; несмотря на болезненность, Св. Синодом был определен к проверке исправленного ранее церковно-славянского текста Библии вместе с архиепископом Московским Иосифом.
17 декабря 1744 г. назначен в Новый Иерусалим с прежним, «каковое за библейский труд получал», жалованьем (половина архиерейского оклада – 750 руб.), а в священнослужении «облачение употреблять и мантию носить и место содержать по степени Чудова монастыря». До 1747 г. находился при исправлении Библии (так называемая «Елизаветинская Библия» вышла из печати в 1751 г.). С 15 марта 1748 г. – член Святейшего Синода.
В 1745 г. монах Воскресенского монастыря Иов (Свитин), несший послушание «гробового монаха» у Гроба Господня, направил почтой, минуя священноначалие, челобитную Императрице Елизавете Петровне, в которой, описывая разоренное состояние собора, просил повелеть «церковь Иерусалимскую от водяной течи накрыть и над Гробом Господним шатер верх построить, который впусте разоряется двадцать пятой год без призору…». Архимандрит Иларион доносил в Синод о плачевном состоянии Воскресенского собора: «Такие де преумножились в той церкви течи, что во время дождя непрестанно подставляют кадки и ушатами из церкви выносят воду, и верхние своды… стали рушиться и великая часть того свода уже упала, и в олтаре большом и за олтарем непрестанно кирпичи падают»700. Но при архимандрите Иларионе так и не было начато настоящее восстановление обители.
22 мая 1748 г. архимандрит. Иларион был рукоположен во епископа Сарского и Подонского (Крутицкого). Его пребывание на Крутицкой кафедре оставило в народе память о нем как о человеке богоугодной жизни, лучшем архиерее Крутицкой епархии, его почитали святым. Скончался 3 декабря 1760 г. и погребен в усыпальнице Крутицкого архиерейского дома, под Никольским приделом Воскресенской церкви. В 1988 г. прославлен в Соборе Тульских святых. 12 июля 2008 г. прославлен в Соборе Святогорских святых Украинской Православной Церкви701.
Архимандрит Амвросий (Зертис-Каменский) (1748–1765)
С 1720 г. обучался последовательно в школе Киевского Богоявленского монастыря, Киевской Духовной академии, Львовской Духовной академии, Московской славяно-греко-латинской академии. В 1739 г. пострижен в монашество и определен учителем в Александро-Невскую духовную семинарию, с 1742 г. – префект семинарии.
5 апреля 1748 г. произведен в архимандриты с титлом члена Св. Синода и определен настоятелем Воскресенского монастыря. Архимандрит Амросий был назначен именным указом Императрицы Елизаветы Петровны как опытный строитель и знаток церковной архитектуры с целью восстановления Воскресенского собора. На архимандрита Амвросия первым из воскресенских архимандритов была возложена мантия со скрижалями.
Летом 1748 г. Императрица Елизавета Петровна посетила Воскресенский монастырь и повелела архимандриту Амвросию к следующему лету «восстановить шатер точным подобием прежнему»702. Разработку проекта нового шатра Императрица поручила архитектору В. В. Растрелли. Архимандрит Амвросий энергично приступил к делу. Для руководства строительными работами он испросил бывшего эконома Александро-Невской лавры Каллиста, для проведения живописных работ вызвал из Троице-Сергиевой лавры своего младшего брата Николая, будущего воскресенского архимандрита Никона, чтобы иметь собственных мастеров, организовал в монастыре школу «архитектурных, рисовальных и живописных дел».
19 июля 1749 г. именным указом Императрицы Елизаветы Петровны Воскресенскому монастырю возвращено имя Нового Иерусалима, велено называть и писать его ставропигиальным Воскресенским, Новый Иерусалим именуемым, монастырем. Указом от 8 октября велено «синодальному члену архимандриту Амвросию и впредь будущим по нем архимандритам божественное служение исправлять против Киево-Печерской лавры»703.
В сентябре 1749 г. Императрица торжественно праздновала в монастыре Нового Иерусалима свое тезоименитство. Она прибыла со свитой в обитель вечером 2 сентября; архимандрит Амвросий с братией и приехавшие заранее придворные встречали Государыню перед монастырем и проводили в специально построенный к ее приезду на лужайке в юго-западной части монастыря деревянный одноэтажный дворец с каменными службами. На следующий день, 3 сентября, был вторично освящен придел свт. Николая чудотворца в северной части Воскресенского собора, у колокольни, обновленный усердием графини Мавры Егоровны Шуваловой. Поскольку в Иерусалимском храме на этом месте находится придел в честь 40 мучеников, в Севастийском озере мучившихся, то для восполнения соответствия с храмом Гроба Господня при обновлении придела решено было «построить вновь един кивот с правой стороны на стене и в нем написать образ четыредесяти мучеников, чтобы было согласно с иерусалимскою историею» (из монастырской описи 1751 г.; в середине XVIII в. киот с образом Севастийских мучеников был установлен).
Когда Государыня слушала Обедню, совершавшуюся после освящения придела, в монастырь приехало великокняжеское семейство. После обеда Великий Князь с обер-егермейстером А. Г. Разумовским и другими кавалерами двора «на Фаворской стороне и около истрорецких рощей и берегов поехали при охоте до самого вечера забавлялись».
На следующий день Императрица снова была у Обедни, великие князья осматривали святыни Воскресенского собора, а к середине дня приехали великий канцлер А. П. Бестужев-Рюмин, вице-канцлер М. Л. Воронцов, Президент императорской академии К. Г. Разумовский, камергер М. К. Скавронский и другие знатные особы. Вечером все отстояли всенощное бдение. По окончании богослужения Елизавета Петровна в своих апартаментах пожаловала камер-пажа И. И. Шувалова, будущего покровителя М. В. Ломоносова и куратора Московского университета, в свои камер-юнкеры.
На следующий день, 5 сентября, в день именин Императрицы Елизаветы Петровны, архимандрит Амвросий в сослужении духовника Императрицы протоиерея Феодора Дубянского и дворцового протодиакона совершили Божественную литургию в пожалованных Государыней «пребогатых шитых золотых и серебряных ризах», «придворные господа полковники пели во сту человек дворцовых певчих на первых хорах», торжественное слово по окончании Литургии говорил митрополит Ростовский Арсений (Мацеевич), а после совершенного затем молебна прибывший наряд артиллерии произвел 101 пушечный залп. Архимандрит с братией поднес праздничную икону. Торжество продолжилось в Гефсиманском саду: императорское семейство «в пребогатой золотой карете за монастырь поехать и против западных ворот на лугу в превеликом шатре во сто персон при итальянской музыке изволило за публичным столом обедать, и за высочайшия здравия из государственной артиллерии, нарочно поставленной на лугу перед шатром, первое 99, второе 69, третье 33 раза выпалено». Вечером весь монастырь был иллюминирован «нефтяными плошками», и во дворце «при тихой итальянской инструментальной и вокальной музыке начался бал, которой продолжался без танцев часа до первого по полуночи».
6 сентября был освящен новый придел в честь прп. Марии Египетской в южном притворе собора, в который Императрица собственным иждивением пожаловала иконостас, ризницу серебряной парчи, церковные сосуды. Место для церкви было устроено в XVII в. в соответствии с топографией Иерусалимского храма – здесь прп. Мария, бывшая блудница, испытала раскаяние и навсегда ушла в пустыню. Освящал придел и служил Литургию протоиерей Феодор Дубянский с придворными священниками и протодиаконом. По окончании был дан «публичный стол», трижды стреляли из пушек. «Их Императорские Высочества… изволили за западными воротами через луг поитить в пустынь Святейшаго Никона Патриарха, в которой обе церкви и все четыре апартаменты посетивши по допущении архимандрита к ручке и по принятии от него Воскресенской иконы на благословение, благополучно путь восприяли на ночь в село Назаретское». Императрица осталась в монастыре; на следующий день была у ранней Обедни и после осмотра «вскрытых вне и внутрь около Гроба Господня в шатре фундаментов» приложилась к святыням, приняла от архимандрита Амвросия в благословение икону Божией Матери Иерусалимской и выехала в Чернево-Назарет, где на следующий день, 8 сентября, праздновала Рождество Пресвятой Богородицы.
Результатом высочайшего посещения было, кроме пожалования «привилегий и богатых трех ризниц», повеление «в соборной церкви и обеих хорах вновь заложить три церкви»: святых праведных во имя свв. праведных Захария и Елисаветы, свт. Иоанна Златоустого, св. праведных богоотец Иоакима и Анны. «Тако ж Их Императорские Высочества на горе Голгофе построить все три [sic!] иконостаса, богатую ризницу и всю церковную утварь своим комнатным иждивением повелеть же изволили. На то взирая, и прочие знатные персоны для возобновления по себе поохотились разобрать ниже следующие церкви: …обер-егермейстер Алексей Григорьевич Разумовский взял церковь земляную Обретения Честнаго Креста Господня… великий канцлер Алексей Петрович Бестужев-Рюмин взял церковь Двенадесяти Апостолов, что близ шатра по левую сторону… вице-канцлер Михайла Ларионович Воронцов взял среднюю церковь за великим алтарем, идеже разделиша воины Ризы Христовы… штатс-дама Мавра Григорьевна Шувалова взяла другую церковь заалтарную, что в Палатке преподобного Андрея Критского… генерал-адъютант Александр Борисович Бутурлин взял церковь Всех Святых, что под колокольнею… Феодор Яковлевич Дубянский взял под Голгофою, где погребен Святейший Никон Патриарх… Евдокия Павловна [одна из трех старших горничных Императрицы] взяла церковь святого Архангела Михаила под Голгофою»704.
В 1749 г. был освящен придел св. ап. Иакова, брата Господня по плоти, первоначально устроенный к северу от главного алтаря земляной церкви свв. Константина и Елены, а в середине XVIII в. перенесенный на второй ярус колокольни Воскресенского собора и благоукрашенный на средства графа Ивана Ивановича Шувалова.
Есть указания, что в 1749 г. были освящены приделы: в северной части хор Воскресенского собора – во имя свт. Иоанна Златоустого705; заалтарный придел Разделения риз Воскресенского собора, изразцовый иконостас которого был устроен при Патриархе Никоне, а окончательное устроение придела совершено иждивением графа Михаила Иларионовича Воронцова706; в заалтарном обходе Воскресенского собора – во имя свт. Андрея, архиепископа Критского, благоустроенный усердием графа Андрея Петровича Литты707.
В 1749–1750 гг. обновлена церковь Усекновения главы пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна попечением духовника Императрицы Елизаветы Петровны протоиерея Феодора Яковлевича Дубянского. В 1750 г. начата перестройка подземной церкви равноап. Константина и Елены и в 1751 г. освящена после обновления ее на средства Кирилла Григорьевича Разумовского708. Переустройство церкви продолжалось на пожертвования графа Алексея Григорьевича Разумовского и его сестры Веры. К 1754 г. взамен первоначального керамического был устроен медный, местами вызолоченный, чеканный иконостас в стиле барокко, иконы для него написал Николай Стефанович Зертис-Каменский. В 1751 г. обновлена Голгофская церковь на пожалования великого князя Петра Федоровича, будущего Императора Петра III, и его супруги, великой княгини Екатерины Алексеевны. В 1756 г. освящен во имя мч. Лонгина Сотника, иже при Кресте Господни, придел в северо-восточной части заалтарного обхода Воскресенского собора, изразцовый иконостас которого был устроен при Патриархе Никоне, а завершено устройство придела тщанием тайного советника и сенатора Ф. В. Наумова. В Иерусалимском храме на этом месте находится церковь, «в ней же титла написанная от Пилата»709.
В 1750 г. «по разобрании до половины развалившегося шатра вновь начато его строение»710. В марте 1751 г. архимандрит Амвросий сообщал в Синод, что работы по восстановлению шатра подходят к концу. В это же время была составлена опись всем ветхостям в монастырских церквах, которая зафиксировала, что в крестовой части собора «гзымсы, пилястры, капители, клеймы и прочие орнаменты в приличных местах для изображения наперед сего бываго во Иерусалимской первообразной церкви мозаического художества самою изрядною штукатурною работою от средней главы и от сводов до нижних хор отделаны и во оных клеймах из Священного Евангелия шести недель по Пасхе воскресной истории надо всеми хорами по стенам живописью написаны, и где во Иерусалиме натуральные из мрамору столбы и поныне, там из красок… мраморы же размалеваны»711.
В 1756 г. первый оклад иконы Божией Матери «Троеручица», устроенный благоверной царевной Татианой Михайловной из басменного серебра, был заменен новым серебряным вызолоченным окладом из монастырского серебра и золота.
В 1756 г. наконец утвержден Императрицей проект нового деревянного шатра архитектора В. В. Растрелли. Для наблюдения за строительством нанят архитектор Карл Бланк, и в 1756–1759 г. Воскресенский собор окончательно завершен. В течение 10 лет Воскресенский собор был возобновлен. Деревянный шатер с «живописной симфонией» из 100 картин в итальянской манере, золоченая резьба, стенопись в картушах и пышный лепной декор оформили интерьер храма в стиле барокко.
В 1759 г. по соизволению Императрицы Елизаветы Петровны из Воскресенского монастыря деревянный дворец перенесен в монастырское село Чернево – Назарет, где поставлен на каменный фундамент и отделан для «высочайшего присутствия»712.
Церковь Успения Пресвятой Богородицы в северной галерее Воскресенского собора после обновления со значительными перестройками была вторично освящена в 1761 г.
В 1762 г. последовал указ Императора Петра III о конфискации церковных земель, который священники подмонастырских сел Вознесенское, Преображенское-Никулино, Воздвиженское-Дарна, Троицкое, Чернево-Назарет, Соколово огласили прихожанам. Согласно указу, монастырские имения переходили под управление Коллегии экономии. Но уже 8 января 1763 г. вступившая на российский трон Императрица Екатерина II издала указ о возвращении монастырям деревень. Указ был зачитан в приходских церквах, но крестьяне «не оказав нималой склонности к послушанию тех высочайших Ея Императорского Величества повелений, но и больше презрительными криками противности свои оказывали и не только о бытии в послушании властям того монастыря, но и во слышании указов требуемой подписи не дано было». С наступлением лета крестьяне приступили к прямому захвату монастырских угодий. Правительство прибегло к силе. Но когда военные команды прибыли на место событий, селяне уже успели опустошить монастырские поля и луга, которые теперь считали своими, и даже нанесли физические увечья монахам, появившимся в этих владениях. События достигли апогея 12 июня. Для расследования конфликта на месте туда был послан советник Коллегии экономии Барыков, который с целью установления причин недовольства составил полные описания церковных имений с росписью крестьянских повинностей и доходов. Владения Воскресенского монастыря описывала команда поручика Михаила Павлова.
26 февраля 1764 г. вышел новый, теперь уже окончательный, указ о конфискации монастырских вотчин, которые поступали в полное распоряжение Коллегии экономии и получали название экономических. В качестве компенсации монастырям предоставлялось государственное жалование согласно штату. Воскресенский монастырь потерял свои владения в 26 уездах; «штатная сумма», назначенная на его содержание, составила около 30% от прежних доходов. «Монастырских крестьян непослушание разом пресеклось», они стали считаться государственными («экономическими») с уплатой в казну налога, повинности в пользу монастыря отменялись.
В 1764 г. установлено Воскресенскому монастырю быть первоклассным с 32 человеками братии монашествующих713.
Преосвященный Амвросий управлял Воскресенским монастырем до 2 августа 1765 г. 17 ноября 1753 г. архимандрит Амвросий был рукоположен во епископа Переславльского и Дмитровского с оставлением титла архимандрита Воскресенского монастыря и члена Святейшего Синода. 8 марта 1761 г. переведен в Сарскую и Подонскую епархию, в 1764 г. переименованную в Крутицкую и Можайскую, с 7 октября 1761 г. – архиепископ.
Архиепископ Амвросий был участником состоявшегося в апреле 1763 г. суда, на котором был лишен сана митрополит Арсений (Мацеевич), привлеченный к суду за открытый резкий протест против изъятия церковных имуществ и отправленный в ссылку в Ферапонтов монастырь, потом в Николо-Корельский, и, наконец, в Анзерский скит Соловецкого монастыря714.
18 января 1766 г. переведен на Московскую кафедру, с 1769 г. по поручению Императрицы Екатерины II начал обновлять соборы Московского Кремля. Он был знатоком латинского, греческого и еврейского языков, занимался переводами. Из его переводов известны «Псалтирь» (М., 1809), «12 посланий Игнатия Богоносца» (М., 1772), «Святого Кирилла Епископа Иерусалимского огласительные Поучения» (М., 1772), «Богословие или изложение Православной веры» св. Иоанна Дамаскина (М., 1774; 1785). Одно из лучших творений архиепископа – «Служба святому митрополиту Димитрию Ростовскому».
Во время «чумного бунта» в Москве архиепископ Амвросий 16 сентября 1771 г. был убит за неверно истолкованные предпринятые им предохранительные меры против распространения чумы – разъяренная пьяная толпа вытащила его из алтаря Донского монастыря за монастырские стены, где и совершила убийство. Преосвященный Амвросий был погребен 4 октября в «старом соборе» у левого клироса.
Архимандрит Никон (Зертис-Каменский) (1765–1771)
Родной брат архимандрита Амвросия. Обучался в малых школах Киевской Академии латинскому языку, потом в Санкт-Петербурге рисовальному, архитектурному и живописному искусствам. С 1748 г. находился в Ново-Иерусалимском монастыре «при строении в должности живописного искусства надзирателя, где как сам трудился, так и многих сему художеству обучил». Сначала он руководил резчиками по алебастру, создававшими лепной декор храма в стиле барокко, а затем вместе с учениками писал картины на библейские темы в ротонде и шатре над нею, его трудами украшен Успенский придел. В 1756 г. пострижен в монашество, а 3 марта 1761 г. произведен в архимандрита Данилова Троицкого монастыря в Переяславле-Залесском и выехал из Воскресенского монастыря по месту назначения. 26 ноября 1761 г. переведен в СаввиноСторожевский монастырь.
2 августа 1765 г. переведен в Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь. В период его управления обителью велись работы по благоукрашению храма Рождества Христова и устройству в его первом этаже Святого вертепа с приделами по Вифлеемскому образцу.
28 июля 1771 г. архимандрит Никон выехал из обители в Москву к своему брату архиепископу Амвросию, здесь во время «чумного бунта» был избит толпой, принявшей его за брата, привезен в Воскресенский монастырь и после двух недель болезни скончался 29 сентября 1771 г. Погребен в юго-восточной части Успенского придела Воскресенского собора.
Епископ Крутицкий и Можайский Сильвестр (Страгородский) (1771–1785)
Епископ Сильвестр родился в семье царскосельского священника и был крестником великой княжны Елисаветы Петровны, будущей Императрицы. Окончил Александро-Невскую семинарию (1745), ее префект Амвросий Зертис-Каменский стал его воспитателем после смерти родителей. В 1748 г. пострижен в монашество, был последовательно учителем той же семинарии, префектом, ректором (с 1756 г.).
23 декабря 1761 г. рукоположен во епископа Переславльского и Дмитровского из архимандритов Никитского под Переславлем-Залесским монастыря, в который он был определен настоятелем с возведением в сан архимандрита и ректором Переславльской гимназии в 1760 г. В 1762 г. был членом Комиссии для обсуждения проблемы церковных имений и разделял взгляды митрополита Арсения (Мацеевича). С 1763 г. член Синодальной Конторы. Епископ Сильвестр сторонился епархиальных дел, безуспешно просился на покой (ему было всего 39 лет). Он запретил обращаться к нему с делами за пределами епархии; те, кто все же осмеливался появляться в его доме в Москве, подвергались крупному штрафу, а прошения не принимались или отсылались для рассмотрения на месте. Из четырех богаделен, действовавших в Переславле, преосвященный Сильвестр оставил только одну – в упраздненном Борисоглебском монастыре, а остальные приказал закрыть, отпустив большинство их обитателей на все четыре стороны. «При постройке новых храмов пользовались обыкновенно материалом храмов обветшавших, предназначенных к разрушению – если строилась церковь каменная, материал деревянных церквей употреблялся на обжиг кирпича. О сохранении памятников старины при этом по-прежнему мало заботились, особенно много уничтожалось древних предметов церковной утвари. В 1768 г. Консистория определила упразднить и употребить на топление и печение просфор деревянные церкви в с. Жукове, Дмитровского уезда, и с. Воздвиженском, Клинского уезда»715.
4 февраля 1768 г. епископ Сильвестр был переведен на Крутицкую епархию. 24 февраля (другая дата – 14 марта) 1771 г. согласно своему прошению «за ипохондрической болезнью» уволен на покой в Московский Угрешский монастырь. Вероятно, истинной причиной увольнения было неблаговоление к нему за сочувствие митрополиту Арсению (Мацеевичу, † 1772), за которое ему был объявлен выговор Императрицей Екатериной II.
В октябре 1771 г. переведен из Угрешского монастыря в Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь с поручением управления им. В 1775 г. живописцем Прокопием Цыгановым было расписано «церковное преддверие» придела прп. Марии Египетской Воскресенского собора. 26 мая 1775 г. освящена вторично Голгофская церковь, обновленная иждивением Императрицы Екатерины II. В это время она именовалась приделом Страстей Господних. По сообщению монастырской рукописи, в 1775 г. повелением Императрицы в церкви Рождества Христова были устроены 4 «преузорочные церкви, называемые Вифлеемскими: «Поклонения волхвов», «Избиения от рода младенцев», «Бежания во Египет», «Обрезания Господня»»716. В 1776 г. вторично освящен главный алтарь подземной церкви равноап. Царя Константина и матери его Царицы Елены, обновленный усердием графов Разумовских. В 1780 г. после возобновления вторично освящен придел Поругания, или тернового венца, в заалтарном обходе Воскресенского собора.
30 мая 1781 г., в неделю Всех Святых вторично освящена церковь Всех Святых на первом ярусе колокольни Воскресенского собора, возобновление которой производилось после пожара 1726 г. на пожертвования фельдмаршала графа А. Б. Бутурлина и госпожи К. А. Головиной, а во второй половине столетия – на средства князя В. М. Долгорукого-Крымского и его супруги Анастасии Васильевны, урожденной Волынской.
В 1781 г. был освящен в честь Обрезания Господня придел на первом этаже храма Рождества Христова, устроенный на пожертвования Ивана Петровича Савинова (1720–1795) и его сына, капитана Ивана Ивановича Савинова (1773–1839). В 1783 г. освящен придел Поклонения волхвов Богомладенцу Христу, устроенный иждивением московского генерал-губернатора графа Федора Андреевича Остермана (1728–1811). В 1785 (или 1784) освящен придел Бегства в Египет Пресвятой Богородицы с Предвечным Младенцем и Обручником ее св. Иосифом, устроенный на пожертвования княгини А. Я. Грузинской. Эти приделы входили в число четырех приделов, связанных с Рождеством Христовым, устроенных по плану архитектора Г. Бартенева 1769 г. в первом этаже Трапезных палат. Освящение четвертого «Вифлеемского» придела – Мучеников 14 000 младенцев, от Ирода в Вифлееме избиенных, устроение которого было начато князем Георгием Федоровичем и княгиней Прасковьей Платоновной Мещерскими, а по их кончине завершено усердием княгини Елены Феодоровны Мещерской, сестры князя, по одним сведениям, было в 1783 г.717, по другим – в 1790718.
В 1776 г. престол церкви Трех Святителей, находившейся при больничных палатах, был перенесен на второй этаж и присоединен к Царскому дворцу, примыкавшему с севера к больничным палатам; в этом же году церковь была обновлена и освящена. В это время церковь именовалась церковью при трапезе, в описи 1811 г. – церковью «при настоятельских келлиях», а с 1839 г. – церковью «при дворце»719.
В 1783 г. вторично освящен придел в честь 12 и 70-ти апостолов, обновленный тщанием генерала Б. А. Загряжского, правнука гетмана Петра Дорошенко. Этот придел стал усыпальницей Б. А. Загряжского, его супруги – Екатерины Михайловны, урожденной княжны Черкасской, и ее сестры – Анны Михайловны Черкасской.
С 3 октября 1785 г. преосвященный Сильвестр жил на покое в Спасо-Андрониковом монастыре, с 22 февраля 1788 г. – на правах настоятеля. Скончался 19 октября 1802 г. и погребен в обители при входе в Знаменскую церковь. Над могилой помещалась эпитафия, написанная им самим:
На месте сем Сильвестр епископ погребен…
Он просит всех простить, кому в чем был виною,
И, вспомня общий рок, вздохнуть о нем с мольбою…
Прими умершего совет тебе полезный:
Чтоб, помня смерть, всегда готову быть на суд!
Епископ Сильвестр известен как духовный писатель. Среди его трудов «Описание Ново-Иерусалимского монастыря» (1786), «Правила монашеского жития» и другие сочинения.
Архимандрит Павел (Пономарев) (1785–1786)
Образование получил в Духовной семинарии Троице-Сергиевой Лавры, изучал языки в Московском университете и богословие в Московской славяно-греко-латинской академии (окончил в 1772 г.). Учился с «большой прилежностью и старанием… и успехи оказал достойные всякой похвалы». С 1782 г. ректор Московской славяно-греко-латинской академии и архимандрит московского Заиконоспасского монастыря; 27 ноября 1783 г. переведен в Симонов монастырь.
Настоятелем Воскресенского монастыря назначен 13 октября 1785 г., а 14 января 1786 г. уже переведен в Новоспасский монастырь.
12 февраля 1794 г. хиротонисан во епископа Нижегородского и Алатырского. С 26 октября 1798 г. – епископ Тверской и Кашинский, с 15 мая 1799 г. – архиепископ, с 26 декабря 1799 г. – архиепископ Ярославский и Ростовский. Скончался 19 марта 1805 г. и погребен в кафедральном соборе Ярославля.
Архимандрит Павел получил хорошее образование, ему благоволил митрополит Платон (Левшин), по настоянию которого он принял монашество и был назначен наместником Троице-Сергиевой лавры (1775), но, как считают, «пылкий и непреклонный его характер был причиной частых переводов его из монастыря в монастырь». Он не мог равнодушно смотреть на невежество и грубость своих подчиненных и был строг и суров в искоренении недостатков, невежество и пороки не оставались без должного наказания; был решителен в борьбе с раскольниками. По отзывам современников, пребывание его на епископской кафедре оставило о нем память как о человеке суровом, епископе злом и немилостивом, а пребывание в Святейшем Синоде – как о человеке мстительном, корыстолюбивом, злом, скрытном, упрямом, лицемерном и многосведущем720.
Архиепископ Павел был членом Святейшего Синода (с 1792 г.), состоял членом Российской Академии. Перевел с французского «Церковную историю» Тильемонта, «Историю о Епаминоде Фивском Полководце» (М., 1774); им написаны «Краткое Историческое описание Свято-Троицкой Сергиевой Лавры» (М., 1782), многие «По учения», часть из них издана.
Архимандрит Аполлос I (Байбаков) (1786–1788)
Родом из Малороссии, выпускник Московской славяно-греко-латинской академии (1767) и философского факультета Московского университета (1770), ректор Троицкой Духовной семинарии (с 1775), преподавал богословские науки, в 1783 г. возведен в сан архимандрита и назначен ректором Московской славяно-греко-латинской академии и настоятелем Заиконоспасского монастыря; не прекращал преподавательской деятельности, начатой в 1772 г.
В декабре 1785 г. был назначен на годичную «чреду служения и проповеди» при дворе, произнесенные им проповеди были изданы («Дар для благодетелей и друзей…», 1786). С 1786 г. член Российской академии наук. В этом же году назначен настоятелем Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря.
5 июня 1788 г. рукоположен во епископа Орловского и Севского вновь учрежденной епархии, 26 октября 1798 г. переведен на Архангельскую кафедру. Скончался 14 мая 1801 г. и погребен в Холмогорском Преображенском соборе.
Епископ Аполлос принадлежал к плеяде выдающихся учеников митрополита Платона (Левшина), был известен как хороший проповедник; известен как автор множества разнообразных сочинений, в том числе «Исторические достопамятности о начале и произшествиях Ставропигиальнаго Воскресенскаго монастыря, нареченнаго Новым Иерусалимом». Его труды по теории русской словесности «Правила поэтические» и «Грамматика славяно-русского языка» использовались как учебные пособия в духовных училищах. Известны его «Богословские рассуждения» (М., 1781), «Натура и благодать» (М., 1785), изъяснения на Послания Апостолов, переводы с латинского. В своей научно-литературной деятельности проявлял интерес к религиозным идеям русского масонства как противовеса распространявшимся антиклерикальным и атеистическим настроениям.
Архимандрит Платон (Любарский) (1788–1792)
Выпускник Киевской Духовной академии, преподаватель и префект Вятской Духовной семинарии (1763–1772), с 1771 г. игумен Верхочепецкого Крестовоздвиженского монастыря; составил жизнеописания преосвященных архиереев Вятских и Великопермских. С 1772 г. ректор Казанской Духовной семинарии и настоятель Спасо-Преображенского Казанского монастыря. Время его ректорства вспоминается в Казанской семинарии как особо для нее счастливое. В Казани им написаны «Известие о Казанском Спасо-преображенском монастыре», «Казанская иерархия», «Сборник древностей Казанской епархии» и «Краткое известие о Пугачеве». С 30 октября 1785 г. архимандрит Свияжского Богородицкого Успенского монастыря.
Назначен настоятелем Воскресенского монастыря 21 июня 1788 г. В 1791 г. коллежский асессор Алексей Григорьевич Воронец подал прошение о дозволении устроить в ротонде Воскресенского собора придел во имя иконы Божией Матери Тихвинской. Устроение придела началось при архимандрите Платоне, освещение же было совершено его преемником. 20 марта 1792 г. был вылит полиелейный колокол весом в 298 пудов.
31 марта 1792 г. архимандрит Платон был переведен в московский Донской монастырь и вскоре назначен вторым членом Московской Синодальной Конторы. 26 февраля 1794 г. рукоположен во епископа Тамбовского и Пензенского, 11 марта переведен в Астрахань, с 1 апреля 1796 г. – архиепископ, с 18 августа 1805 г. – архиепископ Екатеринославский, Херсонский и Таврический. Скончался 20 октября 1811 г. и погребен в Самарском Пустынно-Николаевском монастыре в Николаевской церкви.
Архиепископ Платон был могучим человеком огромного роста и большой физической силы, скор на руку и, в соответствии с нравами своего времени, мог «жестоким обычаем» наказать виновного, за что от духовенства и мирян получил прозвище «запорожец»721.
Приняв в управление Астраханскую епархию, епископ Платон занялся приведением в порядок производства дел в духовных правлениях, предписав решать дела «общим приговором» во избежание пристрастия, а членам правления быть ко всем добродушным, ласковым и терпеливым; потребовал порядка в ведении учета в приходских церквах; озаботился просвещением паствы, среди которой распространились раскольнические и молоканские заблуждения. По его настоянию открывались начальные школы, в том числе и в селах, для подготовки детей духовенства к поступлению в Астраханскую семинарию, здание которой он расширил и благоустроил. Уделял он внимание и научным трудам, им написано «Краткое известие о бывших в Астрахани преосвященных архиереях с 1602 по 1804 г., из разных грамот и архивных записок».
В 1801 г., при расширении нижнего Владимирского храма Успенского собора, преосвященному Платону довелось обрести нетленные мощи четырех астраханских архиереев: митрополитов Иосифа (причислен к лику святых в 1918 г.) и Сампсона, архиепископа Феодосия (прославлен в 2002 г.) и епископа Мефодия. Были изготовлены три ковчежца и в них положены частицы святыни, но сохранялись они, также как и само обретение, втайне, поскольку святители не были официально прославлены, хотя и почитались народом.
На Екатеринославской кафедре архиепископу Платону, сначала Министерство внутренних дел, а потом Св. Синод, предлагали приспособить для Екатеринославской Духовной семинарии бывший генерал-губернаторский дом (Потемкинский дворец), «в котором не было никакой надобности по части гражданской», но он отказался от этого дома ввиду его ветхости и неудобства722. 25 мая 1808 г. им был освящен в честь Преображения Господня главный престол нового соборного храма г. Одессы, заложенного вместе с основанием города в 1794 г. На преосвященного Платона было возложено и наблюдение за окончанием внутренней отделки и благоустройства собора.
С именем архиепископа Платона связано и перенесение из архиерейского дома в Самарский монастырь местночтимой иконы Божией Матери, некогда принадлежавшей казакам-запорожцам, почитавшим ее чудотворной, и получившей в 1808 г., в связи с ее перенесением именование Самарской, покровительницы Приднепровья.
При жизни преосвященного Платона было напечатано несколько его проповедей, позднее изданы «Астраханская иерархия» (1848), записки «О взятии Казани» (1870), «Краткое известие о Пугачеве» (в приложении к «Истории Пугачевского бунта» А. С. Пушкина). Преосвященный состоял в переписке с Н. Н. Бантыш-Каменским, сохранились его письма, в основном о пугачевщине.
Архимандрит Нектарий (Чернявский) (1792)
Назначен настоятелем Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря 31 марта 1792 г. из настоятелей Савво-Сторожевского монастыря; не вступив в должность, умер 2 апреля723. По другим сведениям, настоятелем в тот же день был назначен архимандрит Нектарий (Шиапов), который умер в Донском монастыре 21 июня 1792 г.
Архимандрит Варлаам (Головин) (1792–1799)
С 1774 г. ректор Псковской Духовной семинарии и игумен Псковского Спасомирожского монастыря, с 1775 г. – архимандрит Снетогорского Рождества Богородицы монастыря, с 1785 г. – Псково-Печерского монастыря. 13 апреля 1792 г. переведен в Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь.
23 мая 1792 г. в монастырской монашеской кухне случился пожар, в результате чего от Трапезных палат остались только стены, пострадал весь западный комплекс зданий, в том числе Больничные палаты, храм Рождества Христова и церковь Трех Святителей. В 1792–1795 гг. попечением настоятеля под руководством архитектора М. Ф. Казакова были проведены большие ремонтно-восстановительные работы, преобразившие наружный облик комплекса Трапезных палат в стиле классицизма.
В 1792 г. освящен придел во имя иконы Божией Матери Тихвинской, устроенный в юго-восточной части хор Воскресенского собора на пожертвования коллежского асессора Александра Герасимовича Воронца и его жены Ефросиньи Михайловны. Главной святыней придела была чудотворная Тихвинская икона Божией Матери, вложенная их семьей «для незабвенной памяти бывшаго милосердия Божыя от иконы Пресвятыя Богородицы и Приснодевы Марии». Икона помещалась в иконостасе, украшенная серебряным чеканным окладом, а перед ней – памятная медная вызолоченая доска с надписью о чуде оправдания оклеветанных, происшедшем после молитвы перед этим образом.
В 1792 г. в юго-восточной части хор Воскресенского собора иждивением полковника А.В. Сухово-Кобылина (1748–1815) устроен и освящен придел в честь Вознесения Господня724. По другим сведениям, он освящен в 1823 г.725
В июле 1795 г. иеромонашествующая братия подала настоятелю прошение, что «по знаменитости здешней церкви многие как из знаменитых особ, так и прочих разнаго состояния людей для обозрения и любопытства приезжают в сию обитель, коим показывают места и вещи чрез ризничаго и сторожей; и за то показывание ему ризничему производится от тех зрителей немалая денежная дача», и они, иеромонахи, «желают, чтобы им тоже показывать достопримечательности приезжающим и получать за это доход, дачи эти записывать в особую книгу». Просьба была удовлетворена: приезжающих «вне церковного пения» спрашивали «кто и откуда», открывали им церковь, по которой их водил иеромонах или иеродиакон с благословения настоятеля, а в его отсутствие – наместника. Если приезжали московские знакомые ризничего иеромонаха Клеопы, то он водил их сам. Водить приезжих по церквам во время богослужения запрещалось726.
19 апреля 1797 г. архимандрит Варлаам принимал в монастыре Императора Павла I с супругой Императрицей Марией Феодоровной и великими князьями. Государыня «назначила соорудить придел во имя тезоименитой ея св. Марии Магдалины», который и начал сооружаться при архимандрите Варлааме по проекту М. Ф. Казакова в северной галерее ротонды Воскресенского собора.
В 1798–1799 гг. вокруг земляной церкви для лучшей ее просушки был обведен канал из белого тесаного камня727.
В 1798 г. архимандритом Варлаамом были составлены «Правила совершения богослужений и о колокольном звоне в храмовые праздники в разных приделах Воскресенского собора»728.
17 января 1799 г. архимандрит Варлаам был переведен в московский Новоспасский монастырь, где и скончался 20 марта 1811 г.
Архимандрит Иероним (Поняцкий или Понявский) (1799–1802)
Выпускник Московской Духовной академии, нес священническое служение на флоте, преподавал в Киевской Духовной академии (1790–1792), затем игумен Смоленского Свято-Троицкого монастыря, с 1794 г. – ректор Нижегородской Духовной семинарии и архимандрит Вознесенского Печерского монастыря. Он обладал даром красноречия и был хорошим проповедником, ему было доверено произнести 6 ноября 1797 г. проповедь в нижегородском кафедральном Спасо-Преображенском соборе в честь восшествия на престол Императора Павла I (впоследствии эта речь была издана).
Назначен настоятелем Воскресенского монастыря 17 января 1799 г. и прибыл сюда в марте.
9 января 1800 г. Рузский землемер Мелентиев затребовал от монастырских властей сведения о монастыре, и ему было представлено описание обители на основании монастырских документов. Из них видно, что к этому времени к именам во образ древнего Иерусалима прибавилась деревня Ермон, «что прежде была пустошь Дьякова в 2-х верстах с половиною на речке Макарихе»729.
30 сентября 1801 г. освящен придел св. равноап. Марии Магдалины в северной галерее ротонды Воскресенского собора, устроенный иждивением Императрицы Марии Феодоровны. 6 октября 1801 г. архимандрит Иероним встречал в Новом Иерусалиме Императора Александра Павловича с августейшей семьей. Слово, сказанное архимандритом Иеронимом при освящении придела, и приветственная речь при встрече Государя в этом же году были опубликованы.
4 июля 1802 г. архимандрит Иероним скончался и был погребен в северной части братского кладбища, за алтарем Успенского придела Воскресенского собора. Сохранилась намогильная чугунная плита с надписью.
Архимандрит Гедеон (Ильин) (1802–1805)
Выпускник Московской Духовной академии, состоял священником при Синодальной ризнице. В 1797 г. принял постриг и назначен префектом Нижегородской семинарии и архимандритом Макариева Желтоводского монастыря. С 1799 г. архимандрит Нижегородского Печерского Вознесенского монастыря, где он преемствовал архимандриту Иерониму (Поняцкому), и ректор Нижегородской семинарии (с 1800 г.).
19 июля 1802 г. переведен в Воскресенский монастырь.
В 1803 г. освящен придел Преображения Господня, устроенный в западной части второго яруса ротонды Воскресенского собора иждивением княгини Екатерины Романовны Дашковой. В 1807 г. освящен придел свт. Павла, архиепископа Константинопольского, устроенный в юго-западной части хор Воскресенского собора по воле Императора Павла I в память восшествия его на престол.
20 августа 1805 г. хиротонисан во епископа Вятского и Слободского. Скончался 3 мая 1817 г. и погребен в кафедральном соборе Вятки.
По воспоминаниям современников, преосвященный Гедеон отличался вспыльчивостью, но был отходчив и ласков к тем, кто подвергался его гневу, любил «торжественность и благочиние в священнослужении и громогласное пение». Заставлял приходское духовенство под страхом штрафов говорить проповеди и заниматься начальным обучением приходских детей и сумел отстоять право духовенства на педагогическую деятельность среди прихожан, когда Министерство народного просвещения стало ставить препятствия развитию церковно-приходских школ. Не проявлял рвения в миссионерской деятельности, ограничиваясь формальными распоряжениями при проявлениях язычества среди новокрещеных; запрещал местному духовенству присоединять «идолопоклонников к Греко-Российской Церкви без воли местного епископа, кроме смертного случая», а в отчетах в Синод сообщал, что в Вятской епархии «никаких суеверий не имеется»730.
Архимандрит Мелхиседек II (Минервин) (1805–1813)
Был наместником Троице-Сергиевой лавры, затем архимандритом Вифанского монастыря (1800), основанного в 1797 г. митрополитом Платоном (Левшиным); в 1803 г. переведен в Можайский Лужецкий Ферапонтов монастырь.
25 сентября 1805 г. назначен настоятелем Воскресенского монастыря.
В 1806 г. графом А. А. Суворовым-Рымникским (1786–1811) в северной части земляной церкви свв. равноап. Константина и Елены устроен придел в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали» по случаю погребения здесь его матери – Варвары Ивановны (урожденной Прозоровской; 1750–1806), супруги генералиссимуса А. В. Суворова-Рымникского (1730–1800). Придел устроен на месте придела во имя св. ап. Иакова, брата Господня, в середине XVIII в. перенесенного на второй ярус колокольни. В 1811 г. в северо-западной части этого придела был похоронен и сам Аркадий Александрович.
В 1807 г. освящены три устроенных по воле Императора Павла I придела на хорах Воскресенского собора: свт. Павла, Патриарха Константинопольского, св. блгв. кн. Александра Невского, по проекту архитектора М. Ф. Казакова, – в связи с рождением великого князя Александра Павловича, будущего Императора Александра I, и св. равноап. кн. Ольги. 9 мая 1809 г. освящен придел Зачатия праведной Анны, устроенный иждивением девицы А. Н. Сухотиной в южной части ротонды Воскресенского собора.
В 1809 г. действительный член Общества истории и древностей российских М. Н. Макадов приобрел у архимандрита Мелхиседека, бывшего на покое в Москве, рукопись «Описание святых мест, находящихся в Новоиерусалимской соборной церкви Воскресения Господня (ркп. конца XVIII в., в 4°, на 12 л., полуустав). 1 июня 1846 г. Макадов пожертвовал эту рукопись в библиотеку Общества731.
В 1810 г. по распоряжению архимандрита Мелхиседека в храме Рождества Христова был сделан деревянный потолок на двух кирпичных столпах, каковое переустройство, как выяснилось вскоре, затемнило храм и уменьшило его внутреннее пространство. Первоначальный вид храму вернул уже другой архимандрит Мелхиседек – (Сокольников).
В 1812 г. во время нашествия французов архимандрит Мелхиседек с братией вывез ризницу Воскресенской обители в Ростовский Спасо-Яковлевский монастырь, где они и пребывали до известия об изгнании врага из Москвы.
Из разоренных Москвы и Звенигорода к Воскресенскому монастырю в сентябре 1812 г. приходили для грабежа французские отряды. «Жители Воскресенска и селений, которые были захвачены или сожжены, вооружались, кто чем мог, учредили дневную и ночную стражу и установили собираться по колокольному звону ... Французам хотелось собор ограбить; да мужички, кто с топором, кто с вилами, давай их катать, а французы в них стрелять. Такая пошла война, – рассказывала свидетельница событий, – но Господь помог, не захотел, чтобы нехристи монастырь ограбили. Французов было 500 человек, наших против них немного, да прибавлялось, – из разных деревень сбегались на шум»732.
Французами были разорены подворье Воскресенского монастыря в Москве, церковь Воскресения в Панех; по прошению архимандрита Мелхиседека подворье было упразднено.
Архимандрит Мелхиседек умер в монастыре 29 июня 1813 г. и погребен к югу от земляной церкви свв. равноап. Константина и Елены, напротив Распятской часовни. Сохранилась чугунная намогильная плита.
Архимандрит Иона (Павинский) (1814–1817)
Образование получил в Олонецкой, Архангельской и Александро-Невской семинариях. С 1797 г. священник при русской миссии в Копенгагене, с 1802 – протоиерей в Санкт-Петербургских церквах. Оказавшись в придворных кругах, проявил интерес и склонность к мистицизму, популярному в то время при дворе Императора Александра I. В 1806 г., оставаясь священником Симеоновской церкви, стал законоучителем Закона Божия в Иезуитском институте – привилегированном среднем учебном заведении. В 1809 г. протоиерей Иона становится духовником великой княжны (позднее – княгини) Екатерины Павловны, любимой сестры Императора, игравшей заметную роль при дворе. В этом же 1809 г. Екатерина Павловна вышла замуж и вместе с мужем, герцогом Петером-Фридрихом Георгом Ольденбургским, выехала в Тверь, куда тот был назначен генерал-губернатором. Отец Иона последовал за ними. Тверской салон княгини стал центром «русской партии», противодействовавшей либеральным религиозным устремлениям. В 1811 г. Ростопчин передал через великую княгиню Императору Александру «Записку о мартинистах» с изложением истории русского масонства и настоятельной просьбой принятия строгих мер против этих обществ. 15 декабря 1812 г. герцог Ольденбургский скончался, его вдова возвратилась под покров брата и сопровождала его в заграничных походах, а ее духовник о. Иона 24 декабря 1813 г. был пострижен в монашество и 31 декабря 1813 г. произведен в архимандриты Воскресенского монастыря.
В 1814 г. придел свт. Андрея Критского в заалтарном обходе Воскресенского собора был возобновлен иждивением графа И. П. Литты и переименован во имя прп. Иулия пресвитера и вмч. Екатерины, небесных покровителей графа и его супруги Екатерины Васильевны.
9 марта 1816 г. архимандрит Иона был назначен членом Московской синодальной конторы, оставаясь воскресенским архимандритом. 24 августа 1816 г. он встречал в монастыре Императора Александра I и приветствовал его торжественной речью, которая потом была опубликована в Москве отдельной брошюрой.
22 июля 1817 г. хиротонисан во епископа Орловского и Севского. В мае 1819 г. приветствовал издание Библейским обществом Евангелия на русском языке: «…сей новый дар милосердия Божия, подаваемый любезному отечеству нашему».
С 21 июля 1821 г. – архиепископ Тверской и Кашинский, в этом же году избран в комитет Библейского общества. С 26 февраля 1823 г. – постоянный член Святейшего Синода. С этого времени он постоянно находился в Петербурге, жил на Тверском подворье (на Васильевском острове). В мае 1823 г. по распоряжению министра духовных дел и народного просвещения кн. А. Н. Голицына здесь поселился священник г. Балты Феодосий Левицкий, а в октябре к нему присоединился друг и единомышленник священник Феодор Лисевич, вызванные в Петербург повелением Государя. Они поселились в одной келье и писали свои сочинения, считая себя двумя свидетелями, о которых говорится в Откровении Иоанна Богослова. Основный досуг их составляло чтение книг мистического направления733, которые в изобилии доставляли им кн. Голицын и архиепископ Иона, также увлекавшийся мистической литературой734.
Некоторое представление об умонастроении архиепископа Ионы дает знакомство с его проповедями, в которых он призывает стремиться к духовной высоте, «где мир исчезает со всеми его очарованиями; где един Бог есть начало и исполнение всякие любви», к возрождению внутреннего человека и соединению с Богом, указывая путь внутреннего, мистического познания Христа: «…если бы мы знали Его столько, сколько познать можем, живот вечный уже рассветал бы в нас… и ничто временное и преходящее не могло бы возмутить сего блаженного состояния»735.
В начале царствования Николая I архиепископ Иона 6 ноября 1826 г. был переведен в Казань (его поменяли с архиепископом Амвросием Протасовым), и исключен из членов Синода. По мнению современников, причина перевода – недовольство Императора Николая I его увлечением мистицизмом.
За короткое, чуть больше года, пребывание на Казанской кафедре архиепископ Иона успел получить выговор «за смуты в церковной жизни, массовое отпадение от Православия крещеных татар», хотя ситуация в епархии отражала реалии тамошней жизни, связанные с формальным крещением тысяч татар и марийцев, и никак не была связана с деятельностью преосвященного Ионы.
Скончался 3 февраля 1828 г., ничем не запомнившись своей пастве, поскольку, по воспоминаниям старожилов, все время пребывания в Казани болел и почти не служил. Погребен под полом Благовещенского собора, у южной стены, его захоронение стало последним в основной части собора.
Как духовный писатель известен собранием своих слов к пастве, им переведен «Опыт о красноречии проповедников» Блера (СПб., 1880), написаны «Правило преподавания пастырского богословия» (СПб., 1803), «Речи и Слова» (М., 1816).
Архимандрит Филарет (Амфитеатров) (1817–1819)
Закончил Севскую семинарию (1797), там же преподавал; в 1798 г. рукоположен в иеромонаха. В разные годы был ректором Севской, Уфимской, Тобольской семинарий, инспектором Санкт-Петербургской и Московской академий. Впоследствии он говорил: «Успехам моим в науках в училище и в семинарии я обязан был именно тому, что сбережен был дома родителями моими с детства от неблагоприятных для нравственности и успехов сообществ»736.
В 1816 г. архимандрит Филарет стал ректором Московской Духовной академии, совместив этот пост с настоятельством в Воскресенском Ново-Иерусалимском монастыре, в который он был переведен 28 июля 1817 г. из настоятелей Иосифо-Волоцкого монастыря.
В сентябре 1817 г. Воскресенскую обитель посетил Император Александр I, который по дороге из Петербурга в Москву, расставшись с Императрицей в Клину, совершал объезд некоторых подмосковных городов, сел и монастырей.
14 июня 1818 г. состоялась закладка обетного престола великого князя Николая Павловича во имя блгв. кн. Александра Невского на хорах Воскресенского собора, рядом с одноименным престолом 1807 г., в присутствии великого князя Александра Павловича и архитектора проекта А. Л. Витберга.
Двухлетнее управление архимандрита Филарета Воскресенским монастырем оставило о нем память как о мудром и милостивом пастыре.
1 июня 1819 г. хиротонисан во епископа Калужского и Боровского. Будучи с юности «монахолюбом», он был глубоким знатоком и почитателем монастырского жития и, пребывая на Калужской кафедре, активно содействовал религиозному возрождению Оптиной пустыни, ставшей к 20-м гг. XIX в. наиболее благоустроенным монастырем Калужской епархии, вступившей с восстановлением обители в период процветания и прославившейся старчеством. Он направил в Оптину инока Моисея (Путилова; 1782–1862), ставшего архимандритом обители.
Владыка Филарет был «более практик, чем теоретик», «выразитель идеи Православия и монашества более в жизни, нежели в литературной деятельности»737. Он всегда интересовался «безмолвной пустынной монашеской жизнью»738, аскетикой, любил беседовать со схимниками, знал учеников схиархимандрита Паисия Величковского.
Обильные духовные плоды принес основанный им в 1820 г. Иоанно-Предтеченский скит Оптиной пустыни, в котором он имел свою келью и почти ежегодно, в Сырную седмицу или первую седмицу Великого поста, без архиерейской свиты посещал его. Для обустройства скита владыка пригласил пустынножителей рославльских лесов и среди них инока Моисея, ставшего начальником скита. 3 июня 1822 г. епископ Филарет постриг его в монашество, а в декабре последовательно рукоположил во иеродиакона и во иеромонаха, определив общим духовником Оптиной пустыни. Через три года о. Моисей стал настоятелем обители и управлял ею 37 лет.
В своем архиерейском служении преосвященный Филарет полагал необходимым содействовать в первую очередь не финансовому благополучию обителей, а их духовному становлению, возможности развития в них старческой жизни, «умного делания».
В январе 1825 г. владыка был переведен в Рязанскую епархию, в 1826 г. возведен в сан архиепископа, в 1828 г. перемещен на Казанскую кафедру, где проявил себя как деятельный миссионер. Возглавляя Казанскую епархию, он способствовал благоустройству в числе многих обителей и Раифской пустыни, на возрождении которой буквально из пепла трудился в конце XVII в. другой воскресенский архимандрит, а тогда раифский игумен Герман. По настоянию архиепископа Филарета игумен Раифской пустыни Амвросий (Боголюбов) начал постройку нового каменного теплого собора во имя Грузинской иконы Божией Матери вместо пришедшего в ветхость храма, построенного игуменом Германом. В стенах этого собора владыка устраивал для себя кельи, где хотел успокоиться от трудов, но был переведен в Киев, и собор был закончен строительством уже без него – в 1842 г.739
С 1836 г. принимал участие в работе Святейшего Синода. В сентябре 1836 г. назначен на Ярославскую кафедру, в 1837 г. переведен в Киев с возведением в сан митрополита. В 1841 г. тайно принял постриг в великую схиму с именем Феодосий. В своем завещании преосвященный просил похоронить его в схимнической одежде поверх архиерейского облачения. Митрополит Филарет имел степень доктора богословия, был почетным членом Императорской Академии наук, всех российских духовных академий, Киевского, Московского и Казанского университетов, многих научных обществ. Проповеди его отличались подлинным душевным теплом.
Скончался 21 декабря 1857 г., погребен в Киево-Печерской лавре. Митрополит Филарет завещал пастырям «проповедовать ревностно слово Божие», а всем верующим – «первее всего и паче всего хранить твердо и непоколебимо святую Православную веру, яко камень краеугольный». За подвижническую жизнь был прозван Филаретом Благочестивым. По преставлении прославлен чудесами. Память его совершается в день Всех Святых в земле Российской просиявших и в Соборе Сибирских святых.
Архимандрит Афанасий (Телятев, Телятьев, Телятинский) (1819–1821)
Выпускник Александро-Невской Духовной семинарии (1794), где его сокурсником был архимандрит Иона (Павинский Иван Дмитриевич). С 1794 г. учитель в Тамбовской Духовной семинарии, в 1799 г. рукоположен во священника; в 1810 г. принял монашество в Александро-Невской лавре и 10 апреля назначен архимандритом Елеазаровского монастыря Псковской епархии и ректором Псковской Духовной семинарии.
В 1819 г. вызван в Москву на чреду служения и 30 октября того же года назначен настоятелем Воскресенского монастыря.
5 сентября 1820 г. митрополитом Новгородским Серафимом было совершено освящение придела во имя блгв. кн. Александра Невского на хорах Воскресенского собора, рядом с одноименным престолом 1807 г. В приделе находилась необыкновенная серебряная дарохранительница в виде пещеры Гроба Господня, символически соединенной с горой Голгофой и увенчанной Голгофским Крестом.
10 мая 1821 г. архимандрит Афанасий хиротонисан во епископа Дмитровского, викария Московской епархии. Был вице-президентом Московского отделения российского Библейского Общества; его речь, произнесенная в 1822 г. в годичном собрании Общества, была напечатана. 5 августа 1824 г. переведен на Тамбовскую кафедру и в этом же году потребовал от светских властей, опираясь на повеления Императора Александра I, чтобы помещики в воскресные и праздничные дни не обременяли своих крестьян барщиной. Много служил, устроил великолепный архиерейский хор по примеру санкт-петербургских хоров. Запрашивал настоятеля Санаксарского монастыря иеромонаха Нафанаила о благотворителе обители адмирале Федоре Ушакове и 3 января 1829 г. получил письмо с подробным описанием его последних лет жизни и кончины 2 октября 1817 г.740 С 1829 г. епископ Новочеркасский и Георгиевский, первый архиерей новоучрежденной епархии, 11 января 1830 г. возведен в сан архиепископа. Он стремился поднять образовательный уровень духовенства; открыл епархиальное попечительство о бедных духовного звания. Ко времени его управления относятся явление чудотворной иконы Божией Матери Акасайской (1830) и первые крестные ходы с ней; в 1832 г. по распоряжению преосвященного Афанасия икона была перенесена из Троицкой церкви станицы Аксайской в Вознесенский кафедральный собор г. Новочеркасска, столицы войска Донского. Ему пришлось заниматься введением в действие «Положения об управлении войском Донским» (1836) в части, касавшейся духовенства «казачьего и иногороднего».
Архиепископ Афанасий состоял в переписке с митрополитом Филаретом (Дроздовым).
17 октября 1842 г., в связи с потерей зрения, уволен на покой в Трегуляев Предтеченский монастырь близ Тамбова, где и скончался 7 мая 1847 г.; погребен у южной стены Предтеченского храма741.
Архимандрит Аполлос II (Алексеевский) (1821–1837)
Образование получил в Новгород-Северской, Черниговской и Александро-Невской семинариях. В 1805 г. из преподавателей Тихвинского училища возведен в сан архимандрита Пекинского Сретенского монастыря и направлен в Китайскую миссию, но, не доехав до Пекина, остался в Иркутске, где с 1807 г. стал преподавателем в Иркутской семинарии, с 1808 г. – настоятелем Иркутского Вознесенского монастыря, а с 1811 г. еще и ректором семинарии. Его деятельность по обновлению Иркутского монастыря привлекла внимание духовного начальства, и он был назначен настоятелем Ярославского Толгского монастыря и ректором ярославских училищ. В 1816 г. переведен в Москву, сначала настоятелем Знаменского монастыря и ректором Заиконоспасского духовного училища, в 1817 г. – настоятелем Богоявленского монастыря.
Назначен в Воскресенский монастырь 7 марта 1821 г.
30 мая 1821 г. был освящен придел во имя Сошествия Святого Духа на апостолов в северной галерее Воскресенского собора, к востоку от церкви равноап. Марии Магдалины, устроенный иждивением тайного советника А. Д. Карпова и его супруги, к этому времени уже погребенных на монастырском кладбище.
В 1824 г. произведен ремонт придела Зачатия св. прав. Анны в Воскресенском соборе; в 1825 г. идет поновление придела во имя иконы Божией Матери «Утоли моя печали» в земляной церкви; в 1826 г. поновляется иконостас надвратной церкви Входа Господня в Иерусалим, киот иконы Божией Матери «Троеручицы».
В 1826 г. издано составленное архимандритом Аполлосом «Начертание жития и деяний Патриарха Никона».
В 1835 г. шли ремонтные работы на церкви Трех Святителей, а также на башнях ограды, кельях, гостином дворе и хозяйственных постройках; в 1837 г. исправляется решетчатая ограда около пустыни Патриарха Никона, живописцем И. И. Строевым выполнены живописные картины в Святых вратах.
Вследствие предложений митрополита Московского Филарета от 11 мая 1831 г. и от 28 апреля 1833 г. художник 14 класса Ф. Г. Солнцев, с 1830 г. по заданию Императорской Академии художеств совершавший поездки по старинным русским городам и монастырям с целью фиксации исторических и художественных памятников, получил разрешение Московской Синодальной Конторы «для снятия рисунков с отечественных древностей, имеющихся в Патриаршей ризнице, соборных, приходских церквах и монастырях, как в Москве, так и в Московской Епархии находящихся»742. В Новом Иерусалиме он рисовал предметы, связанные с личностью Патриарха Никона и его пребыванием в монастыре: сделал копию парсуны «Патриарх Никон с братией Воскресенского монастыря», зарисовал принадлежавшие Патриарху четки из черного янтаря, черный клобук с изображением шитого жемчугом херувима, деревянную трость с металлическим наконечником, каменный брусок в оправе с драгоценными камнями, шляпу, сапог, туфли, а также кресло, стол и четки из белого коралла. Эти рисунки, переведенные в хромолитографии, были опубликованы в издании «Древности Российского государства» (1849–1853)743.
Летом 1832 г. Ново-Иерусалимский монастырь посетил А. Н. Муравьев, только недавно вернувшийся из своей поездки в Святую Землю и опубликовавший «Описание» этого путешествия, имевшего ошеломительный успех. Весной 1835 г. он вновь посетил Новый Иерусалим, и описание этой поездки вошло в первую часть изданного им «Путешествия по Святым местам Русским».
В 1834 г. из монастырской библиотеки передан в Синодальную библиотеку Изборник князя Святослава 1073 г.
В 1835 г. архимандрит Аполлос благословил выгравировать на медной вызолоченной доске текст рескрипта великого князя Николая Павловича об устроении в Ново-Иерусалимском монастыре обетного престола во имя св. Александра Невского. В 1836 г. вышло второе издание книги «Начертание жития и деяний Патриарха Никона».
При архимандрите Аполлосе Елеонская часовня внутри и снаружи была покрыта стенописью на библейские темы, сюжеты которой он сам и разработал. В дверных откосах были изображения персоны царя Алексея Михайловича – в правом и Патриарха Никона – в левом.
19 февраля 1837 г. архимандрит Аполлос был переведен в Новоспасский монастырь и «привел в цветущее состояние сей достопамятный монастырь не только возобновле нием прежних его зданий, но и разнообразным украшением церквей, сооружением новых приделов»744. В то же время он был благочинным монастырей и ректором московских училищ. С 1851 г. жил на покое в Спасо-Яковлевском монастыре в Ростове. В 1854 г. пожертвовал в монастырь свое собрание икон и картин, среди которых было большое количество портретов, в том числе портреты десяти российских патриархов745. Скончался в 1859 г.
В 1839, 1845, 1852, 1859 гг. было переиздано «Начертание жития и деяний Патриарха Никона» архимандрита Аполлоса; им также написаны и изданы: «Софийский Новгородский собор» (1847), «Всероссийские патриархи» (1848), «Собрание поучительных слов» (1850).
Архимандрит Арсений (Нагибин) (1837–1843)
Настоятельское служение начал в серпуховском Высоцком Богородичном монастыре, будучи определен туда 27 июня 1827 г. из синодальных ризничих; на следующий год переведен в Москву в Златоустовский монастырь и почти сразу переведен в Богоявленский.
19 февраля 1837 г. назначен в Воскресенский монастырь.
30 июля 1837 г. Воскресенский монастырь посетил наследник цесаревич Александр Николаевич, путешествовавший по России в сопровождении В. А. Жуковского, сопутствовавший им при осмотре московской святыни А. Н. Муравьев рассказывал о сходстве нового храма Воскресения с древним его образцом и обратил внимание цесаревича на «чрезвычайное убожество самой часовни Святого Гроба, которая будучи раззолочена снаружи, внутри была лишена всяких украшений, и голые стены производили весьма неприятное впечатление, при той мысли, что это подобие величайшей в мире святыни»746. Цесаревич сейчас же предложил украсить на свой счет мрамором всю внутренность священной часовни и прислать в нее по одной серебряной лампаде от каждой особы Царствующего дома, и еще одну – к образу великого князя Александра Невского в приделе св. блгв. кн. Александра Невского, устроенном на хорах Воскресенского собора в честь его рождения августейшим его родителем Императором Николаем Павловичем.
В 1838 г. живописцем Иваном Строевым поновлялись иконы в Голгофской церкви Воскресенского собора.
В 1838 г. Синодом было решено перевести архимандрита Арсения «за старостью лет и по слабому управлению» настоятелем в Голутвин Богоявленский монастырь, при этом было запрошено мнение митрополита Московского Филарета как епархиального архиерея. Владыка отвечал 10 августа, что готов принять волю Святейшего Синода «с послушанием и любовью», но при этом просил не считать его подавшим голос на сие перемещение. «Мне трудно вообразить сего старца, всегда честнаго, столь долго служившаго без малейшаго неблагоприятнаго замечания, низходящим теперь не только из 1-го класса монастырей во 2-й, но и ниже того места, которое занимал он прежде в Москве во второклассном монастыре». 22 августа он снова писал, что примет с послушанием волю Святейшего Синода и архимандрита Арсения примет с миром, «потому что он в Московской епархии всегда служил честно. Но признаюсь, что жаль увидеть его низвергаемым. Есть ли бы можно было осмелиться просить Святейший Синод подождать случая перевести его с меньшею неприятностию, я просил бы». Мнение преосвященного Филарета было уважено, и архимандрит Арсений остался в Воскресенском монастыре747.
К 10 августа 1839 «неутомимою ревностию и неусыпным тщанием» митрополита Филарета были закончены работы по благоукрашению часовни Гроба Господня. В этот же день Преосвященный Филарет прибыл в обитель, осмотрел устройство Гроба Господня и, найдя его «во всем сообразным с благочестивым желанием Его Императорского Высочества», на следующий день во время Божественной литургии совершил его освящение в сослужении настоятеля монастыря и духовенства748.
19 августа 1839 г. осмотреть вновь украшенный Гроб Господень заехал по пути в Саввин монастырь великий князь Михаил Павлович. При этом он послал вперед себя адъютанта предупредить, чтобы его встречали в соборе «без всякой службы». Он был встречен наместником с братией, поскольку архимандрит Арсений был болен и не мог выходить из кельи. Великий князь по выходе из Кувуклии осмотрел придельные храмы, подземную церковь, Голгофу, хоры, затем поклонился гробу Патриарха Никона и вышел из собора749.
В 1839–1840 гг. монастырским живописцем И. И. Строевым был расписан «Евангельскими историями и притчами» теплый храм Рождества Христова.
26 августа 1840 г. в монастырь приезжал Звенигородский уездный землемер Дьяков с «депутатом с духовной стороны» пресвитером Успенского собора Семеном (Самсоном) Стефановым для исправления планов трех монастырских рощ, именуемых Фавор, Ермон и Сад Уриин. Обход границ не обнаружил разницы с планом, составленным прежде Звенигородским уездным землемером Соколовым750.
После совершенного в августе 1839 г. путешествия Императора Николая Павловича с наследником Александром Николаевичем по старому тракту из Клина в Бородино через Воскресенск751 было решено проложить новую дорогу, для чего учреждена дорожная по Московской губернии комиссия. 27 сентября 1840 г. к архимандриту Арсению обратилась Звенигородская уездная дорожная комиссия с просьбой дать письменный отзыв о возможности «во уважение общей пользы уступить отходящее под вновь предположенную дорогу из Воскресенска в Клин» 1549 кв. сажен монастырской земли при деревне Трусово, или назвать цену, которую желательно получить за эту землю. Архимандрит представил решение на благорассмотрение Синодальной конторы, высказав мнение, что земля может быть уступлена без вознаграждения. Указом из конторы от 19 октября было дано согласие на уступку земли без всякого вознаграждения752.
1 декабря 1840 г. архимандрит Арсений совершил в Воскресенском монастыре погребение «по церковному чиноположению» сенатора тайного советника А. Ф. Малиновского, скончавшегося в Москве 26 ноября753. Малиновский славился своей любовью к древностям и постоянным интересом к историческим документам, в 1815 г. он был начальником Комиссии для изыскания древностей государственных грамот и договоров. Будучи начальником Московского главного архива Министерства иностранных дел, он расположился душой к А. Н. Муравьеву, который в то время занимался историей патриархов и весной 1835 г. обратился к нему по поводу статейного списка о пришествии Цареградского Патриарха Иеремии в Россию. Впоследствии Малиновский завещал Муравьеву все то, что было им собрано о древностях московских, желая, чтобы тот их дополнил и издал в свет. Но Муравьев после смерти Малиновского отказался от завещанных тетрадей в пользу родственников Алексея Федоровича754.
Архимандрит Арсений скончался 27 апреля 1843 г. и погребен на южной стороне братского кладбища, близ земляной церкви свв. Константина и Елены.
Епископ Томский и Енисейский Агапит (Вознесенский) (1843–1851)
Выпускник Санкт-Петербургской академии (1819), профессор, затем – инспектор (1823) Полтавской семинарии; с 1826 г. ректор Тульской семинарии и архимандрит Белевского Спасо-Преображенского монастыря, с 1829 г. ректор Астраханской семинарии и настоятель Астраханского Спасо-Преображенского монастыря, с сентября 1831 г. ректор Тамбовской семинарии, через полгода переведен в Черниговскую семинарию с настоятельством в Черниговском Елецком Успенском монастыре.
12 августа 1834 г. хиротонисан во епископа Томского и Енисейского, став первым архиереем новоучрежденной Томской епархии. К крестовой церкви томского архиерейского дома была приписана Иверская часовня с местночтимой Иверской иконой Божией Матери, располагавшаяся на Богоявленской площади (копия московской Иверской часовни).
10 июня 1841 г. согласно собственному прошению епископ Агапит был уволен на покой с назначением членом Московской Синодальной конторы. Причиной увольнения 48-летнего архиерея стали, видимо, жалобы из епархии, где строгость архипастыря, который требовал неукоснительного и точного исполнения своих обязанностей, а от вступающих в брак – знания заповедей, посчитали притеснением755. Из-за житейской неопытности он часто действовал, не сообразуясь с обстоятельствами. По отзыву епископа Камчатского Иннокентия (Вениаминова), преосвященный Агапит «был ревнитель совершенной правды и законов, особенно христианского», но не учитывал, что «ректура и епархия – вещи совершенно разные, почти то же, что теория и практика»756.
18 декабря 1843 г. епископ Агапит был назначен настоятелем Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря. При нем в обители велись ремонтно-реставрационные работы под руководством архитектора К. А. Тона. В 1843 г. епископом Агапитом было начато дело о возвращении монастырю захваченной городом Воскресенском монастырской земли, которое тянулось до 1846 г., когда и вовсе прекратилось, «верно вследствие бывших тогда перемен в административных и судебных учреждениях»757.
В 1845 г. сооружена деревянная часовня над источником, именуемым «Силоамская купель», у северо-западного подножия монастырского холма.
8 сентября 1846 г. епископ Агапит освятил придел Рождества Пресвятой Богородицы в Воскресенском соборе, устроенный к северу от главного алтаря по проекту архитектора К. А. Тона «усердием Государя наследника цесаревича Александра Николаевича в благодарение Господу Богу за рождение первенца сына» великого князя Николая Александровича, внука Императора Николая I. Проект иконостаса утверждал сам Император. Епископ Агапит хотел, чтобы освящение совершил митрополит Московский Филарет, и ездил к нему с приглашением, но Преосвященный был болен758. Слово, сказанное преосвященным Агапитом по случаю освящения, было в этом же году напечатано.
19 октября 1846 г. освящена домовая церковь во имя прп. Иоанна Рыльского при настоятельских покоях, устроенная иждивением семьи полковника И. П. Жеребцова и семьи его брата Александра Петровича.
В 1847 г. по его благословению московским цеховым художником В. А. Генкиным была расписана священными изображениями Вифлеемская пещера в первом этаже храма Рождества Христова. 22 июля 1847 г. «немало походил по Новому Иерусалиму» митрополит Московский Филарет, заехавший в обитель на обратном пути из семидневного путешествия, во время которого он был на перенесении мощей прп. Саввы, освятил две церкви в Иосифо-Волоцком монастыре759.
В 1847 г. завершена постройка двухэтажной монастырской гостиницы, каменной в первом этаже и деревянной во втором.
В день тезоименитства, 1 июня 1849 г., послушник иеромонах Виктор посвятил преосвященному Агапиту стихотворение, в посвящении называя его епископом Новоиерусалимским760.
В 1849 г. от Московского городского мещанского общества, «по особому усердию к столь великолепному знаменитому храму Божию и в признательность к столь же великому основателю храма сего», на гробницу Патриарха Никона был устроен бронзовый посеребренный оклад с накладным крестом на верхней стороне и с чеканным изображением кончины Святейшего – на боковой.
В 1850 г. епископ Агапит, «никого не предварив», вырубил великолепную аллею старых берез в четыре ряда, времен Императрицы Елизаветы, тянувшуюся на расстоянии версты от святых ворот обители до Елеонской часовни, где совершались крестные ходы и отдыхали в тени богомольцы. Землю около аллеи «искали» присвоить себе горожане города Воскресенска, устроившие себе здесь дачи на древнем монастырском участке, и епископу Агапиту «пришла дикая мысль срубить эту аллею, чтобы не досталась горожанам, и воспользоваться дровами. Но и дровами воспользоваться не удалось – их отняли местные жители, а окрестность обители оказалась обезображенной. Возмущенный таким вандализмом, А. Н. Муравьев жаловался митрополиту Московскому Филарету и 6 ноября 1850 г. получил ответ: «Преосвященный Агапит срубление березовой аллеи оправдывает тем, что березы состарились. А чтобы его послушники не благочинно вели себя перед монастырем, тому не верит, а думает, что если что-нибудь случится подобно слышанному, то от чужих, пришедших в монастырь. Но будьте терпеливы. Берез не воскресишь, и посадить новые не вдруг можно, потому что граждане посада почитают землю своею, и о сем идет дело в суде. Для послушников, надеюсь, скоро будет новый благочинный.
Жаль Воскресенского храма. Благотворитель кроет купол, говорят, бракованным железом, руками очень немногих работников. По сему купол к осенним дождям и снегу не докрыт: вода идет в церковь и вместо вырезанной из стропил гнили может тотчас завести новую»761.
Епископ Агапит позволил для некоего вкладчика вырыть могилы в погребе под царскими покоями, из этого развернулось дело о могилах при его преемнике762.
26 марта 1851 г. переведен в Новоспасский монастырь в Москве, 31 июля 1852 г. – в Донской монастырь, где и скончался 1 января 1854 г.
В личной жизни епископ Агапит был строгий монах. Рукополагавший его во епископа митрополит Московский Филарет (Дроздов) уважал его как человека благочестивой жизни и оказывал ему поддержку в трудных обстоятельствах. В своем служении, по отзывам современников, он был ревнителем совершенной правды и закона, был неспособен угождать людям, потворствовать их слабостям, в простом же человеческом общении был добр и дружелюбен. Однако при всей высоте монашеских достоинств епископ Агапит, видимо, не отличался большой деловитостью и энергичностью763.
Архимандрит Мелхиседек III (Сокольников) (1851–1853)
Архимандрит Мелхиседек начинал свою иноческую жизнь во Введенской Оптиной пустыни. С 1808 г. строитель Белобережской Брянской пустыни, с 1811 г. – Раненбургской Петропавловской пустыни; с 1813 г. архимандрит Рязанского Троицкого монастыря, в 1816 г. переведен в Черниговский Рыхловский Пустынно-Николаевский, в 1821 г. – в Московский Симонов монастырь, которым управлял 30 лет, сохраняя духовные связи с Оптиной и, случалось, направлял туда желающих поступить к нему в Симонов, среди них и родного своего брата. Он построил в обители новые церкви и возобновил древние, завел стройное и умилительное пение, издал написанное под его влиянием В. В. Пассеком «Историческое описание Московского Симонова монастыря» с приложением исчисления посещений августейших особ, приветственных речей архимандрита Мелхиседека и его подвигов во время холеры 1830 г.
В октябре 1842 г. архимандрит Мелхиседек предложил захоронить в своем монастыре В. В. Пассека, которого он знал лично и уважал за его исторические изыскания. Со всей братией он вышел к монастырским воротам «встретить тихим, грустным пением бедный гроб страдальца и проводить до могилы». Друг Пассека А. И. Герцен писал о симоновском архимандрите: «Мелхиседек был некогда простой плотник и отчаянный раскольник, потом обратился к православию, пошел в монахи, сделался игуменом и, наконец, архимандритом. При этом он остался плотником, то есть не потерял ни сердца, ни широких плеч, ни красного здорового лица»764.
Настоятельствуя в Симоновом монастыре, архимандрит Мелхиседек «не раз огорчал своими самовольными поступками, пользуясь, как ставропигиальный, своею независимостью», митрополита Московского Филарета, но тот был великодушен к нему. Синод поручил митрополиту Филарету «иметь строгий надзор за действиями архимандрита, которого он старался, однако всячески защищать, принимая многое на свою ответственность»765.
26 марта 1851 г. определен настоятелем Воскресенского монастыря. Хотя, по словам А. Н. Муравьева, архимандрит Мелхиседек не мог равнодушно перенести перемены своей судьбы, но с ревностью, однако, принялся за новую свою обитель766. По его инициативе, интерьеру храма Рождества Христова, перепланированному в 1810 г., был возвращен первоначальный вид.
При нем в 1852 г. в Воскресенский монастырь Московским мещанским обществом была пожертвована икона Божией Матери Иверская, список с московской чудотворной иконы, облаченный в ее древний оклад.
Архимандрит Мелхиседек вошел в конфликт с неким вкладчиком, для которого его предшественником епископом Агапитом были вырыты могилы в погребе под царскими покоями, протестуя против этого решения бывшего настоятеля. Вкладчик отказался от соглашения с архимандритом и обратился в Синодальную контору с прошением «буквально сохранить право, данное ему как вкладчику». Архимандрит Мелхиседек написал объяснение, что могиле быть неприлично в зданиях, состоящих в связи с дворцом. Преосвященный Агапит был вызван для объяснений в присутствие Синодальной конторы, где с ним говорил митрополит Филарет, но он объявил, что архимандрит пишет неправду, а митрополит его обижает. Между тем на архимандрита и некоторых из братии был сделан донос, которым «по порядку нельзя было пренебречь, а также и по предосторожности». Преосвященный Филарет принимал участие в скорби Мелхиседека, старался его успокоить и предостеречь, в связи с этим он писал А. Н. Муравьеву, огорченному происходящим: «Пишете, что не можете быть равнодушны к Новому Иерусалиму. В этом вы правы, однако не будьте безпокойны, и не тревожтесь, есть ли не все будет по вашему… Жаль, что некоторые люди, зная, что живут во дни недоверия, позволяют себе некоторые небрежности, которых в такое время надлежало бы остеречься, хотя в них нет существеннаго зла. Новоиерусалимскому настоятелю надобно быть великодушну и утверждаться на том, что есть ли Бог не предаст, зверь не съест; а есть ли Богу угодно попустить на человека испытание, то он может сотворить и избытие, а не наше нетерпение или бегство»767.
А. Н. Муравьеву архимандрит Мелхиседек отдал, по его просьбе, часть схимы Патриарха Никона, которую митрополит Филарет затем взял для образца собственной схимы.
Архимандрит Мелхиседек скончался 6 января 1853 г. и был погребен в нижнем этаже храма Рождества Христова, в приделе Мучеников 14 000 младенцев, от Ирода в Вифлееме избиенных, отпевание совершил преосвященный Агапит768. Над местом погребения была установлена мраморная плита с пространной эпитафией. В 1935 г. его могила была вскрыта, о чем был составлен соответствующий акт.
Архимандрит Мелхиседек не получил академического образования, но чтением приобрел энциклопедические знания. Плодами его ревности к проповеданию слова Божия были напечатанные в 1843, 1845 и 1853 гг. слова и приветственные речи, произнесенные им при разных торжественных случаях. Он оставил по себе добрую память во многих обителях, которые он как строитель и настоятель благоустроил.
В датах его биографии есть разночтение. Устоявшееся представление состоит в том, что архимандрит Мелхиседек вступил в управление Воскресенским монастырем в 1851 г., настоятельствовал менее года, умер 6 января 1852 г.; архимандрит Климент назначен в Воскресенский монастырь в 1852 г. (см.: Строев П. Списки иерархов... С. 148; Письма Филарета митрополита Московского и Коломенского к высочайшим особам и разным другим лицам, собранные и изданные архиепископом Тверским и Кашинским Саввою. Тверь, 1888. С. 32). Но в письме митрополита Филарета от 12 января 1853 г. (Письма митрополита Московского Филарета к А.Н.М. С. 408) и в эпитафии над местом погребения архимандрита Мелхиседека, текст которой сохранился в монастырской описи 1875 г. (РГАДА. Ф. 1625. Оп. 1. Д. 32. Л. 307об.–308), указана дата смерти 6 января 1853 г. Эту дату мы и приняли за достоверную.
В историко-семиотическом исследовании, посвященном некрополю Ново-Иерусалимского монастыря (см.: Зеленская Г. М., Святославский А.В. Некрополь Нового Иерусалима. М., 2006. На разных страницах книги присутствуют обе даты (с. 122 – 6 января 1852 г.; с. 287, 386 – 6 января 1853 г.).
Архимандрит Климент (Можаров, Мажаров) (1853–1856)
Выпускник Санкт-Петербургский Духовной академии (1831), в октябре 1832 г. причислен к соборным иеромонахам Александро-Невской лавры; с 1836 г. архимандрит, член академического окружного правления, член Санкт-Петербургского духовного цензурного комитета. С 1839 г. ректор Орловской семинарии и настоятель Петропавловского, под Мценском, монастыря, член Орловской консистории. В мае 1843 г. переведен ректором в Казанскую духовную семинарию и через год назначен настоятелем Казанского Спасо-Преображенского монастыря. 24 декабря 1850 г. определен архимандритом Елецкого Успенского монастыря и ректором Черниговской Духовной семинарии, 31 марта 1852 г. переведен в Тверскую семинарию и назначен настоятелем Тверского Отроча монастыря.
В марта 1853 г. архимандрит Климент переведен в Воскресенский монастырь с увольнением, по болезни, от духовно-учебной службы769. По поводу назначения нового настоятеля в Новый Иерусалим митрополит Московский Филарет писал 18 февраля 1853 г.: «Наместника Невской Лавры (архимандрита Вениамина, бывшего начальника Пекинской миссии) иметь сослуживцем я мог бы с удовольствием, есть ли бы все устроилось, Но я не имею, что предложить ему теперь. Для чего не назначили его в Воскресенский? Климента здесь не ожидали. Посмотрим, что будет. Но кажется, в нескольких епархиях преосвященные рекомендовали его от себя, а не для себя»770.
В 50-х гг. XIX в. под наблюдением архитектора К. А. Тона перестраивался храм Рождества Христова, в 1853 г. на средства П. Г. Цурикова в нем был устроен новый иконостас. В 1854 г. усердием того же Цурикова устроен новый оклад для чудотворной иконы Божией Матери «Троеручица», и икона в великолепном деревянном киоте помещена у западного входа в придел Усекновения главы Иоанна Предтечи. Прежняя риза с иконы, пожалованная Императрицей Елизаветой Петровной в 1756 г., украсила копию «Троеручицы», которую поставили у южного клироса в храме Рождества Христова.
В 1855 г. готовились к торжественной церемонии коронации Императора Александра II. Императрица во время пребывания в Москве неоднократно упоминала, что «ей угодно было бы посетить Воскресенский монастырь, если бы достало времени и если бы погода не затруднила неустройство дороги». В связи с тем, что после коронации «обыкновенно бывает Высочайшее посещение сего монастыря», митрополит Московский Филарет обратил внимание Синода на то, «кто примет сие посещение. Нынешний воскресенский архимандрит, – писал он 21 октября 1855 г. А. И. Карасевскому, исполнявшему обязанности обер-прокурора Святейшего Синода, – имеет странности. Однажды на царский день он написал проповедь, дав ей содержание наиболее политическое и недовольно овладев предметом. Обращаясь с ставропигиальными не так, как с епархиальными, я сказал ему, что я не взялся бы говорить о таком предмете и не стал бы говорить такой проповеди; и что для нас безопаснее и надежнее, так и сообразнее с нашим долгом работать на своем поле, говорить о вере и нравственности. Он не обратил на сие внимания, говорил проповедь, и меня осуждали за то, что я допустил. Может случиться, что он вздумает приветствовать Государя Императора речью с таким же успехом. О материальном устройстве монастыря он имеет попечение, но братиею несчастлив, и братия им, кажется, также. Один купец с больною женою ездил за ним всюду, где он бывает на службе, поставляя причиною сего то, что архимандрит оказывает больной помощь молитвою. Но кроме того, что не все хорошо поймут сие, знакомство сие, как говорят, имеет то неудобство, что архимандрит, возвращаясь от купца после вечерняго чая, действует в монастыре совсем не так разсудительно и спокойно, как утром. У него замечаются странности и в богослужении. Один богомолец разсказывал, что он, осматривая церковь Воскресенского монастыря, встретил в монахах сперва грубость, а потом за деньги лесть, и, будучи соблазнен сим, уехал, не дождавшись литургии. Делом пользы и предосторожности было бы, если бы Св. Синод благоволил дать Воскресенскому монастырю настоятеля, со вниманием к потребностям места избранного»771.
В июле 1856 г. от архимандрита Климента «еще было приключение»: 1 июля, в день рождения Императрицы Александры Феодоровны, по назначению синодальной конторы он должен был при архиерейском служении произнести слово, но не явился, «не предварил о сем, почему не исполнил предписанного. По нужде слово произнес молодой священник, вместо того, что в такие важные дни обыкновенно проповедуют старшие из духовенства»772.
Между тем в Синоде приняли во внимание мнение митрополита Филарета и решили сменить настоятеля в Воскресенском монастыре. Карасевский уведомил преосвященного, что предполагается перевести архимандрита Климента в Чолнский монастырь. Владыка отвечал 17 июля 1856 г.: «Чолнский монастырь мне неизвестен. Архимандриту Клименту, вероятно, он очень не понравится потому, что третьеклассный, ибо о. Климент и в Воскресенский монастырь назначение свое почитал унижением для себя. По склонности его к странностям, увеличенное огорчение не вызвало бы какой неприятной странности.
Думаю, легче было бы для него перемещение в Ростовский Борисоглебский монастырь с прежнею степенью, с перемещением архимандрита сего монастыря Амфилохия на его место. Сего я не знаю, но имею о нем свидетельства как о человеке способном и благонадежном. Впрочем, я только представляю соображения, а как угодно будет его высокопреосвященству распорядиться, так да и будет.
Одно еще присовокупляю: если должно произойти перемещение, то не надобно медлить, чтобы сдача и прием монастыря совершились благовременно, прежде Высочайшаго коронования»773.
Перемещение настоятелей совершилось в соответствии с предложением владыки: настоятелем Воскресенского монастыря был поставлен архимандрит Амфилохий (Казанский-Сергиевский), а архимандрит Климент переведен на его место – в Ростовский Борисоглебский монастырь774. В 1856 г. было издан сборник проповедей архимандрита Климента: «Год в Новом Иерусалиме, или Собрание поучений новоиерусалимского архимандрита Климента, говоренных в продолжение 1855 г.».
С 1857 или 1858 г. архимандрит Климент жил на покое в Казанском Спасо-Преображенском монастыре, где и скончался 20 сентября 1863 г. и был погребен на монастырском кладбище775.
Архимандрит Амфилохий (Казанский-Сергиевский) (1856–1860)
Выпускник Московской Духовной академии (1844), определен смотрителем Суздальского Духовного училища. Преподавал греческий язык, географию и нотное пение, занимался церковной археологией и палеографией. В 1852 г. возведен в сан архимандрита и назначен смотрителем духовных училищ Ростова и настоятелем Борисоглебского монастыря на реке Устье. Сумел создать в подведомственных ему училищах простую, задушевную атмосферу и оставил по себе самые теплые, отрадные, «родные» воспоминания776.
Настоятелем Воскресенского монастыря определен 28 июля 1856 г.777
В 1858 г. архимандрит Амфилохий пытался отстоять интересы монастыря, когда Воскресенская городская дума сдавала с торгов под застройку в вечное и потомственное владение участок спорной с монастырем земли напротив странноприимного дома. Шла переписка с Синодальной конторой, но не помогли и протесты прокурора Московской синодальной конторы московскому военному генерал-губернатору778.
Пребывая в Воскресенском монастыре, архимандрит Амфилохий много времени уделял работе в монастырской библиотеке, хорошо изучил ее; в 1859 г. в Санкт-Петербурге было издано составленное им «Описание рукописей Воскресенского ставропигиального первоклассного монастыря, именуемого Новый Иерусалим, писанных на пергамене и бумаге».
В мае 1860 г. по состоянию здоровья архимандрит Амфилохий был отставлен от настоятельства и переведен в братию Московского Покровского миссионерского монастыря. В это время им изданы подготовленные в монастыре Нового Иерусалима: «Дополнения к церковно-славянскому словарю А. Х. Востокова: Из Пандекта Антиохова XI века: из Ирмолоя XII–XIII веков Воскресенской Новоиерусалимской библиотеки» (1861), «Выписка из подробной описи имущества Воскресенского Новоиерусалимского монастыря 1680 года» (1862). В 1863 г. удостоено Демидовской премии его «Исследование о Пандекте Антиоха XI века, находящемся в Воскресенской Новоиерусалимской библиотеке» (издано в 1880 г.).
В 1870 г. по ходатайству митрополита Московского Иннокентия (Вениаминова) назначен настоятелем Свято-Данилова монастыря в Москве. Пребывая в Даниловом монастыре, занимался изучением его истории и древностей, им написаны и изданы сочинения: «Древние иконы в Московском Даниловом монастыре» (1871), «О древних иконах в Московском Даниловом монастыре: св. Апостолов Петра и Павла, Владимирской Божией Матери с Акафистом по полям, и семи Вселенских Соборов» (1871), «Надгробные памятники иноверцев» (1871), «Летописные и другие древние сказания о святом благоверном великом князе Данииле» (1873). Также он издает труды о Ново-Иерусалимской библиотеке: «Описание Воскресенской Новоиерусалимской библиотеки: С приложением снимков со всех пергаменных рукописей и некоторых, писанных на бумаге» (1875; 1876) – удостоено Уваровской премии, «Описание Юрьевского Евангелия 1118–1128 гг. Воскресенской Новоиерусалимской библиотеки» (1877), «Словарь из Пандекта Антиоха XI века Воскресенской Новоиерусалимской библиотеки» (1880).
12 мая 1883 г. архимандрит Амфилохий принимал в Даниловом монастыре Императора Александра III и Императрицу Марию Феодоровну с их августейшим семейством, посещавшим московские монастыри накануне коронования в Успенском соборе Московского Кремля. В 1885 г. он приступил к возобновлению соборного храма обители: фрески на внутренних стенах и сводах собора были частично поновлены, частично написаны вновь по указанным им рисункам, оригиналом для которых послужили заставицы и украшения в Евангелиях, Псалтырях и рукописях IX–XVII вв., им изданных.
1 мая 1888 г. хиротонисан во епископа Угличского и назначен викарием Ярославской епархии и хранителем древностей Ростовского Кремля.
Скончался 20 июля 1893 г. в Ростове и погребен в церкви прп. Сергия Радонежского, на первом этаже Спасского храма Спасо-Яковлевского монастыря.
Настоятельство в Воскресенском монастыре и занятия в монастырской библиотеке, начало которой положил основатель обители Патриарх Никон, определили направление деятельности преосвященного Амфилохия как ученого.
Живя в Москве, архимандрит Амфилохий занимался изучением и изданием древнеславянских и греческих рукописей, хранившихся в Синодальной библиотеке и в Румянцевском музее. В 1863 г. он был избран членом-корреспондентом Академии наук по отделению греческой и славянской палеографии, в 1891 г. – почетным членом Московской Духовной академии «во уважение его ученых заслуг по изданию памятников древней церковной письменности». Преосвященный Амфилохий состоял членом почти всех столичных и провинциальных исторических и археологических обществ, являлся членом Общества любителей духовного просвещения и цензором всех изданий Общества, а также председателем отделения иконоведения при этом Обществе. Его имя было известно не только в России, но и за ее пределами. «Нельзя не удивляться громадному трудолюбию, настойчивости и упорному терпению неутомимого труженика», – писал о нем биограф. Его печатные труды составляют более семидесяти наименований. Протоиерей Г. Флоровский считал преосвященного Амфилохия скорее собирателем, чем исследователем.
Архимандрит Дионисий (1860–1862)
Назначен настоятелем Воскресенского монастыря 25 мая 1860 г. из настоятелей Задонского Богородицкого монастыря, которым он управлял с 1855 г. Причиной его отставки от управления Задонским монастырем, возможно, стала необходимость обеспечения обновления обители в связи с предполагавшимся открытием мощей святителя Тихона Задонского, поскольку материальное состояние монастыря было неудовлетворительным как для увеличивающегося потока богомольцев, так и умножившейся братии. Архимандритом Димитрием, преемником Дионисия, к совершившемуся 13 августа 1861 г. открытию мощей святителя были отреставрированы храмы и здания монастыря, приготовлены многочисленные помещения для богомольцев.
В 1860 г. иждивением почетного московского гражданина купца И. Д. Чикина сооружены золоченые «иконостасы» (киоты) для икон Божией Матери Иверской и Троеручицы, присланных Патриарху Никону с Афона.
В конце августа 1861 г. Воскресенский монастырь посетили великие князья Александр Александрович, будущий Император Александр III, и Владимир Александрович. «С любопытством рассматривали Великие князья деревянные священные сосуды, принадлежавшие патриарху, и разные драгоценности, хранящиеся в ризнице и библиотеке обители. Осмотрев монастырь во всех подробностях с планом в руках, поехали они в Никонов скит, а обедали в монастырской гостинице простыми щами с кашей, которые до того пришлись по вкусу Александру Александровичу, что он нашел, что таких вкусных щей не умеют готовить на придворной кухне»779.
В 1861 г. была отреставрирована и вставлена в киот за стеклом икона Божией Матери Одигитрии, составленная из 13 кусков кипарисового дерева, которая постоянно сопутствовала Патриарху Никону (находилась в скиту в его моленной келье, а во время погребения Святейшего была перенесена из той кельи и поставлена над его гробом)780.
В 1861 г. Воскресенскому монастырю купцом Солодовниковым была пожертвована небольшая частица камня от Гроба Господня, привезенная им из Иерусалима. Святыня была вложена в небольшой сосуд под стеклом и в таком виде вделана в верхнюю доску подобия Гроба Господня в Воскресенском соборе781.
Во второй половине 1861 г. начались работы по поновлению иконостаса в церкви Рождества Христова на средства воскресенского купца П. Г. Цурикова.
В январе 1862 г. архимандрит Дионисий переведен в Елецкий Троицкий монастырь Орловской епархии, которым управлял до 1867 г.
Епископ Оренбургский и Уральский Антоний (Радонежский) (1862–1866)
Выпускник Московской Духовной академии (1834), преподавал в Нижегородской, затем в Ярославской Духовной семинарии, с 1844 г. бакалавр Казанской Духовной академии, в 1848 г. возведен в сан архимандрита; с 1851 г. ректор Пермской Духовной семинарии, с 1854 г. – Ярославской Духовной семинарии и настоятель Ростовского Богоявленского монастыря.
По поводу его профессорской деятельности историк Казанской Духовной академии проф. Знаменский говорит: «Лекции он писал и отделывал тщательно, даже щеголевато, в несколько сентиментальном и благочестиво-мистическом духе, но особенною талантливостью не отличался, хотя академическое начальство ценило его высоко».
15 июня 1858 г. хиротонисан во епископа Оренбургского и Уфимского. С 1859 г. – епископ Оренбургский и Уральский. Пребывая на Оренбургской кафедре, способствовал распространению просвещения, открывал школы в городах, где прежде не было никаких учебных заведений, достиг успехов в борьбе с расколом.
17 марта 1862 г. отставлен от управления епархией и назначен членом Московской Синодальной конторы и настоятелем Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря. Вскоре по прибытии в обитель преосвященный Антоний озаботился обучением хора и служащих порядкам архиерейского служения, для чего в середине лета в монастырь были командированы синодальный иподиакон и опытный певчий.
В 1862 г. из монастырской библиотеки было передано в Синодальную библиотеку Юрьевское Евангелие начала XII.
4 мая 1863 г. епископу Антонию иеромонахом Павлом, служившим панихиды у гроба Патриарха Никона по просьбе купца Алексея Золотарева, была подана докладная записка об исцелении невестки этого купца Татьяны Орловой после совершения панихиды и возложения на нее вериг Патриарха Никона. 6 сентября 1863 г. епископу Антонию иеромонахом Павлом, служившим 5 и 6 числа Гробу Господню молебны и панихиды у гроба Патриарха Никона по просьбе крестьянина Вологодской губернии Николая Самойлова, была подана докладная записка об исцелении этого крестьянина, страдавшего три года. 23 февраля 1865 г. епископу Антонию иеромонах Павел Вертоградов, служивший панихиды у гроба Патриарха Никона по просьбе иеродиакона Саввина монастыря Иоиля, подал докладную записку о том, что осенью 1864 г. этот Иоиль был исцелен от мучившей его 30 лет болезни после совершения панихиды у гроба Патриарха Никона и помазания маслом от лампады, а 11 января 1865 г. иеромонах Павел служил для иеродиакона Иоиля благодарственный молебен Гробу Господню и панихиду Патриарху Никону. События эти преосвященный Антоний указал занести в книгу о происшествиях. В дальнейшем все случаи исцелений, происходивших после совершения панихид у гроба Патриарха Никона, заносились в эту специальную книгу, и запись удостоверялась подписью монастырских властей.
В 1863 г. начал возводиться придел в юго-восточной части трапезы церкви Рождества Христова на пожертвования рязанской помещицы Анны Дмитриевны Татищевой в память о своем супруге, Александре Татищеве, погребенном в Воскресенском монастыре. Желание благотворительницы о посвящении его в честь блгв. кн. Александра Невского не могло быть исполнено: так как к тому времени обитель имела уже два таких придела, в 1866 г. она просила о посвящении церкви прп. Сергию Радонежскому.
11 мая 1866 г. епископ Антоний был уволен на покой в Тамбовский Трегуляев Предтеченский монастырь. С 1868 г. жил в Темниковском Санаксарском монастыре, с 1870 г. – в Смоленском архиерейском доме, где и скончался 23 декабря 1872 г. Печатный труд епископа Антония: «Иисус Христос на Голгофе, или Семь слов на Кресте» с 1848 по 1890 г. выдержал 10 изданий.
До назначения нового настоятеля Ново-Иерусалимского монастыря его должность исправлял архимандрит Феодосий. На его имя 19 октября 1866 г. пришел указ обратиться вместе с прокурором в Звенигородский уездный суд и выяснить ход дела о захвате городом Воскресенском монастырской земли, но дело, видимо, так и не сдвинулось с места782.
В 1867 г. усердием московского купца И. Д. Чикина возобновлена Голгофская церковь Страстей Господних.
Епископ Якутский Петр (Екатериновский) (1867–1869)
Выпускник Московской Духовной академии (1844), назначен учителем Иркутской Духовной семинарии, с 1855 г. ректор Иркутской, затем Новоархангельской на острове Ситхе Духовной семинарии. 29 марта 1859 г. хиротонисан во епископа Новоархангельского, викария Камчатской епархии, с 1866 г. – епископ Якутский, викарий той же епархии. Помогал архиепископу Камчатскому, Курильскому и Алеутскому Иннокентию (Вениаминову) в управлении американскими приходами. 3 июля 1867 г. уволен на покой по болезни.
С 13 октября 1867 г. назначен членом Московской Синодальной конторы и управляющим Воскресенским Ново-Иерусалимским монастырем.
Епископ Петр поддержал просьбу А. Д. Татищевой об устройстве придела в церкви Рождества Христова, считая его очень уместным для совершения в нем в зимнее время ранней Литургии; в 1867 г. был утвержден проект иконостаса, выполненный архитектором Мейнгардтом, в апреле 1869 г. работы были завершены.
В 1868 г. часть монастырской земли, от странноприимного дома до моста через реку Истру, была уступлена безвозмездно и без отчуждения земли Московскому земству под полотно Волоколамской шоссейной дороги783.
4 апреля 1869 г. епископ Петр был назначен епископом Уфимским и Мензелинским, с 1876 г. – епископом Томским и Семипалатинским. 9 июля 1883 г. вторично уволен на покой, теперь в Оптину пустынь Калужской епархии.
Преосвященный Петр был постоянным членом Комитета по распространению духовно-нравственных книг и духовным писателем. Из его трудов наиболее известны: сочинение «О монашестве», над которым он работал на протяжении многих лет; «Указание пути к спасению» – современники ставили эту книгу в одном ряду с трудами епископа Феофана «Путь к спасению» и «Невидимой бранью» Никодима Святогорца, полагая, что эти книги должны быть настольными книгами пастырей. Им написаны также: «Поучения о вредных следствиях пьянства и распутства», «Наставление и утешение в болезни и в предсмертное время», «Наставление и утешение в скорби», «Поучение о причащении Святых Тайн», «Поучение перед исповедью», «Поучение о покаянии», «Объяснение из книги святого пророка Исаии», «Толкование на двадцать три главы пророка Исаии». Все свои рукописи епископ Петр пожертвовал в пользу Оптиной пустыни.
С 11 февраля 1885 г. управлял московским Заиконоспасским монастырем, с 9 августа того же года – московским Новоспасским. Кротость, нелицемерная любовь к ближнему, духовная мудрость привлекали к нему москвичей, особенно любил его бедный люд, который всегда находил у преосвященного поддержку и помощь. Кроме управления монастырем, он духовно окормлял священников многих московских храмов, обращавшихся к нему за советом, и множество мирян. Скончался 27 мая 1889 г. и погребен в склепе под собором Новоспасского монастыря.
Архимандрит Леонид (Кавелин) (1869–1877)
Оставив в 1852 г. военную карьеру в чине капитана гвардии, был послушником Оптиной пустыни. В октябре 1857 г. назначен членом Русской Духовной миссии в Иерусалиме и рукоположен в иеромонахи; в мае 1859 г., не сойдясь во взглядах и образе жизни с начальником миссии епископом Мелитопольским Кириллом (Наумовым), по собственной просьбе возвращен в Оптину пустынь. По рекомендации митрополита Филарета в ноябре 1863 г. назначен начальником Русской Духовной миссии с возведением в сан архимандрита, «как инока честных правил и безупречной жизни… и близким его знакомством с делом Миссии». «Строгое благочестие» и «твердость характера» архимандрита Леонида вскоре сделали его неприемлемым на посту начальника Русской миссии ни для русского консульства в Иерусалиме, ни для Иерусалимской патриархии, и в начале 1865 г. возникло дело «о переустройстве» миссии, в котором митрополит Московский Филарет занял сторону архимандрита Леонида, и он в июле был назначен настоятелем церкви при русском посольстве в Константинополе784. В это время он неоднократно посещал Афон, славянские земли Балканского полуострова, разыскивая и исследуя древние рукописи и предметы древности. Еще пребывая в кадетском корпусе (1835–1840), архимандрит Леонид проявил склонность к научно-литературной деятельности, продолжая много и плодотворно заниматься ею и по вступлении на духовный путь; итогом этих трудов было большое количество опубликованных им сочинений.
В 1869 г. архимандрит Леонид был назначен настоятелем Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря. В его лице обитель обрела мудрого и строгого наставника, рачительного хозяина и неутомимого исследователя. Он много потрудился над внешним и внутренним благоустройством обители, не оставляя своих научных интересов и продолжая изыскания в области истории и археологии, уделяя много внимания изучению монастырского архива. Новому Иерусалиму посвящены следующие его публикации: в 1869 г. обитель посетил митрополит Сербский Михаил, и архимандрит Леонид опубликовал в «Московских Епархиальных Ведомостях» заметку «Посещение Воскресенского, новый Иерусалим именуемого, монастыря Михаилом, митрополитом Сербским»; в 1870 г. он издал «Месяцеслов Воскресенского, Новый Иерусалим именуемого, монастыря» (2-е изд. 1875) и «Описание соборного храма Воскресения Христова»; в 1871 г. опубликовал по рукописи XVII в., сверенной с другими списками, «Известие о Житии» Святейшего Патриарха Никона, написанное Иоанном Шушериным, которое позднее неоднократно переиздавал, «Описание славяно-русских рукописей библиотеки Воскресенского, Новый Иерусалим именуемого, монастыря и заметки о старопечатных церковнославянских книгах той же библиотеки», «Историческое известие о причинах устроения в Новом Иерусалиме придела во имя мученицы Татианы»; в 1872 г. напечатал «Краткое известие о рождении, воспитании и житии свят. Никона, патриарха Московского и всея России. Из рукописи Воскресенского монастыря XVII в.» (переизд.1881:1888) и издал на свои средства монастырскую рукопись 50-х гг. XVIII в. «Краткое историческое сказание о начале и устроении Воскресенского Новый Иерусалим именуемого монастыря»; в 1876 г. вышел второй выпуск этой книги и в этом же году «Историческое описание Воскресенского Ставропигиального, Новый Иерусалим именуемого, монастыря» и статья о ценинном деле.
В 1870 г. внуками генералиссимуса А.В. Суворова-Рымникского, князьями Александром и Константином Александровичами Суворовыми, был возобновлен придел в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали» земляной церкви свв. равноап. Константина и Елены, где были погребены их бабушка и отец, их же тщанием в 1872 г. возобновлен иконостас. 25 сентября 1869 г. архимандрит Леонид освятил придел во имя прп. Сергия Радонежского чудотворца в юго-восточной части трапезы церкви Рождества Христова, устроенный на пожертвования Анны Дмитриевны Татищевой, а 10 октября 1871 г. – придел во имя св. мц. Татианы в северо-восточной части трапезы этого храма, в память о благотворительнице Нового Иерусалима благоверной царевне и великой княжне Татиане Михайловне, для которого он сам разработал иконографическую программу иконостаса и на свои средства заказал иконы. В 1872 г. епископом Можайским Игнатием был освящен антиминс для главного престола Рождественского храма785.
21 декабря 1872 г. в монастырь приехал со своими родственниками семинарист Николай Рождественский, «не столько из религиозных побуждений, сколько из любопытства». Архимандрит Леонид принял их очень тепло, «как близких друзей, как родных», сам показал монастырскую библиотеку и другие редкости. Это посещение произвело на юношу сильное впечатление. В 1874 г., в решающий момент, когда ему надо было принимать решение о поступлении в духовную академию, а руководивший его в духовной жизни старец о. Феофил уехал в Абхазию, он обратился к архимандриту Леониду с просьбой о духовном руководстве и был приглашен приехать в Воскресенский монастырь. На Страстной седмице он вместе с другом и сокурсником Николаем Молчановым был в обители; отец настоятель беседовал с ним в своей келье, давал наставления, советовал читать авву Дорофея и Нила Сорского. Эта поездка решила судьбу Николая, он отказался от поступления в академию и в этом же 1874 г. поступил послушником в Воскресенский монастырь. В 1877 г. он вслед за своим духовным отцом перешел в Троице-Сергиеву лавру, где в 1880 г. принял постриг с именем Никон, а впоследствии стал архиереем, выдающимся церковным деятелем, церковным писателем и издателем, скончался в сане архиепископа Вологодского и Тотемского в 1918 г. Его друг закончил Московскую Духовную академию и в 1891 г. стал епископом Нарвским Никандром, скончался в 1910 г. в сане архиепископа Литовского и Виленского786.
15 сентября 1874 г., в попразднество Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня, митрополитом Московским Иннокентием в присутствии многих высокопоставленных лиц был освящен Воскресенский собор, обновленный усердием действительного статского советника Павла Григорьевича Цурикова. В Новом Иерусалиме существовал благочестивый обычай, сохранившийся со времен Патриарха Никона: в праздник Воздвижения Креста Господня после Литургии всем молящимся раздавали металлические или кипарисовые крестики, освященные на Голгофе, и цветки от подножия Голгофского распятия. В 1874 г. Цуриковым было прислано 4000 крестиков для раздачи молящимся. После освящения Воскресенского собора в продолжение целой недели в обитель продолжали прибывать богомольцы для осмотра обновленного храма и поклонения святыням.
В 1874 г. в трапезных палатах церкви Рождества Христова им устроен музей Патриарха Никона – один из первых церковных музеев России, в следующем году составлена опись музея. В 1875 г. составлена Главная церковная и ризничная опись Воскресенского монастыря787. В 1876 г. на пожертвования П. Г. Цурикова поновлялась Кувуклия Гроба Господня, при этом «из белого мрамора взамен простого камня»788 было сделано новое подобие камня, отваленного от Гроба Господня.
При архимандрите Леониде не нашло своего продолжения дело о захвате городом монастырской земли, хотя ему было предписано представить в Синодальную контору мнение, какой он полагает дать дальнейший ход делу «о возобновлении межевых признаков земель Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря и о воспрещении обывателям г. Воскресенска производить на этой земле постройки, впредь до разрешения вопроса об отчуждении ея и о вознаграждении за нее монастыря». Видимо, он «уклонился от ответа во избежание столкновения с П. Г. Цуриковым, благолепно возобновившим в то время Ново-Иерусалимский монастырь на свои средства, который в то же время перекупил и застраивал спорный участок земли против монастырского странноприимного дома», тот, что в 1858 г. пытался отстоять архимандрит Амфилохий789.
3 июня 1877 г. архимандрит Леонид был назначен наместником Троице-Сергиевой лавры; покидая обитель, он пожертвовал в Ново-Иерусалимский монастырь 1000 рублей серебром «на трапезу для странников 17 августа в день кончины Патриарха Никона»790. В Лавре архимандрит Леонид также занимался внутренним и внешним благоустроением обители, не оставляя своих научно-литературных занятий; работая зачастую по ночам, он и в этот период жизни написал и издал много ученых трудов. Скончался 22 октября 1891 г. и погребен у лаврской церкви Святого Духа.
На всех местах своего церковного служения архимандрит Леонид занимался изучением истории храмов и монастырей, рукописей и старопечатных книг, христианских древностей и святынь. В перечне его опубликованных работ свыше 270 наименований. «Искренний и, как подобает вообще монаху, вполне бескорыстный подвижник в области научного труда»791, он был достойно почтен научной общественностью: в 1863 г. избран членом-корреспондентом Императорской Археографической комиссии, в 1867 г. – действительным членом Императорского Общества истории и древностей российских, в 1869 г. – членом Московского Общества любителей духовного просвещения, в 1884 г. – почетным членом Московской Духовной академии, в 1886 г. – членом-корреспондентом Императорской Академии Наук.
Надпись на кресте над его могилой как нельзя лучше выражает сущность его жизненного подвига: «Помянух дни древния, поучихся во всех делех Твоих, в творениях руку Твоею поучахся» (Пс. 142, 5). В 1891 г., уже после кончины архимандрита Леонида, вышла его «Справочная книга по русской агиографии», в которой в числе 795 местночтимых святых назван и Патриарх Никон.
Архимандрит Вениамин (Поздняков) (1877–1890)
Послушник Глинской Богородицкой пустыни (1841), затем Святогорской Успенской (1844), где вскоре был пострижен в монашество и рукоположен во иеродиакона и иеромонаха (1847). В 1853 г. определен для служения на Черноморском флоте, в сентябре 1855 г. направлен в Киево-Печерскую лавру, в феврале 1856 г. по прошению переведен в Тихвинский Успенский монастырь Новгородской епархии, но и отсюда его вызывали в различные плавания. В июле 1861 г. определен строителем Филиппо-ирапской Троицкой пустыни под Череповцом, в ноябре 1862 г. перемещен настоятелем в Боровицкий Свято-Духов монастырь, 28 декабря 1873 г. переведен в Валдайский Иверский монастырь.
Назначен в Воскресенский монастырь 5 августа 1877 г. Одной из важнейших черт архимандрита Вениамина была его «мудрая опытность», приобретение которой началось с послушничества в Глинской Богородицкой пустыни, затем участие флотским иеромонахом в Крымской войне, для участников которой он стал легендой Севастопольской осады, «под огнем неприятеля напутствуя раненых и даже вынося их из-под выстрелов»792, за что был награжден серебряной медалью на Георгиевской ленте. Дальнейшая иноческая жизнь и настоятельство в нескольких монастырях развили в нем дары утешения, духовного окормления, молитвы и назидания. В Воскресенский монастырь к архимандриту Вениамину приезжали многие известные люди, художники, писатели – А. П. Чехов, например. В письме от 26 мая 1883 г. Антон Павлович пишет, что живет в Новом Иерусалиме и «ходит в гости к монахам»793. 25 июня 1884 г. – «Монастырь поэтичен. Стоя на всенощной в полумраке галерей и сводов, я придумываю темы для «звуков сладких» … каждое воскресенье в монастыре производится пасхальная служба со всеми ее шиками … Лесков, вероятно, знает об этой особенности нашего монастыря»794.
19 июня 1884 г. в Воскресенский монастырь приехал иеродиакон афонского Пантелеимонова монастыря Арсений Алексеев, недавно приехавший в Россию для издания своих сочинений против иконоборческих сект. Наслышанный о чудесах и исцелениях, происходящих при гробнице Патриарха Никона, он захотел узнать обо всем сам и обратился к архимандриту Вениамину в надежде получить сведения из первых рук. Но тот, опасаясь возможных неприятностей, поскольку отношение к Патриарху Никону в правительстве и обществе продолжало оставаться неоднозначным, отнесся к посетителю подозрительно и поначалу не хотел предоставлять о. Арсению никаких сведений. Но тот «устыдил настоятеля за маловерие», и архимандрит Вениамин в конце концов передал Арсению все свидетельства о чудесных явлениях, происходивших у гробницы. Возможно, под воздействием величия увиденного, впоследствии, став в 1894 г. первым игуменом и строителем открытого на месте Макариевской пустыни под Новгородом Воскресенского миссионерского монастыря, он захотел сделать обитель Иерусалимом в уменьшенном виде и построить в ней точную копию древнего иерусалимского храма Воскресения.
В 1895 г. пожар уничтожил существовавший на этом месте Успенский храм и все имущество, но Арсений призвал православный народ к пожертвованию на строительство миссионерской обители, и вскоре был построен временный храм, для которого Иерусалимский Патриарх Никодим прислал в дар ценную икону Воскресения Христова. Замысел об Иерусалимском храме остался невоплощенным, монастырский храм был освящен в честь Успения Божией Матери. Игумен Арсений стал основателем Союза Русского Народа, учрежденного 8 ноября 1905 г. для оказания противодействия революции795.
10 марта 1885 г. в монастыре Нового Иерусалима в монастырской книге происшествий была сделана запись о видении ташкентскому купцу Василию Никитину, в котором некий старик сказал: «Молись Никону Патриарху, он во всем поможет и все устроит»796.
В 1886 г. на колокольне были установлены часы с курантами, выбивающими два раза в сутки, в 12 часов, «Христос Воскресе!», «весьма дорогой цены и сделанные известной московской фирмой А. А. Энодина». Заботясь о сохранении этих дорогих часов, архимандрит Вениамин платил ежегодное вознаграждение Энодину за их «надсмотр и заводку»797. Последующие настоятели сочли этот расход излишним, часы стали поправлять местные часовщики, а потом и машинист с монастырской водокачки, так что они пришли в совершенную негодность, пока не были починены весной 1904 г. тем же Энодиным, приглашенным настоятелем архимандритом Серафимом.
В 1878 г. архимандрит Вениамин издал отдельной книгой монографию о жизни и деятельности Патриарха Никона, напечатанную в 1663 г. в журнале «Странник», и предварил ее собственным кратким словом, выражая надежду, что изданием книги Ново-Иерусалимский монастырь окажет «посильную услугу почитателям великаго иерарха Русской Церкви и вместе исполнит долг благодарности, выну связующий Воскресенскую обитель с памятию ея славнаго основателя»798. В монастыре была создана фотомастерская, позволявшая паломникам увозить с собой запечатленную на фото святыню.
В 1889 г., накануне праздника Воздвижения Креста Господня, бурей был сломан Мамврийский дуб, но остался расти его прикорневой побег.799
17 октября 1889 г. в монастырь были доставлены палестинские святыни: частицы камней от Гроба Господня, места рождения Спасителя, Гроба Пресвятой Богородицы и часть масличной ветки из Гефсиманского сада, привезенные из Святой Земли великим князем Сергеем Александровичем и присланные им в обитель для молитвенного воспоминания о нем и его супруге великой княгине Елизавете Феодоровне. Священные предметы были «утверждены» архимандритом Вениамином в небольшой деревянной шкатулке, и в тот же день был отслужен соборный молебен Спасителю и Богородице с многолетием всему Царствующему дому800.
В 1889 г. по поручению архимандрита Вениамина боровицким мещанином Иваном Воронковым, трудившимся в монастыре, была выполнена модель Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря, выполненная из обычных материалов, с позолоченными куполами, ценная свое «кропотливой работой». Модель хранилась в монастырском музее801.
В январе 1890 г. Императорское московское археологическое общество предполагало устроить Археологическую выставку и представить на ней древние церковные вещи, хранящиеся в монастырях и церковных ризницах. На запрос Московской Синодальной конторы об имеющихся в монастыре предметах древности архимандрит Вениамин 16 октября 1889 г. отвечал, что «к числу замечательных предметов, как по древности, так и по искусству работы, имеются воздухи и плащаницы, шитые шелком царевною Татианой Михайловной, а также священные сосуды царей: Алексея Михайловича, Феодора Алексеевича и царевны Татианы Михайловны… других же предметов древности, заслуживающих внимания в археологическом отношении в обители не имеется»802.
Последние годы своей жизни архимандрит Вениамин совмещал настоятельство в обители с исполнением должности благочинного ставропигиальных монастырей.
Архимандрит Вениамин скончался после продолжительной болезни 22 августа 1890 г. и погребен с севера от Воскресенского собора. На сороковой день его духовной дочери игумении Таисии (Солоповой), усердно молившейся о упокоении души старца, который не оставлял ее своими наставлениями до самой своей кончины, было видение о его загробной участи, удостоверившее ее в богоугодности жизни архимандрита Вениамина и бывшее откровением о Царстве Небесном803.
После военного разорения 1941 г. надгробная плита архимандрита Вениамина оказалась перенесена и ныне находится в северной части монастырского некрополя, напротив земляной церкви.
Епископ Волоколамский Христофор (Смирнов) (1890–1892)
Выпускник Киевской Духовной академии (1869), с 1877 ее экстраординарный профессор, ректор Тамбовской Духовной семинарии (1883), архимандрит, ректор Вифанской Духовной семинарии (1885). С 1886 г. ректор Московской Духовной академии. 25 мая 1887 г. рукоположен во епископа Волоколамского, третьего викария Московской епархии, оставаясь в должности ректора.
В период служения в духовных школах им написаны: «Богослужения апостольского времени» (1873), «Апокалипсис, как литургический памятник апостольской эпохи» (1874), «Происхождение и литургический характер таинств» (1874–1875), «Богослужение христианское со времени апостолов до четвертого века (1876), «Учение древней церкви о лице Господа Иисуса Христа» (до I Вселенского собора, 1885), «Древнехристианская иконография, как выражение древнецерковного веросознания» (1887), «Жизнь Иисуса Христа в памятниках древнехристианской иконографии» (1887), «Иконография у дохристианских народов» (1887), «Образы Иисуса Христа» (1887), «Происхождение и значение праздника Рождества Христова» (1887).
19 декабря 1890 г. епископ Христофор был уволен согласно прошению «по расстроенному здоровью» от звания викария и с должности ректора Московской Духовной академии и назначен управляющим Воскресенским Ново-Иерусалимским монастырем804. Говорили, что архимандрит, а затем епископ, Христофор мало подходил к должности ректора Духовной академии, при этом был не чужд пристрастия к вину805, что, видимо, и стало причиной его увольнения из академии.
24 января 1891 г. епископ Христофор вступил в управление Воскресенским монастырем. Почти сразу по прибытии ему пришлось хоронить (на новом братском кладбище) духовника обители, иеросхимонаха Никона, скончавшегося 4 февраля806. Новым духовником был назначен почти 70-летний иеромонах Досифей, постриженик архимандрита Вениамина, перешедший вслед за ним в Воскресенский монастырь из Иверского807.
В феврале по инициативе преосвященного Христофора, «по совещании со старшей братией», решено было средства, накопившиеся из настоятельских отчислений после кончины архимандрита Вениамина, и неистраченную часть отчислений, неполученных им по болезни, направить на устройство церковно-приходской школы при монастыре808.
В 1891 г. сменилась старшая братия монастыря: в июле уволен в связи с болезнью наместник иеромонах Диодор и вместо него назначен ризничий иеромонах Антоний, а ризничим – иеромонах Анастасий809; в ноябре по просьбе епископа Христофора отстранен от должности за «небрежное отношение к казначейским обязанностям» иеромонах Ипполит, на его место определен иеромонах Макарий810.
В 1891–1892 гг. по инициативе епископа Христофора был построен новый двухэтажный странноприимный дом и начато согласование приспособления его старого здания для размещения в нем школы, в августе 1892 г. проект был согласован: старое кирпичное здание предполагалось надстроить вторым, деревянным этажом811. Весной 1892 г., когда уже была вынута земля под фундамент странноприимного дома и завезены строительные материалы, Анна Сергеевна Цурикова, усадьба которой находилась неподалеку, воспротивилась постройке, опасаясь вместе с соседями, что такое соседство доставит им беспокойство, и обращалась даже к великому князю Сергею Александровичу. «Желая почтить память господина Цурикова и сделать угодное его вдове»812, было решено построить странноприимный дом на месте старого, а на этом участке построить помещение для школы, но для сохранения интересов монастыря издержки на строительство новой школы Синодальная контора предложила взять на себя Цуриковой, но, поскольку она отказалась, все осталось по-прежнему, и в июле 1892 г. здание странноприимного дома было построено.
В связи с нехваткой иеромонахов для очередного седмичного богослужения, в феврале и марте 1892 г. епископ Христофор рукоположил двух иеродиаконов и двух монахов в священные степени иеромонаха и иеродиакона при совершении Божественной литургии в Рождественском соборе813, а в мае – наместника Антония в архимандриты814.
В июле 1892 г. епископ Христофор сообщал в Синодальную контору, что под размещение больных и раненых воинов монастырь мог бы предоставить летнее здании во дворе старого странноприимного дома с размещением в нем 25–30 человек «с предоставлением им постелей, продовольствия и производством мойки белья»815. Дело в том, что в 1889 г. в военном ведомстве возник проект об устройстве системы врачебных районов внутри империи для лечения больных и раненых на случай войны попечением жителей. Обер-прокурором Святейшего Синода было предложено включить в эту систему монастыри, которым и было предложено уведомить о своих, в связи с этим возможностях816.
9 сентября 1892 г. при Воскресенском монастыре была открыта начальная школа грамотности, принятая в ведение Звенигородского отделения Кирилло-Мефодиевского братства; в феврале 1893 г. постановлением Совета этого братства с согласия монастыря обращена в церковно-приходскую одноклассную с трехгодичным курсом школу на общем положении. В школе обучалось 50 мальчиков от 8 до 13 лет из бедного городского и окрестного крестьянского населения, законоучителем был иеромонах Василий. Ученики жили в надворном флигеле и находились на монастырском обеспечении817.
19 декабря 1892 г. епископ Христофор был отставлен от управления монастырем и назначен епископом Ковенским, первым викарием Литовской епархии, и 12 января 1893 г. сдал дела наместнику монастыря архимандриту Антонию818.
С 6 июня 1897 г. епископ Екатеринбургский и Ирбитский, с 1900 г. – епископ Каменец-Подольский и Брацлавский, с 1903 г. – епископ Уфимский и Мензенский. В «Отзыве» на вопрос о состоянии приходской жизни, данном в 1905 г. для Предсоборного Присутствия, епископ Христофор писал: «Помочь делу [возрождения Церкви] может восстановление приходских братств, но не в смысле благотворительных только учреждений, каковое значение братства получили только в позднейшее время, когда истинная идея братства исчезла из сознания общества, а в смысле живых органов, проникнутых идеей братства во Христе и могущих оживлять и вдохновлять весь церковный организм… Пока не возлюбим братство в самом широком смысле как древнецерковную, из существа христианства вытекающую и существу Церкви вполне отвечающую, жизненную норму, до тех пор никакие реформы не воскресят настоящую, истинную жизнь Церкви, умиравшую именно с угасание и умиранием в Церкви идеи братства во Христе».
С 17 октября 1908 г. находился на покое в Вяземском Свято-Предтечевом монастыре. Скончался после 1918 г.
Архимандрит Андрей (Садовский) (1893–1898)
Закончил Нижегородскую Духовную семинарию и священствовал с 1844 г. в Нижегородской епархии. С 1851 г. священник кафедрального собора и книгохранитель библейских и богослужебных книг, принадлежащих Московской синодальной типографии. С 1852 г. – член конторы Архиерейского дома, с 1862 г. – эконом Архиерейского дома. 27 ноября 1885 г. перемещен из Нижегородской в Московскую епархию и определен в братство московского Покровского Миссионерского монастыря, в котором 30 ноября этого же года пострижен в монашество, а 21 декабря назначен его настоятелем и возведен в сан архимандрита. С 1887 г. – действительный член Православного Палестинского общества. С 1889 г. – настоятель Симонова монастыря, а с 1890 – благочинный ставропигиальных монастырей. 26 апреля 1893 г. назначен в Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь, освобождая место для преосвященного Архангельского Александра, уволенного на покой по болезни в Симонов монастырь с поручением управления им. При этом Московской Синодальной конторой была выражена благодарность архимандриту Андрею «за попечение и заботливость об улучшении благосостояния Симонова монастыря»819.
Летом 1893 г. архимандрит Андреем был благоустроен новый странноприимный дом, выстроенный его предшественником рядом с монастырской гостиницей: оштукатурены внутренние деревянные стены, замощен двор, укреплены берега «устройством откоса и панелей»820, – и 25 сентября освящен. «По завету Патриарха Никона» за год приютом в нем пользовались до 80 тысяч богомольцев с правом каждому 3 дня иметь стол, на содержание странноприимного дома ежегодно поступали 1200 рублей от вдовы Анны Сергеевны Цуриковой821.
В 1893 г. Воскресенский монастырь посетил ректор Московской Духовной академии архимандрит Антоний (Храповицкий). О своей поездке он рассказал в статье «Новый Иерусалим», которую закончил словами: «…эмблема Ново-Иерусалимского монастыря выражена в словах Исаии пророка, перешедших в наше Пасхальное богослужение: «Светися, светися, новый Иерусалиме, слава бо Господня на тебе возсия» (Ис. 60, 1). Слова эти написаны на свитке Никоновского портрета и на сердцах православного народа»822.
В 1893 г. Центральное Управление духовного ведомства озаботилось «произволом в изнесении из обителей и церквей особо чтимых икон», и сделало соответствующие запросы. Архимандрит Андрей в декабря 1893 г. отвечал, что в Воскресенском монастыре «особо прославленных икон не имеется», но «при несчастиях – засухе, безведрии, болезни и т.п. случаются частные приглашения ближайшими жителями, имеющейся в Воскресенском монастыре иконы Пресвятой Богородицы именуемой Троеручицы, как местно лишь чтимой, к участию в местных крестных ходах… Район хождения не простирается далее 8 или 10 верст»823.
В марте 1894 г. по инициативе архимандрита Андрея архитектором В. Е. Сретенским был составлен проект постройки нового двухэтажного каменного здания для школы, так как предназначенное для переустройства под школу старое здание странноприимного дома дало трещины во многих местах. В сентябре 1894 г. было получено разрешение на постройку нового здания на месте существующего старого при восточных вратах обители, начав слом старого здания этой же осенью, а постройку нового – весной 1895 г.824, архимандрит Андрей был назначен предстоятелем строительной комиссии. Школа была достроена и освящена в 1897 г. В мае 1894 г. начались работы по переносу скотного двора и других хозяйственных построек от монастырской стены и гостиницы и в течение года завершены825, в мае 1895 г. – малярные и штукатурные работы в монастыре826.
Архимандрит Андрей скончался после продолжительной болезни 14 марта 1898 г., завещав 500 рублей серебром на украшение храмов, похоронить себя просил «рядом с могилою архимандрита Мелхиседека», в приделе Мучеников 14 000 младенцев, от Ирода в Вифлееме избиенных, под церковью Рождества Христова.
В мае 1898 г. наместник монастыря архимандрит Антоний ходатайствовал перед Синодальной конторой о разрешении построить новое каменное здание для монастырской гостиницы и представил чертежи и сметы827.
Архимандрит Владимир (Филантропов) (1898–1903)
Окончил Владимирскую Духовную семинарию (1862), преподавал в духовных училищах Владимирской и Симферопольской епархий. По прошению, по расстроенному здоровью, уволен от училищной службы и в 1880 г. определен в Синодальную церковь 12 Апостолов помощником синодального ризничего и в этом же году рукоположен во иеромонаха к той же церкви, определен к очередному стоянию при мощах митрополита Московского Филиппа в Успенском соборе, в память чего пожалован медалями: бронзовой на Александровской ленте и серебряной большой без ленты, далее – синодальный ризничий, настоятель Знаменского монастыря (1892), затем ставропигиального Заиконоспасского (1895). В 1894 г. состоял членом Комиссии по переносу Патриаршей синодальной ризницы в Мироварную палату, распределению ее предметов в новом помещении, их ремонту и составлению новых описей им; в 1896 г. по прошению освобожден от должности ризничего.
Настоятелем Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря назначен летом 1898 г. из архимандритов Заиконоспасского монастыря.
В сентябре 1898 г. архимандрит Владимир получил из Синодальной конторы чертежи и сметы новой монастырской гостиницы, представленные наместником, и дал свое заключение, что монастырю сейчас новая гостиница не нужна, так как и существующие три двухэтажные гостиницы не заполняются, и дело было прекращено. С открытием в 1900 г. Виндавской железной дороги, оживившей экономическую сторону жизни Воскресенска, облегчившей доступ к монастырю и увеличившей поток его посетителей, ситуация изменилась, и в ноябре 1902 г. по просьбе архимандрита Владимира было разрешено построить новую двухэтажную каменную гостиницу, уже по новому проекту – с полуподвалом, на 32 номера828. Она была завершена в мае 1904 г. архимандритом Серафимом.
В октябре 1898 г. архимандрит Владимир составил «Положение о местах для могил на кладбище в Воскресенском, Новый Иерусалим именуемом, монастыре», которое вводил с 1899 г., и выдал его для руководства казначею. Подробный доклад с обзором истории погребений в обители он направил 14 октября в Московскую синодальную контору. «В старые годы, – писал он, – в Воскресенском монастыре, кроме братии, погребались около подземной церкви с северной и южной стороны только именитые возобновители, украсители, устроители новых приделов, вкладчики облачений, икон, резной церковной утвари и, наконец, – вкладчики деньгами, начиная с 1778 г., не менее 1000 руб. ассигнациями по тогдашнему времени. Роды их записаны в монастырских Синодиках и неопустительно поминаются. Когда за полтораста лет места здесь были заполнены, тогда с 70-х гг. XIX в. монастырское управление стало отводить места для погребения мирских людей в братском фруктовом саду на юг от соборного храма Воскресения Христова. Из надписей на могильных крестах и памятниках здесь погребенных видно, что только с конца 80-х гг. начался усиленный захват могильных мест Воскресенскими мещанами и иными разночинцами по дешевым ценам, так что за последние 10 лет в монастыре могил стало больше, чем сколько их было за предыдущие 150 лет, а вкладов в пользу монастыря и на поминовение в пользу братии от внесших по 15 рублей за могильные места никаких не было. Соображая, что если так вести дело, то в скором времени не останется в монастыре места и для погребения умирающих из братии, я выдал казначею монастыря для руководства положение о местах для могил в ограде монастыря с разделением их на три разряда и квитационную книгу в 1899 году»829.
Летом 1901 г. некие лица сделали архимандриту Владимиру предложение сдать по частям в аренду монастырскую рощу на юго-западе монастыря, за рекой Истрой, носящую название «Уриин сад». В октябре 1902 г. он обратился с этим предложением в Синодальную контору, посчитав его выгодным для монастыря, поскольку, с одной стороны, роща старая, а с другой – жители ближайшей деревни Сычевки понемногу похищают деревья для своей надобности; в ноябре разрешение было получено830. Но работы начались только осенью 1904 г. архимандритом Серафимом, когда был составлен план участков и начато устройство колодцев и подведение дороги.
В ноябре 1902 г. архимандрит Владимир возбудил дело о возобновлении иска к городу Воскресенску о неправильном захвате монастырской земли и возвращении монастырю земель в соответствии с планом 1769 г. Он изучил имеющиеся в архиве Синодальной конторы документы и оказалось, что духовные власти неоднократно выражали протест против застройки и покупки спорной земли разными лицами, но гражданские власти обыкновенно отвечали ничего не объясняющими отписками, а обыватели тем временем обстроились на шести спорных участках, которые по плану генерального межевания 1768 г. принадлежат монастырю, а по плану на г. Воскресенск отошли под кварталы города без всякого монастырю вознаграждения. Заведующему Московской синодальной библиотекой Николаю Петровичу Попову Синодальной конторой было поручено навести в архивах справки о земельных владениях Воскресенского монастыря. В то же время архимандрит Владимир просил Синодальную контору, чтобы монастырь числился в Звенигородском уезде, а не в городе Воскресенске, «от которого монастырю совершенно ничего не дается», наоборот, городская управа сдает в аренду монастырскую землю возле странноприимного дома для торговли, а с монастырских гостиниц взимает налоги в пользу города831.
12 апреля 1903 г. Воскресенский монастырь посетил Император Николай Александрович с супругой и членами царского семейства. В память этого посещения из монастырских сумм было пожертвовано 3000 рублей в фонд им. Императора Александра III832.
В августе 1903 г. архимандритом Владимиром был получен указ Московской Синодальной конторы об открытии в монастыре школы для послушников, «установив программу и порядок преподавания в ней, применительно к таковым же школам Московской епархии»833, но никаких распоряжений архимандритом Владимиром сделано не было, школа открыта не была. В ноябре 1903 г. Владимир ходатайствовал об устройстве в монастырской роще на западе от монастыря, на холме «Фавор и Ермон», особого скита с общежительным уставом для ищущих «безмолвного и уединенного жития… с приютом при ските для престарелых монашествующих, с больницею и отделением для умалишенных, с кладбищем для братии и с рукодельными мастерскими для трудников», с храмом с главным престолом во имя Преображения Господня, и в декабре разрешение было дано834.
В ноябре 1903 г. архимандрит Владимир просил о разрешении напечатать новым изданием в 3000 экз. книгу «Жизнь Святейшаго Никона, Патриарха Московскаго», с 9-ю рисунками (изд. Ново-Иерусалимского монастыря, 1879), так как предыдущий тираж почти весь израсходован835. В декабре он получил разрешение Синодальной конторы на переиздание.
5 февраля 1904 г. архимандрит Владимир был освобожден от должности и 22 февраля рукоположен во епископа Киренского, викария Иркутской епархии. С 22 марта 1908 г. – епископ Ковенский, викарий Литовской епархии, с 25 июня 1911 г. на покое с предоставлением управления арзамасским Спасо-Преображенским монастырем на правах настоятеля. 4 июля 1914 г. освобожден от управления согласно прошению и назначен в московский Новоспасский монастырь. Скончался в конце 1916 г.
Архимандрит Серафим (Чичагов) (1904–1905)
Получил образование в Первой Санкт-Петербургской классической гимназии, а затем в Пажеском корпусе и Артиллерийской академии. Участвовал в Балканской войне 1877–1878 гг. и был награжден за сражения под Горным Дубняком, под Телишем, за взятие Плевны, за переход через Балканы, за сражение под Филиппополем, имел награды Франции, Румынии, Болгарии. 15 апреля 1890 г. Леонид Чичагов вышел в отставку и по благословению своего духовного отца Иоанна Кронштадтского стал готовиться к принятию священства – переехал с семьей в Москву, изучал богословские науки. Желая помогать страждущим, самостоятельно изучил медицинские науки и создал свою систему, по которой вылечил более 20 тысяч больных. В 1893 г. рукоположен в священника и приписан к кремлевской синодальной церкви Двунадесяти Апостолов, которую реставрировал на свои средства и организовал при ней Общество Белого Креста, имевшее задачей призрение офицерских детей. В 1896 г. определен священником для духовного окормления военнослужащих артиллерийского ведомства Московского военного округа в церковь на Старом Ваганькове. Частью на свои средства, частью на пожертвования отреставрировал храм во имя свт. Николая, принадлежавший Румянцевскому музею и в течение тридцати лет стоявший закрытым. В это время он начал составлять «Летопись Серафимо-Дивеевского монастыря» по прямому указанию самого Серафима Саровского, переданному о. Леониду блаженной Пашей Саровской во время посещения Дивеевской обители. В 1896 г. «Летопись» была издана и преподнесена о. Леонидом Государю, что стало важнейшим моментом в решении вопроса о прославлении прп. Серафима.
5 сентября 1898 г. о. Леонид пострижен в монашество с именем Серафим и причислен к братству Свято-Троицкой Сергиевой лавры, а через год назначен настоятелем Суздальского Спасо-Евфимьева монастыря и вскоре возведен в сан архимандрита с назначением благочинным монастырей Владимирской епархии. Приняв древнюю обитель разрушающейся, за пять лет своего управления архимандрит Серафим привел ее в цветущее состояние. Он благоустроил арестантское отделение Суздальской тюрьмы-крепости, а вскоре по его ходатайству узники были освобождены, и тюрьма перестала существовать. В 1902 г. Серафиму было видение, о котором он рассказал своему духовному сыну Стефану Ляшевскому: ему явился старец Серафим и благодарил за «Летопись». Архимандрит Серафим входил в комиссии 1902 и 1903 гг. по освидетельствованию останков старца Серафима, руководил подготовкой к предстоящему торжеству прославления прп. Серафима, а также написал краткое житие Преподобного и краткую летопись Серафимо-Дивеевского монастыря. Впоследствии им была подготовлена рукопись второго тома Летописи, где подробно описывалась смута в Синоде в пору подготовки к прославлению старца Серафима, рассказывалось о дальнейшей жизни Серафимо-Дивеевской обители.
5 февраля 1904 г. архимандрит Серафим был назначен настоятелем Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря и 14 февраля вступил в должность. Ему незамедлительно пришлось заняться приведением в порядок церковного имущества, «на которое ничего не расходовалось в продолжение многих лет». Часть расхожей ризницы – облачения священнослужителей, одежды на престолы в Воскресенском соборе и храме Рождества Христова – оказались настолько непригодными к употреблению, что он был вынужден немедленно заказать облачение на весь собор, чтобы была возможность служить в Страстную неделю836.
Архимандрит Серафим настоятельствовал год и полтора месяца. Для того чтобы хозяйственное послушание исправлялось «как должно», а хором, монастырскими гостиницами и странноприимным домом управляли монашествующие, он увеличил в три раза число послушников. Им был сформирован «правильный хор певчих» – бывшее в монастыре пение вызывало постоянное неудовольствие богомольцев837, была закончена строительством и вступила в действие новая каменная двухэтажная гостиница, по монастырю проведен новый водопровод, позволивший значительно улучшить качество потребляемой воды, обновлен весь монастырский комплекс.
Архимандрит Серафим обновил и переустроил музей, созданный архимандритом Леонидом (Кавелиным), дополнил его коллекцию своими пожертвованиями, начал составление новых описей музея и ризницы, организовал монастырскую библиотеку, для которой выписал газеты и журналы. Особенную благодарность братии и всех посетителей монастыря архимандрит Серафим заслужил тем, что заменил в Воскресенском соборе чугунный пол, от стояния на котором столь страдали все, на теплый деревянный – был положен дубовый паркет, а освободившимися чугунными плитами вымощены дорожки в монастыре и тротуар от монастырских ворот до всех гостиниц и странноприимного дома, бывшие прежде неустроенными, так что весной и осенью бывала грязь. Сам архимандрит Серафим оценивал свой труд именно как возобновление монастыря, о чем свидетельствует подпись на его портрете, вложенном им в монастырский музей: «Настоятель Воскресенского, Нового Иерусалима монастыря архимандрит Серафим Чичагов, возобновивший Собор и всю обитель в 1904 г. Настоятельствовал с 14 февраля 1904 г. по 1-е апреля 1905 г.»838.
Для реставрации иконостасов архимандритом Серафимом был приглашен иконописец Александр Дмитриевич Лебедев, лично известный ему по своим художественным работам. «Лебедев вполне оправдал этот выбор. Реставрация производилась по всем правилам искусства. С каждого образа до реставрации снимался фотографический снимок, чтобы во всякое время и всякий мог видеть точность воспроизведения и судить о ценности искусства». Лебедев работал под непосредственным наблюдением трех настоятелей: епископа Серафима, архиепископа Иустина и преосвященного Тихона – и все оставались довольны его усердием и искусством839.
По ходатайству архимандрита Серафима в марте 1904 г. было пересмотрено решение об устройстве скита на монастырском Фаворе и отменено. В сентябре 1904 г. по его инициативе при монастыре был устроен лазарет «для больных и раненых воинов, прибывающих с театра военных действий на Дальнем Востоке», который был размещен в здании странноприимного дома840. В ноябре 1904 г. по просьбе Санкт-Петербургской Духовной академии туда была отправлена рукопись «Антиоха черноризца пандекты о разных добродетелях» из монастырской библиотеки. В январе 1905 г. из монастырской библиотеки выслана в Археологическую комиссию рукопись «Хронограф, начала XVII века»841.
15 февраля 1905 г. архимандрит Серафим передал под расписку организаторам Историко-художественной выставки в Санкт-Петербурге, которая состояла под покровительством Императора Николая Александровича, два замечательных портрета Патриарха Никона: один, где он изображен со служащим духовенством (парсуна «Патриарх Никон с клиром»), другой – в мантии, кисти Иоанна Дитерса. Вследствие революционных беспорядков, охвативших Россию в 1905 г., портреты, отправленные обратно в Новый Иерусалим 31 октября 1905 г., пропали. Проведенное расследование подтвердило несомненность факта их утраты и невозможности найти, еще в июне 1910 г. в Синоде они числились пропавшими, но неведомыми путями портреты оказались в Новом Иерусалиме 16 декабря 1906 г.842
28 апреля 1905 г. архимандрит Серафим был хиротонисан во епископа Сухумского, «призванный по всеблагой воле Божией на высокое служение в Церкви Христовой. Так совершилось дело, видимое в своих знамениях, но невидимое в существе своем, дело, имеющее вид человеческого по своим орудиям, но воистину Божественное по силе, в нем действующей»843. В 1906 г. переведен в Орел, в 1907 г. назначен членом Синода, в 1908 г. – епископ Кишиневский и Хотинский, в 1912 г. – архиепископ Тверской и Кашинский.
С первых дней своего епископского служения владыка Серафим деятельно занимался устройством церковно-приходской жизни, считая, что «для возрождения пастырства и приходской жизни требуется прежде всего объединение пастырей с пасомыми». Впоследствии он составил «Обращение к духовенству епархии по вопросу о возрождении приходской жизни». Он считал крайне важным сохранение Таинств, как они заповеданы церковной традицией и святыми отцами, и был противником общей исповеди.
После революции 1917 г. архиепископ Серафим, как слишком известный, отправлен на покой, был участником Поместного Собора 1917–1918 гг., восстановившим Патриаршество в России. В 1918 г. возведен в сан митрополита, претерпел аресты, тюрьмы, ссылку. В 1928 г. назначен управляющим Ленинградской и Гдовской епархией, 14 октября 1933 г. отправлен на покой, и в начале 1934 г. переехал в Москву на станцию Удельная.
11 декабря митрополит Серафим расстрелян на Бутовском полигоне. 23 февраля 1997 г. причислен к лику святых, открыв сонм Новомучеников Российских.
Митрополит Серафим отличался необычайно разносторонними талантами и все их претворил в жизнь во славу Божию: писатель, издавший множество трудов в самых разных областях, врач, создавший свою систему лечения, богослов, иконописец, композитор и музыкант, историк и философ, а главное – пламенный пастырь стада Христова. Всю жизнь владыка Серафим боролся за чистоту православия. Незадолго до своей смерти св. Иоанн Кронштадтский благословил его в последний раз со словами: «Я могу спокойно умереть, зная, что ты и преосвященный Гермоген будете продолжать мое дело, будете бороться за православие, на что я вас и благословляю»844.
21 июля 2008 г. в Серафимо-Дивеевском монастыре освящен престол в честь сщмч. митрополит Серафима.
Архиепископ Херсонский и Одесский Иустин (Охотин) (1905–1907)
Уроженец Нижегородской губернии, выпускник Санкт-Петербургской Духовной академии (1853), назначен учителем Костромской Духовной семинарии; с 1855 г. инспектор и профессор Ярославской Духовной семинарии, с 1858 г. ее ректор и настоятель Ростовского Богоявленского Аврамиева монастыря. 6 августа 1871 г. хиротонисан во епископа Острожского, викария Волынской епархии. В мае 1879 г. перемещен на Харьковскую кафедру, в сентябре 1882 – на Подольскую. 14 марта 1883 г. избран почетным членом Православного Палестинского Общества. В марте 1887 г. перемещен на Курскую кафедру, а в сентябре 1893 г. – на Херсонскую, с возведением в сан архиепископа.
По воспоминаниям современников, он пользовался любовью и уважением окружающих, был заметной личностью в Русской Православной Церкви. О монастырях говорил так: «На небе сияют звезды, а на земле проливают свой свет обители Христовы вместо звезд небесных»; был очень внимателен при назначении настоятеля монастыря и стремился, чтобы тот был «способным к сей должности и благонадежным».
Архиепископ Иустин был почетным членом Санкт-Петербургской и Киевской Духовных академий, многих научных обществ и братств. Пребывая на Херсонской кафедре, он приложил много усилий для благоустроения епархиальных духовных училищ, открыл богадельню для немощных и престарелых, основал кассу взаимопомощи для епархиального духовенства, проявляя при этом широкую личную благотворительность; внес особый капитал для выплаты стипендий воспитанникам семинарий и устройства квартир преподавателей; занимался миссионерской деятельностью. Его заботами был выстроен новый комплекс зданий Одесской Духовной семинарии; с началом Русско-японской войны начат сбор средств в пользу семей погибших воинов. При нем преподобным Гавриилом, настоятелем афонского Свято-Ильинского русского скита, были основаны в Одессе Свято-Пантелеимоновское подворье и Свято-Ильинский собор и привезены святыни: левая стопа апостола Андрея Первозванного и чудотворная икона Божией Матери «Млекопитательница».
Указом от 30 марта 1905 г. 77-летний архиепископ Иустин был уволен от управления Херсонской епархией, согласно прошения по преклонности лет, и назначен на правах настоятеля управляющим Воскресенским Ново-Иерусалимским монастырем.
22 ноября 1905 г. в монастыре произошло чрезвычайное происшествие – был похищен сосуд с частицей камня от Гроба Господня из Иерусалима, вделанный в верхнюю доску Гроба Господня в Новом Иерусалиме. На следующий день святыня была найдена и возвращена на прежнее место1 . В декабре 1905 г., по просьбе преосвященного Иустина, был заменен ветхий антиминс на главном престоле в соборе Рождества Христова845. В 1906 г. проводились работы по обновлению икон по особым сметам, составленным при архимандрите Серафиме, в том числе позолочены два киота возле Гроба Господня, и пошиты новые облачения, был переустроен монастырский водопровод846. Для усиления охраны монастыря, по обстоятельствам тогдашнего «весьма тревожного времени: ввиду нередких покушений на ограбление церквей и монастырей и притом нападений целыми толпами вооруженных людей, совершающих даже убийства лиц, оберегающих церковное или монастырское достояние», – архиепископ Иустин устроил электрическую сигнализацию в дополнение к увеличенному им же штату стражников847.
В декабре 1905 г., в связи с обрушившимися на Москву революционными событиями, под председательством епископа Можайского Серафима был учрежден особый комитет, организовавший сбор пожертвований в пользу невинно пострадавших во время московских беспорядков. «Ввиду исключительности обстоятельств» ставропигиальные монастыри также были призваны не остаться безучастными к общему делу и произвести отчисления из монастырских сумм, пожертвования из личных средств и провести «тарелочный или кружечный сбор» за богослужением 8 января 1906 г. 9 января 1906 г. архиепископ Иустин отослал в Синодальную контору собранную сумму848. После событий 1905 г. поток богомольцев в монастырь заметно сократился.
20 апреля 1906 г. был упразднен располагавшийся в странноприимном доме лазарет ввиду прекращения военных действий, но монастырь вносил ежегодные пожертвования учрежденному в Москве особому комитету для призрения оставшихся после войны калеками воинов849.
В 1906 г. в обители проводились работы по обновлению икон «по особым сметам» марта 1905 г., и были пошиты новые облачения850.
В июне 1906 г. епископ Иустин получил указ Синодальной конторы о передаче в Патриаршую синодальную библиотеку рукописей из монастырской библиотеки, и 6 ноября 32 пергаменных рукописи были отправлены. Одна рукопись, «Антиоха черноризца пандекты о разных добродетелях», все еще находилась в Санкт-Петербургской Духовной академии, она был возвращена в монастырь только 22 июня 1907 г. и 11 июля была отправлена в Московскую синодальную контору. 7 мая 1907 г. в Патриаршую синодальную библиотеку были отправлены бумажные рукописи, кроме содержащих сведения об истории монастыря, и 14 старопечатных книг, где они 15 мая были приняты по акту851. Переданные в Синодальную библиотеку рукописные книги составили там Воскресенское собрание рукописей; в 1920 г. они поступили в Государственный исторический музей. Преосвященный Иустин скончался 25 мая 1907 г. В своем духовном завещании он выразил желание быть похороненным вблизи придела Марии Магдалины Воскресенского собора, однако был погребен в приделе св. прав. Анны, в южной части ротонды Воскресенского собора; на могиле была положена чугунная плита, над могилой установлена икона Курской Божией Матери в киоте и повешена серебряная лампада; был поновлен и сам придел св. Анны – отремонтирован иконостас и отреставрированы 16 икон852. Он завещал в пользу монастыря 600 рублей на вечное поминовение усопших из его рода.
Епископ Пензенский и Саранский Тихон (Никаноров) (1907–1911)
Выпускник Санкт-Петербургской Духовной академии (1881), назначен смотрителем Белозерского училища; с 1884 г. инспектор Новгородской Духовной семинарии, 25 декабря 1890 г. возведен в сан архимандрита с назначением ректором Новгородской Духовной семинарии, с января 1891 г. – настоятель Новгородского Антониева монастыря. 2 февраля 1892 г. хиротонисан во епископа Можайского, второго викария Московской епархии, и управляющего Савво-Сторожевским монастырем. С 20 августа 1899 г. – епископ Полоцкий и Витебский. С 1887 г. член Православного Палестинского общества, с 1900 г. председатель его Витебского отдела, а с 1902 г. – Пензенского отдела. С 4 июня 1902 г. – епископ Пензенский и Саранский. С юности посвятив себя делу духовного образования, преосвященный Тихон проявлял большую заботу о церковных школах и на епископской кафедре, способствуя их приумножению и благоустроению, помогая бедным ученикам.
Революционные события 1905 г. постепенно и невозвратно меняли религиозное и нравственное состояние российской паствы. В 1906 г. епископ Тихон доносил в Синод: «Нетрезвость в народной среде ведет за собою в семейства ссоры между родными, по временам доходящие до драки, спаивание старшими членами семей и лиц младшего возраста, даже девиц… Пребывание многих из сих юных в последующее время на работах на фабриках и заводах… приводило к еще большему понижению уровня нравственности и даже утрате целомудрия в некоторых случаях. Последствием всего этого являются участившиеся в последние годы, и в особенности в 1906 году, разводы по прелюбодеянию одного из супругов, преимущественно в среде крестьян и даже мордвов, до самого последнего времени бывших в этом отношении верными обету взаимной любви и супружеской верности…»853. В ответ на прокатившиеся погромы помещичьих усадеб он вразумлял, что «отнятое или похищенное у других добро не пойдет впрок отнявшим, напротив, оно сожжет как огнем и уничтожит по суду правды Божией и все то, что раньше было приобретено трудами»854.
В 1905–1907 гг. революционные волнения охватили Пензенскую семинарию855. Семинаристы бастовали, владыка личным присутствием пытался на них воздействовать. Занятия то прекращались, то возобновлялись. Семинаристы обзавелись револьверами и самодельными бомбами, 23 апреля 1906 г. с возгласами «долой Царя» они возвели на улице баррикаду, а на следующий день вышли с красными флагами на демонстрацию. 26 августа ими был ранен из револьвера ректор семинарии, 18 мая 1907 г. убит его преемник. В ходе всех этих волнений гражданскими властями было выдвинуто обвинение против некоторых священнослужителей, и преосвященному Тихону пришлось эти обвинения расследовать. Он не сместил их, но квалифицировал их действия как «неумелые и несогласованные с намерениями власти разъяснения его распоряжений»856, за что был обвинен исполняющим обязанности пензенского губернатора в «укрывательстве революционеров». Он не наказал, а перевел в другой приход священника Пензенской епархии, по просьбе прихожан отслужившего панихиду по члену Первой Государственной думы М. Я. Герценштейну, убитому черносотенцами. Эта мягкость преосвященного в отношении духовенства возмутила Столыпина, и он в личной записке обер-прокурору Св. Синода Извольскому потребовал «уволить немедленно на покой самого архиерея вместе с мятежным попом»857.
25 июля 1907 г. неожиданно для всех преосвященный Тихон согласно прошению был уволен на покой «по болезненному состоянию» и назначен управляющим, на правах настоятеля, Воскресенским Ново-Иерусалимским монастырем. Прощаясь 6 августа со своей паствой, он так объяснил причины своего ухода: «Настоящее состояние Отечества и Церкви Божией подобно бурному морю, которое стараются переплыть пловцы. Как бы сильны ни были эти пловцы, они нуждаются в опытном и искусном кормчем, чтобы спокойно и без страха переплыть бурное море. Я был вашим кормчим в течение пяти лет и сознал себя слабым кормчим…»858. 17 августа епископ Тихон прибыл в Воскресенский монастырь859.
В 1907 г. монастырем была издана книга «Жизнь Святейшаго Никона, Патриарха Всероссийскаго» – второе издание книги 1878 г., разрешенное Синодальной конторой к напечатанию 16 декабря 1903 г.860
7 января 1908 г. в Воскресенском соборе с иконы Христа Спасителя сидящего на престоле, помещавшейся у правого клироса главного алтаря, были украдены 8 камней и 223 жемчужины. Похититель был задержан в тот же день, а в середине феврале похищенное было возвращено на прежнее место861.
15 марта 1908 г. в монастырь прибыл епископ Смоленский и Дорогобужский Петр (Другов), определенный в Ново-Иерусалимский монастырь на покой, и был помещен в настоятельских кельях. Преосвященный Петр был уволен на покой в неполные пятьдесят лет. Причиной увольнения могло стать обвинение в связи с греко-католиками. Известно письмо к епископу Петру униатского митрополита Андрея (Шептицкого) от 1 июля 1907 г., из которого можно заключить о проявленном епископом Петром интересе к идеям Шептицкого862.
В 1909 г. к епископу Петру приехали погостить родственники, среди которых был его малолетний (род. 8.07.1901 г.) племянник (по другим сведениям, внук) Иван Софронов, впоследствии в постриге получивший имя Иосиф и ставший последним новоиерусалимским монахом. Мальчику так понравились монастырская служба и пение, что, когда надо было уезжать, он убежал и спрятался. Долго его искали, а потом владыка сказал: «Оставьте, он поживет здесь, скоро заскучает, тогда и заберете». Но и через две недели Иван категорически отказался возвращаться домой и остался жить в монастыре. Здесь он учился пению в монастырском хоре, а также проявил недюжинный талант в золотошвейном деле. Не знаем, сколько он прожил в этот раз в монастыре, неоднократно он приезжал сюда на лето. В 1912 г. Иван ездил с хором на фестиваль церковной музыки в Рим и участвовал в конкурсе церковных хоров. Приехавший из России хор выиграл конкурс и был награжден поездкой в Святую Землю. Отец Вани, крестьянин, ставший военным, дослужился до звания старшего офицера, его полк одно время был расквартирован в Московском Кремле, где проживало и все семейство. Ивана тоже «занесло» в Красную Армию. «Коня отобрали, а меня, по молодости лет, выгнали», – вспоминал позднее о. Иосиф.
Епископ Петр скончался в монастыре около 1918 г., место его погребения неизвестно. Возможно, Иван Софронов был в монастыре в связи с кончиной Владыки. Во всяком случае, он был здесь во время разгрома обители в 1918–1919 гг.863
2 июля 1908 г. епископ Тихон выехал в Соловецкий монастырь для освящения храма на Кондострове и рукоположения в священные степени нескольких человек из братии Соловецкой обители864.
6 сентября 1908 г. преосвященный Тихон получил из Синодальной конторы запрос, устроена ли в монастыре школа для послушников в соответствии с указом 1903 г. Он отвечал, что школы нет и в монастырских документах нет никаких распоряжений на этот счет. По его мнению, причиной является отсутствие в монастыре свободных помещений и «слишком большая неустойчивость в монастыре послушнического элемента. Да послушников в собственном смысле, определяемых в монастырь по указам конторы, очень мало – в настоящее время только три, при том один из них уже старый – 66 лет, а остальные проживают лишь на испытании, но большая половина испытуемых не выдерживает испытания не только трехлетнего, а даже и годового»865.
В октябре 1908 г. представителю Антиохийского патриархата настоятелю Антиохийского подворья в Москве архимандриту Игнатию по его просьбе пожертвовано из монастырской ризницы одно облачение из оставшихся после кончины управляющего монастырем архиепископа Иустина.
В 1908 г. в Воскресенске напротив Елеонской часовни открылось городское училище с четырехлетним обучением. Управлением Воскресенского монастыря в это училище стали направляться на обучение мальчики-певчие соборного хора. Совместно с учителями монастырской школы преподаватели училища организовали скрипичный квинтет, часто выступавший в стенах училища с концертами классической музыки (в 1929 г. эту школу, после 1917 г. ставшую семилеткой, закончила внучка митрополита Серафима (Чичагова) Варя, будущая игумения Серафима, учившаяся здесь три года. Сохранились ее воспоминания: «Прекрасный Иерусалимский собор был виден отовсюду: из-за полей, из-за лесов, которые окружали это удивительное место, именно Новый Иерусалим. Это было замечательное, я бы сказала, необыкновенной красоты место»866).
В 1909 г. епископу Тихону пришлось заниматься переустройством мельницы и плотины на реке Песочне при деревне Мокруша в связи с поломкой этой мельницы и отказом арендатора от аренды. Он поручил архитектору разработать предварительную смету и детальные чертежи на переустройство, но, поскольку тот медлил, то преосвященный, не желая терять времени, распорядился немедленно приступить к работам, при этом смета была составлена подрядчиком, «письменно договоренным для переустройства мельницы, а чертеж был дан от руки казначеем монастыря иеромонахом Спиридоном»867. Плотину при первом же осеннем незначительном половодье размыло, строительство мельницы остановилось. Было проведено расследование, и протокольным определением Синодальной конторы от 3 декабря 1910 г. «неправильные бесхозяйственные распоряжения» епископа Тихона были «поставлены ему на вид», а иеромонах Спиридон переведен в Новоспасский монастырь868.
В октябре 1909 г. в монастыре была открыта школа для послушников с разделением на две группы, старшую и младшую. В этот год в старшей группе обучалось 10 человек, в младшей – 17. Программа обучения в послушнических школах была определена Московской синодальной конторой: должны были изучаться церковные предметы из программы двухклассной церковно-приходской школы, история монашества и история своего монастыря, причем последнее желательно было изучать всей братии. По проекту, с устройством послушнических школ все поступающие в монастырь должны были теперь давать подписку об их посещении, только окончание такой школы давало дорогу к монашеству и принятию священства. Но школа посещалась плохо, преподаватели заявляли, что «не имеют возможности заставить послушников посещать уроки, поэтому в послушнических школах хороших успехов нет и быть не может»869. Указом от 21 апреля 1911 г. неустройства в послушнической школе были поставлены на вид преосвященному Тихону, и ему было предписано принять меры к надлежащей постановке дела.
В январе 1910 г. епископом Тихоном было получено разрешение на ремонт трех иконостасов: главного в Рождественском соборе и двух в подземном храме Воскресенского собора – свв. Константина и Елены и в приделе Божией Матери «Утоли моя печали». В июле этого же года – разрешение на поновление живописи в двух приделах подземной церкви, стенной живописи в трех часовнях – по сторонам подземного храма и Елеонской, – и живописи на иконах и в двух приделах скита Патриарха Никона. В ходе получения этих разрешений Археологическое общество обратило внимание на то, что икона Божией Матери «Троеручица» «требует тщательного исправления, после которого на нее желательно поместить древнюю серебряную ризу, находящуюся ныне на копии сей иконы. Икону эту следовало бы, по мнению Общества, не носить по окрестностям, так как она от сего очень портится, а вместо нее можно было бы носить имеющуюся в монастыре копию с позднейшею на ней ризою»870.
В июле 1911 г. епископ Тихон ходатайствовал о поновлении живописи на святых вратах и икон на наружных стенах Воскресенского собора: под верхним карнизом алтарной стены и над северными и южными вратами работы велись летом 1912 г., при этом сменился художник: если в 1904–1911 гг. на живописных работах трудился иконописец А. Д. Лебедев, то в августе 1911 г. Синодальная контора уже высказалась за поручение производства предстоящих живописных работ В. Гурьянову, который несколько лет «разными происками, то чрез посредство казначеев, то сторонними воздействиями на настоятелей, то даже чрез Синодальную контору старался оттеснить Лебедева и захватить его работу в свои руки»871. 30 мая 1913 г. он получил 1200 руб. за возобновление 12-ти живописных картин на соборном храме и в святых вратах872.
В связи с постановлением состоявшегося в 1909 г. съезда монашествующих о том, чтобы епархиальные епископы не назначались настоятелями монастырей, а для епископов, пребывающих на покое, был бы избран из существующих или построен особый монастырь, в августе 1910 г. особой при Святейшем Синоде комиссией наиболее подходящим для этой цели был признан Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь. Была создана особая комиссия под председательством епископа Иоанникия, в которую вошел и преосвященный Тихон, для рассмотрения этого предложения. В октябре комиссия пришла к выводу о «невозможности прийти к какому-либо определенному заключению», пока не будут разъяснены предложенные ею вопросы о конкретном обеспечении предлагаемого решения. В итоге 4 февраля 1916 г. Святейший Синод указал устроить в одном из ставропигиальных монастырей на средства всех ставропигиальных монастырей особый дом для пребывания на покое Преосвященных, определив Донской монастырь как наиболее удобный для этой цели873.
В сентябре 1910 г. возникло дело в связи с появившимися в прессе материалами о распущенной жизни монашествующих в Воскресенском Ново-Иерусалимском монастыре. Провести конфиденциальное расследование поручили благочинному ставропигиальных монастырей архимандриту Ново-Спасского монастыря Макарию; 16 сентября он приехал в Ново-Иерусалимский монастырь. Ни разврат, ни пьянство в размере, сообщенном газетами, не подтвердились, но были отмечены «неблагоповедение» в храме, которое неоднократно замечалось и другими посетителями, приверженность к водке некоторых членов монастырского братства, особенно певчих-послушников. Епископ Тихон по поводу появившихся в газетах обвинений сказал, что «общее поведение насельников Ново-Иерусалимского монастыря не лучше и не хуже, чем в других современных монастырях, что нападки на монастыри и монашествующих, как и вообще на Церковь и духовенство, ныне обычны и особенно серьезно верить им не следует, что большинство монашествующих в Новоиеруслимском монастыре “штрафные”, переведенные из других монастырей в наказание», что певчие-послушники «действительно плохи, как, впрочем, и везде; настолько они плохи, что никого из них нельзя представить ко включению в состав монастырского братства»874.
Архимандрит Макарий в своем докладе сделал заключение, что «Новоиерусалимский монастырь в современном его состоянии не выполняет того, что ему предназначено было его устроителем. Он мог бы, должен бы быть одним из самых крупных и могущественнейших центров православно-церковной жизни, откуда могло бы распространяться религиозное воодушевление и куда могли бы стекаться все ищущие подкрепления в духовной жизни. Стоит только взглянуть на храм, войти внутрь его, проникнуться, хотя бы и не вполне, мыслию Патриарха Никона – дать народу на месте, в самой Руси, дать благоговейно стремящейся душе христианина к святым местам возможность удовлетворить это святое стремление, – чтобы представить все возможное величие и влияние этого монастыря на массу народную. К этому следовало бы стремиться»875. Он рекомендовал в целях поддержания порядка в современной монастырской жизни иметь управляющему монастырем помощников для надзора, «более соответствующих своему назначению»876.
Это оказалось делом непростым. Вместо наместника игумена Анастасия по представлению епископа Тихона 16 ноября временно был назначен духовник братии игумен Нифонт. 18 января 1911 г. Синодальная контора по предложению благочинного архимандрита Макария назначила наместником Воскресенского монастыря бывшего наместника Новоспасского монастыря игумена Тихона, отсутствием единодушия с которым еще раньше был озабочен архимандрит Макарий. Однако, по общему мнению, игумен Тихон был самым подходящим и полезнейшим в Ново-Иерусалимском монастыре как опытный рачительный хозяин, человек «строгого порядка и правил». Игумен Тихон приехал в Новый Иерусалим, но был отвергнут епископом Тихоном, ему пришлось жить в монастырской гостинице на правах богомольца. Для разрешения затруднительной ситуации игумен Тихон 29 января выехал в Оптину пустынь «к опытным в духовной жизни старцам – просить их доброго совета, наставления и благословения». Тем временем преосвященный Тихон слал телеграммы епископу Дмитровскому Трифону и в Святейший Синод, что он не хочет принять игумена Тихона.
В феврале 1911 г. Московская синодальная контора доносила в Святейший Синод, что она «безнадежно смотрит на управление Воскресенским монастырем под властию Преосвященного Тихона, как плохого хозяина и еще худшего администратора, ведущего к развалу эту столь знаменитую святыню», указывая на случай с разрушением плотины и ставшие достоянием газет беспорядки в монастыре877. Синодальная контора настаивала на назначении в Воскресенский монастырь наместником игумена Тихона «в надежде, что этот строгий и умный инок поспособствует восстановлению падающего монастыря». Прокурор же Конторы выражал сомнение, что «такое назначение делу все же не поможет, ибо Преосвященный Тихон, будучи неспособным, вместе с тем и весьма упрямым, – неразсудительность такого упрямства он не раз уже обнаруживал за время трехлетняго своего управления монастырем», а упрямство в деле с наместником «доводит его даже до безчинства»878. И все же в Святейшем Синоде, куда преосвященный Тихон прислал четыре телеграммы, признали его просьбу назначить наместника по его желанию заслуживающей удовлетворения. В итоге 22 марта 1911 г. наместником в монастырь был назначен архимандрит Иона (Лазарев), эконом Новгородского архиерейского дома [в сане епископа Велижского, викария Полоцкой епархии, 21 октября (н. ст.) 1937 г. он был расстрелян на полигоне в Бутово; в 2000 г. прославлен в Соборе новомучеников и исповедников российских]. 20 ноября 1910 г. в Воскресенский монастырь был принят послушником 19-летний Аггей Нилов; оставался послушником до самого закрытия монастыря, нес клиросное послушание879. Он также принял мученическую кончину – 5 февраля 1938 г. был расстрелян на бутовском полигоне880.
5 сентября 1911 г. умер П. А. Столыпин, и вскоре епископ Тихон был возвращен к архиерейскому служению – 25 июня 1912 г. он был назначен на Калужскую кафедру. Преосвященный прислал в монастырь туи, которые были высажены аллеей, ведущей к церкви Трех Святителей. 13 мая 1913 г. епископ Тихон был возведен в архиепископа Воронежского и Задонского881. По воспоминаниям келейника протоиерея Иоанна Житяева, преосвященный Тихон «был тихим, кротким, смиренным архипастырем, отличался необыкновенной добротой и был большим молитвенником… Простота, ласковость и душевность в обращении были отличительными чертами его духовного облика»882.
В 1914 г. он ходатайствовал о прославлении архиепископа Воронежского Антония (Смирницкого), нетление мощей которого он лично свидетельствовал. Канонизации помешала революция883. После февральских событий 1917 г. епископ Тихон занял позицию, «не соответствующую духу времени и новому государственному строю». Так, он не дал разрешения на просьбу городского священства устроить в течение дня колокольный звон в знак радости духовенства по случаю свержения монархии884. В его приемной портреты Императора Николая II, его супруги и Императора Александра III висели вплоть до его ареста 8 июня за неподчинение власти. В октябре 1919 г., когда Воронеж был занят белой армией, служил многочисленные панихиды по жертвам большевистского террора.
9 января (н. ст.) 1920 г. в Воронеже принял мученическую кончину от воинствующих безбожников: во время Литургии группа красноармейцев вошла через Царские врата в алтарь Благовещенского собора Митрофановского монастыря; их главарь, закурив папиросу от лампады семисвечника, сел на престол и объявил: архиерей как монархист и пособник белогвардейцев должен быть ликвидирован. Архиепископ Тихон был повешен на Царских вратах. Два месяца его запрещали хоронить. 2 марта он был погребен в склепе Благовещенского собора; после разрушения собора в 1956 г. перезахоронен на городском кладбище, а в 1993 г. его останки были перенесены во вновь созданный некрополь Воронежского Алексеевского Акатова монастыря. В 2000 г. причислен к лику святых в Соборе новомучеников и исповедников российских XX в.
Епископ Калужский и Боровский Александр (Головин) (1912–1916)
По окончании Тульской Духовной семинарии (1866) рукоположен во священника, состоял законоучителем сельского народного училища; в 1880 г. переведен в Тулу, 27 ноября 1890 г. пострижен в монашество, в 1896 г. закончил Санкт-Петербургскую Духовную академию и был командирован в Абиссинию с отрядом Красного Креста. В 1897 г. назначен настоятелем Троицкого Калязина монастыря с возведением в сан архимандрита, с 1899 г. начальник Русской Духовной миссии в Иерусалиме, 27 июля 1903 г. хиротонисан во епископа Старицкого, викария Тверской епархии. «В воздаяние подобающей ему чести и любви Святейшей Матери Церкви, за ревностное и усердное пастырское служение в Иерусалиме» был пожалован Патриархом Иерусалимским Дамианом золотым наперсным крестом с подлинной частицей древа Животворящего Креста Христа Спасителя, в удостоверение чего была выдана патриаршая грамота885.
С 1900 г. – пожизненный действительный член Православного Палестинского общества, с 1903 г. – товарищ председателя его Тверского отдела, с 1908 г. – епископ Орловский и Севский и председатель Орловского отдела Палестинского общества, с 31 декабря 1910 г. – епископ Калужский и Боровский. С 1911 г. – член Московского Археологического института, почетный член Орловского церковно-историко-археологического общества.
Епископ Александр был «пастырь добрый», готовый «душу свою положить за овцы своя». Его архипастырское служение совершалось в красоте кроткого и молчаливого духа (1Петр.3:4), главным было духовно-нравственное влияние на окружающих, созидание взаимного мира. Глубокая привязанность ко всему церковному, к святорусской старине сказывалась на его отношении к духовному сословию, которое он высоко ставил и защищал, когда это было необходимо. При нем светские власти не имели влияния на дела епархиального управления. В пастырях он старался пробудить дух ревности, призывал их к проповедничеству, к утверждению паствы в жизни трезвенной и благочестивой. Для него характерны были отеческое отношение к учащимся, беззлобность и безгневность, желание сделать добро всякому человеку. Особым его попечением пользовались вдовы и сироты духовных семей.
25 июня 1912 г. по слабости здоровья уволен от управления епархией и назначен настоятелем Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря, 9 августа прибыл в монастырь. Епископ Александр сразу обратил внимание, что обитель «далеко не имеет того цветущего вида, какой соответствовал бы ея высокому религиозному значению, и жизнь монашествующей братии протекает в очень неблагоприятных внешних условиях»886, они лишены самых элементарных требований гигиены и малейших жизненных удобств, и он с первых же дней занялся разработкой плана постройки новых братских корпусов. 12 августа он представил в Синодальную контору доклад о состоянии монастыря с предложениями по постройке новых зданий «со всеми новейшими приспособлениями, т.е. с центральным водяным отоплением, вентиляцией, водопроводом, промывными теплыми ватерклозетами и электрическим освещением», а в настоящее время – по проведению центрального водяного отопления в старые монастырские здания и установке всех новейших приспособлений в настоятельские покои887.
17 декабря монастырь осматривал академик архитектуры П. П. Покрышкин в сопровождении В. А. Попова, архитектора при Управлении синодальными недвижимыми имуществами в Москве и ее окрестностях888. 28 ноября 1913 г. на «реставрационном совещании» в Археологической комиссии, рассматривавшем проект новых братских корпусов, он дал заключение, что «вся масса проектируемых громоздких корпусов слишком нарушает спокойную гармонию общей группы монастырских зданий»889. После неоднократного пересоставления проекта, долгих согласований и доработок план построек и смета были одобрены Святейшим Синодом. Предполагалось снести два старых братских корпуса и построить новые двухэтажные, а находящийся между ними бывший дворец царевны Татианы Михайловны отремонтировать. Война задержала осуществление этих широких планов по переустройству монастыря, в апреле 1915 г. производство работ на столь значительную сумму «по соображениям финансового свойства» было признано до окончания войны несвоевременным890.
15 сентября 1912 г., ходатайствуя по просьбе братии перед Синодальной конторой об увеличении денежного содержания, епископ Александр писал, что при необходимости 7 месяцев в году совершать церковные службы в промерзлом от зимней стужи, холодном, вообще, и всегда сыром соборе, с неизбежными сквозняками, к которому едва ли возможно применить какую-либо систему отопления, при скудости содержания и крайнем убожестве жилых помещений «надо только удивляться, что находятся еще люди, при невозможной обстановке желающие трудиться в этой обители». Разрешенное конторой увеличение содержания было незначительным, и епископ Александр просил, чтобы, давая разрешение на увеличение личного состава монастыря, ему бы указывали, откуда брать содержание891.
13 мая 1913 г. епископ Александр ходатайствовал об устройстве коллектора и полей орошения. Предполагаемое устройство в новых братских корпусах водопровода с канализацией побудило преосвященного обратиться к более современному и рациональному способу очистки отхожих мест, так как в монастыре применялся «первобытный способ», для чего нанимались крестьяне деревни Макруши. Эти поля предполагалось устроить вдали от монастыря, на месте старой березовой рощи за монастырским скотным двором892. 12 июня 1913 г. местность, предназначенную для полей орошения, осматривал синодальный архитектор Попов893, разрешение было получено, и в мае следующего года преосвященный уже ходатайствовал об устройстве «дворовой сточной канализационной магистрали на поля орошения от покоев епископа Александра и покоев епископа Петра»894.
22 августа 1913 г. преосвященный Александр обратился в Синодальную контору с просьбой об устройстве каменных лестниц при своих покоях и покоях епископа Петра. Разрешение на переустройство двух парадных и двух черных лестниц было дано 31 мая 1914 г., после многократных переработок планов и смет, при этом было обращено внимание на то, чтобы в устройстве лестницы в церковь при покоях епископа Александра не вводить бетонных или иных частей, не отвечающих характеру всего здания, сделав их, например, из тесаного камня895. Чуть позднее, в конце июня, Археологическая комиссия уведомила, что на основании данных осмотра покоев епископа Александра, произведенного в декабре 1913 г. ее членом академиком архитектуры Покрышкиным, при перестройке лестниц в эти покоях «весьма желательно сохранить имеющуюся там баллюстраду начала XIX века, с типичными балясинами, постановкою ея в каком-либо ином помещении монастыря»896.
В феврале 1913 г. Звенигородская уездная земская управа ходатайствовала об уступке в собственность земства двух участков земли возле Елеонской часовни, принадлежащих Воскресенскому монастырю, для расширения усадьбы «Дома Призрения» имени Цуриковых. Это были единственные участки «по направлению к Елеонской часовне, оставшиеся после бывших, в разное время, захватов монастырской земли г. Воскресенском и частными лицами». В рассматриваемый момент эти участки находились в пользовании Звенигородского земства на правах аренды до 1919 г. Управляющим монастырем епископом Александром предполагалось эти земли использовать для постройки на них зданий монастырского училища на 100 человек, с общежитием, помещениями для прислуги, троих учителей и регента с семьями, а также устроения при этом училище ремесленных классов, и перевести в эти новые здания училище, помещавшееся у ворот монастыря. В освободившемся здании предполагалось разместить богадельню с больницей для монастырской братии. Епископ Александр «ни под какими условиями» не согласился уступить эти участки земли, «составляющие единственное владение монастыря, по направлению к Елеонской часовне, оставшиеся после бывших в разное время захватов монастырской земли городом Воскресенском и частными лицами, и что нахождение этих участков в пользовании Звенигородского земства, на правах аренды до 1919 г., не позволяет управлению монастыря использовать в настоящее время эту землю для своей неотложной надобности»897.
В мае 1913 г. «в виду возникшего спора Общества крестьян слободы Макруши Звенигородского уезда с Воскресенским Ново-Иерусалимским монастырем о земле при монастырской мельнице» было произведено размежевание спорных земель898.
28 июня 1913 г. сгорел монастырский скотный двор. 5 июля 1913 г. комиссия осматривала сгоревшие постройки скотного двора, был составлен акт899. Это происшествие имело своим последствием принятие по инициативе епископа Александра 20 августа управлением монастыря совместно с благочинным епископом Евфимием решения об устройстве электрического освещения как на скотном дворе, так и в самом монастыре, в монастырских гостиницах и в странноприимном доме, «так как электрическое освящение, как холодное, менее способствует возгоранию воспламеняющихся предметов»900.
19 декабря 1913 г. епископ Александр ходатайствовал о постройке на территории монастырской гостиницы деревянного двухэтажного дома для летнего помещения богомольцев, воспользовавшись для этого годным материалом мельничного амбара, построенного на месте бывшей монастырской мельницы, и деревянных частей плотины, которые уже несколько лет, со времени разрушения мельницы и плотины в 1909–1910 гг., стояли без всякой пользы для монастыря. После доработок проекта и согласований разрешение на постройку было дано 8 февраля 1914 г.901
В 1913 г. в Воскресенске была осуществлена постановка оперы М. И. Глинки «Жизнь за Царя» в ознаменование 300-летия дома Романовых, инициатором которой стал скрипичный квинтет, в который входили преподаватели монастырской школы; исполнителями оперы были солисты и хор Ново-Иерусалимского монастыря.
По указу 21 марта 1914 г. монастырем было выделено 10000 руб. на издание научного описания Патриаршей ризницы902.
В апреле 1914 г. епископ Александр вернулся к вопросу об устройстве водяного отопления, и, поскольку вопрос о переустройстве братских корпусов, а, следовательно, и общего для всех зданий отопления, все еще находился в процессе разработки, то он ходатайствовал об устройстве водяного отопления с вентиляцией только в помещении настоятеля903. В августе прокурор Синодальной конторы Ф. П. Степанов отвечал: «В виду предположенных к осуществлению больших жертв Ново-Иерусалимского Воскресенского монастыря на пользу больных и раненых воинов в нынешней войне, отказ от каковых мер представлялся бы весьма неудобным, не признаете ли возможным отложить дело до будущего лета»904. 2 июля 1914 г. он ходатайствовал об устройстве паркетных полов в покоях настоятеля и в сентябре получил разрешение на проведение работ905.
В 1914 г. Россия вступила в Первую мировую войну. В день начала войны, 20 июля, епископ Дмитровский Трифон (Туркестанов) совершил молебен на Красной площади и осенил собравшихся образом «Явления Божией Матери Преподобному Сергию». Начало военной кампании было ознаменовано подъемом патриотических чувств, надеждами на справедливое устроение Европы, на создание нового славянского братства. На богослужении в московском Успенском соборе 5 августа 1914 г. в речи, обращенной к пребывшему в Москву Императору Николаю Александровичу, владыка Трифон так выразил эти чувства: «Эта война предпринята нами не из каких-либо властолюбивых, горделивых замыслов, не из-за корыстных целей, не из выгод житейских, не из зависти и злобы к нашим противникам. Нет, мы выступаем за наших единоверных и единокровных братьев, мы выступаем за поруганную правду, за гонимую веру нашу святую, за Крест Христов, за честь и славу нашей Родины»906.
Указом Синодальной конторы от 21 августа 1914 г. монастырю было предписано вносить ежемесячно в течение войны по 2000 рублей на оборудование и содержание лазарета в Романовской больнице. Епископ Александр, в связи с этим ходатайствовал и перед конторой, и перед митрополитом Московским Макарием об освобождении, хотя бы временно, от других взносов, возложенных на монастырь: на содержание Экзарха Грузии, на нужды Синодальной, бывшей Патриаршей, библиотеки, на нужды Московской синодальной конторы, на воспитание несовершеннолетних преступников. В ходатайстве было отказано и сделано внушение, что «в нынешнее время напряжения всех сил страны, когда… все учреждения и частные и государственные обременены большими тяготами, безропотно несут многие непредвиденные большие, в такое время не соответственно было бы возбуждать какие-либо ходатайства о сложении таких тягот и расходов», и что имея внушительный монастырский капитал, «неблагоразумно было бы израсходовать его в настоящее военное время хотя бы и на постройку проектированных уже братских корпусов, разрешение каковой едва ли и ожидать можно в ближайшем времени»907.
22 сентября 1914 г. епископ Александр просил Синодальную контору разрешить переливку 8 старых разбитых колоколов весом 25 пудов на 8 новых колоколов, с добавлением 25 пудов нового материала и старого била в 10 пудов; разрешение было получено, и в конце ноября 80 пудов колоколов с принадлежностями отправлены в Ярославль на завод Оловянишникова для переливки908. В то же время было разрешено купить новые мелкие колокола для колокольни.
В ноябре 1914 г. епископ Петр, пребывавший на покое в обители, был отправлен на лечение в лечебницу для нервнобольных на Девичьем поле в Москве. Пройдя курс стационарного лечения, епископ Петр продолжал его там же амбулаторно909.
30 ноября 1914 г. Синод обратился с призывом «ко всем православным людям, обителям и всем церковным установлениям откликнуться своим содействием и выделить для нуждающихся в укреплении здоровья увечных воинов необходимые особые помещения»910. В Ново-Иерусалимском монастыре в помещении странноприимного дома был открыт лазарет для раненых воинов; монастырь также ежемесячно отчислял 2000 рублей на содержание лазарета для раненых воинов в Романовской больнице при Покровской женской общине911.
В 1912–1914 гг. в монастыре построена новая водокачка; в 1913–1914 – замощены площадь скотного двора и проезда, в помещении гостиниц, училища и во дворе устроен водопровод и промывные ватерклозеты; в 1914 г. построен флигель при гостинице, отремонтированы помещения в странноприимном доме; в 1913–1915 гг. устраиваются канализация и поля орошения, в 1915 г. куплены новые мелкие колокола для колокольни912.
12 марта 1915 г. епископ Александр ходатайствовал о приспособлении каменного двухэтажного здания монастырской школы к устройству в нем богадельни и больницы для призрения братии монастыря, которая вынуждена за медицинской помощью обращаться в больницу губернского земства в двух верстах от монастыря, а для монастырской школы выстроить здание на Новиковской земле в городе Воскресенске, принадлежащей монастырю. Синодальная контора отозвалась предложением представить сначала соответствующие планы и сметы913.
Преосвященный Александр хотел открыть в монастыре зал для палестинских чтений, но не успел эту мечту осуществить. Он скончался 4 февраля (ст. ст.) 1916 г. от артериосклероза и был погребен в приделе св. Марии Магдалины Воскресенского собора.
До назначения нового настоятеля его обязанности исполнял архимандрит Иона. 20 мая 1916 г. в обители ожидали приезда митрополита Московского Макария, предполагавшего при обозрении монастырей своей епархии переночевать в Воскресенском монастыре и 21 мая служить здесь, но вследствие неисправности проезжей дороги приехать не смог, и 21–22 мая всенощное и Литургию служил благочинный ставропигиальных монастырей епископ Евфимий, приехавший в монастырь для встречи митрополита Макария914.
Епископ Дмитровский Трифон (Туркестанов) (1916–1918)
Послушник прп. Амвросия Оптинского, с гимназических лет находился в духовном общении со старцем Варнавой Гефсиманским. Выпускник Московской Духовной академии (1895), в сане архимандрита ректор Вифанской, затем Московской (1899) Духовной семинарии, 1 июля 1901 г. хиротонисан во епископа Дмитровского, второго викария Московской епархии с пребыванием настоятелем Богоявленского монастыря. Протоиерей Валентин Амфитеатров, служивший в этот день в Архангельском соборе Кремля, обратился к молящимся с такими словами: «В этот час совершается хиротония князя Туркестанова, сына моей духовной дочери княгини Варвары Александровны, возблагодарим Господа, что к нам с неба явилась еще одна светлая звездочка, которая будет святить не только нам, но и всему миру»915.
С 1904 г. – первый (старший) викарий. Пребывая настоятелем Богоявленского монастыря, он благоустроил внешнюю и внутреннюю жизнь обители, заботясь о том, чтобы «все общество иноков… зиждилось на тех же твердых началах иноческой жизни, на каких основано было первоначальное монашество». Не забывал и о том, чтобы миряне «могли отдохнуть здесь душой, умиротвориться и успокоиться после всевозможных мирских соблазнов». Его служения отличались особой торжественностью и внутренней сосредоточенностью. Несколько раз в Богоявленском монастыре служил св. праведный Иоанн Кронштадтский. Как викарному епископу ему часто приходилось служить во многих столичных храмах, возглавлять крестные ходы, освящать церкви, участвовать в различных мероприятиях, совершать поездки по епархиям.
Во время революционных событий 1905 г. преосвященный Трифон призывал свою паству молиться и укрепляться таинствами: исповедоваться, причащаться. 9 мая 1905 г. он служил молебен на Красной площади, собравший множество верующих. В 1907 г. владыка послал в Оптину пустынь к старцу Варсонофию двух юношей – Николая и Ивана Беляевых. Николай стал впоследствии последним оптинским старцем Никоном. Летом 1912 г. епископ Трифон посетил Афон.
5 августа 1914 г. он встречал в Успенском соборе приехавшего в Москву в связи с началом войны Императора Николая II с царственным семейством, в приветственной речи называя Государя «поборником правды Божией и Креста Господня». В августе владыка, в возрасте 53 лет, отправился на фронт, подав прошение об увольнении на покой916. Преосвященный Трифон был полковым священником на передовых позициях, «за проявленную храбрость при совершении богослужений на линии огня и за беседы в окопах с воинами во время боя» награжден панагией на Георгиевской ленте из коллекции царского кабинета917.
После полученной на польском фронте контузии здоровье владыки Трифона было подорвано, один глаз почти утратил зрение, и 2 июня 1916 г. согласно прошению он был уволен на покой, но не по его желанию – в Оптину пустынь, а в Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь, на правах настоятеля с оставлением в должности сверхштатного члена Синодальной конторы. В управление монастырем он вступил 27 июня, приняв его от наместника архимандрита Ионы918. 1 июля состоялось его прощальное богослужение в Богоявленском монастыре, совпавшее с чествованием пятнадцатилетия пребывания в епископском сане. Епископ Волоколамский Феодор (Поздеевский) произнес проникновенное слово и преподнес на память от московских викариев икону Божией Матери Казанской, прихожане подарили ценную панагию и епископское облачение919.
В Новом Иерусалиме епископ Трифон занимался благотворительностью, благоукрашением монастырских храмов, часто тратя на это собственные средства. На свои средства он открыл около монастыря женскую гимназию, где иногда читал духовные лекции. Первое его выступление в гимназии было посвящено оптинскому старцу Амвросию и наследию Оптиной пустыни.
К владыке приезжали его духовные дети, иногда жили в обители по нескольку дней, останавливаясь в монастырской гостинице. Он требовал сосредоточенного, серьезного отношения к богослужению не только от монашествующих, но и от молящихся, и предупреждал, чтобы перед началом службы к нему не подходили под благословение, чтобы не рассеиваться.
6 июня 1917 г. епископ Трифон просил Синодальную контору разрешить выплатить вознаграждение архитектору Кузнецову за составление при епископе Александре проектов и смет на переустройство монастыря, он приложил сметы на постройку братских корпусов и на переустройство скотного двора; сметы на переустройство двух парадных лестниц и на водяное отопление находились, видимо, в канцелярии Синодальной конторы. Но еще и в конце сентября не была достигнута договоренность о сумме вознаграждения920.
В начале сентября 1916 г. епископ Трифон отбыл в действующую армию для несения архипастырских обязанностей; управление монастырем, до возвращения епископа Трифона, было возложено на наместника Иону со старшей братией921. После пребывания на румынском фронте владыка был награжден орденом св. блгв. кн. Александра Невского с мечами; он единственный из архиереев, удостоенный такой награды. В Новый Иерусалим вернулся в 1917 г. Он подал в Святейший Синод прошение «о предоставлении ему в управление Донского ставропигиального монастыря, если в сем монастыре освободится должность настоятеля».
В 1917 – начале 1918 г. владыка Трифон жил в Новом Иерусалиме безвыездно, ограничив свою деятельность богослужениями и духовничеством. Он даже не участвовал в работе открывшегося 15 августа 1917 г. в Москве Всероссийского Поместного Собора, хотя ему было предложено выставить свою кандидатуру на выборах Патриарха922. В это время он иногда молится в скиту Патриарха Никона923.
В январе 1918 г. наместник Воскресенского монастыря архимандрит Иона (Лазарев) был отправлен в распоряжение архиепископа Воронежского и Задонского Тихона (Никанорова).
20 января 1918 г. был опубликован «Декрет об отделении Церкви от государства и школы от Церкви», который стал юридическим обоснованием открывшегося с этого времени гонения на Церковь и разорения монастырей и храмов. В Воскресенском монастыре началась реквизиция монастырского имущества924: в начале года были реквизированы скотный двор и дрова в Рамской роще на р. Песочне, затем были отчуждены монастырские сады и пчельник, позднее – монастырская гостиница. На донесения из монастыря о реквизиции Патриаршее Управление отвечало рекомендациями подавать протесты губернскому съезду рабочих и крестьянских депутатов и «опираться на богомольцев и почитателей монастыря». 14 февраля (н. ст.) 1918 г.925 в Москве, на общем собрании созданного в октябре 1917 г. Московского Братства – Союза ревнителей и проповедников православия, Патриарх Тихон говорил о настоятельной необходимости «немедленного и стройного собирания в церковные союзы всех верных Церкви сынов в полном единении с Архипастырями и пастырями».
После появления «Декрета об отделении Церкви…», лишавшего Церковь юридических прав, имущества и права обучения детей, архиепископ Трифон настаивал, чтобы Патриарх Тихон в знак протеста объявил всероссийский интердикт – прекратил богослужения во всех церквах страны. Патриарх отлучил коммунистов от Церкви, но на интердикт не решился. Тогда архиепископ Трифон отказался от активного участия в жизни Церкви и ушел на покой926.
1 апреля 1918 г. постановлением Патриарха и Синода епископ Трифон был освобожден от управления Ново-Иерусалимским монастырем, при этом вопрос о назначении нового управляющего предполагалось рассматривать «особо». Епископ Трифон переехал на жительство в московский Донской монастырь, впоследствии жил в Москве у родственников и духовных чад. На Пасху 1918 г., 5 мая, было последнее богослужение в Успенском соборе тогда уже закрытого для народа Кремля, состоявшееся по специальному указанию Ленина, данному с целью успокоить ходившие в народе толки об осквернении и распродаже кремлевских святынь; пасхальную утреню и Литургию служил Патриарх Тихон. Считается, что момент окончания этой службы стал прообразом сюжета главного произведения художника Павла Корина «Русь уходящая», для которого им был написан и портрет епископа Трифона. В 1923 г. Трифон был возведен в сан архиепископа. Он часто служил в московских храмах и всегда проповедовал, во время его служб храмы были переполнены молящимися. В эти годы «он был еще исключительно красив какой-то восточной красотой, имел правильные черты лица и подлинно соколиный взгляд. Голос тоже не соответствовал росту: говорил Трифон громким, проникновенным басом, звучным, торжественным, старчески значительным. Все построение речи было старомодным, чем-то даже напоминающим оды XVIII века, помпезным, с большим чувством стиля, подчеркивающим глубину содержания. В лице владыки Трифона говорила старая Москва, мудрая и величавая»927.
К нему с большой любовью относился Патриарх Тихон, с которым он часто вместе служил, причем другие сослужащие архиереи уступали ему место рядом с Патриархом. Ценны для нас слова, сказанные преосвященным Трифоном при отпевании Патриарха Тихона 12 апреля 1925 г.: «Помню, как однажды он утешал и назидал меня, увы, часто, несмотря на годы и долговременную монашескую жизнь, малодушного, способного долго раздражаться… я буду до конца дней вспоминать… его доброе милое лицо, озаренное любовью и лаской, его чудные очи, сияющие светом любви в жуткой пустыне нашей…»928.
Интересна его дневниковая запись 1928 г. о нездоровье сознания современного человека: «Самоанализ, размышление человека о самом себе обладает разлагающей силой и ведет к разочарованию. Развивает тогда и чувствительность. В чем болезнь нашего века: это мука о неизвестном, жажда идеала, томление неудовлетворенной мысли. Никогда еще человечество в такой степени не страдало болезнью Прометея, похитившего огонь с неба, как в настоящее время… Страстная жажда познаний, ничем не утоляется, потому что предмет ее бесконечен, как хищная птица сосет мозг современного человечества»929.
В 1929 г. им написан благодарственный акафист Спасителю «Слава Богу за все». 14 июля 1931 г., в связи с тридцатилетием служения в епископском сане, – преосвященный Трифон был возведен в сан митрополита, что для находящегося на покое архиерея – крайняя редкость. Скончался 14 июня 1934 г. и погребен на Введенском кладбище в Москве. Прощание было совершено в соответствии с завещанием владыки: он был положен в мантии и клобуке, отпевание совершено по монашескому чину, а у гроба не произносили речей, как это было принято в Древней Руси. В 1956 г. могила была вскрыта, гроб оказался не тронут тлением.
Архиепископ Нижегородский и Арзамасский Иоаким (Левицкий) (1918–1919)
Выпускник Киевской Духовной академии (1879), преподавал в Рижской Духовной семинарии; с 1880 г. иерей Рижского кафедрального собора, законоучитель Рижского пехотно-юнкерского училища (1880–1882) и Рижского высшего девичьего частного училища Тайловой (1883–1886), ректор Рижской Духовной семинарии в сане архимандрита (1893). 14 января 1896 г. рукоположен во епископа Балтского, викария Подольской епархии, с 1897 г. – епископ Брестский, викарий Литовской епархии, с 1900 г. – епископ Гродненский и Брестский, с 1903 г. – епископ Оренбургский и Уральский (с 1908 г. именовался Оренбургский и Тургайский), в 1909 г. назначен присутствующим членом Св. Синода, с 1910 г. – епископ Нижегородский и Арзамасский, с 1916 г. архиепископ.
Был первым епископом самостоятельной Гродненской епархии, занимался организаторской деятельностью в новой епархии. В «Отзыве» по вопросам церковной реформы, составленном по запросу Св. Синода правящим архиереям в июле 1905 г., епископ Иоаким высказался в защиту восстановления Патриаршества: «Соборно-патриаршая форма церковного устройства представляет собой наиболее совершенную форму организации высшего поместного церковного управления»930. Пребывая на Оренбургской кафедре, ежегодно объезжал обширную, в три тысячи верст, епархию, служил литургии и проповедовал; благодаря организации им миссионерской деятельности и личным трудам большое число иноверцев, а также сектантов и старообрядцев присоединились к Православной Церкви; открывая единоверческие приходы, он сам служил в них по старопечатным книгам. Он способствовал открытию новых церковных школ, благотворил малоимущим семинаристам – одевая их на свои средства, рукоположенным им священникам – снабжая деньгами на обзаведение хозяйством. В день его отъезда из Оренбурга на Нижегородскую кафедру в Нижний Новгород была послана телеграмма от общего пастырского собрания Оренбурга: «Духовенство г. Оренбурга, с глубокой скорбью проводив незабвенного, благостного владыку Иоакима, сердечно приветствует собратьев нижегородцев с любвеобильным архипастырем, какой послан Вам Промыслом Божиим».
На Нижегородской кафедре епископ Иоаким продолжил миссионерские труды, предпринял меры к открытию новых церковных приходов и сооружению в них храмов. При нем улучшилось материальное положение преподавателей духовных школ, обитателей сиротских заведений и богаделен. В 1913 г. он принимал в Нижнем Новгороде Императора Николая II с царственным семейством и приветствовал их речью со словами: «Чувствами искренней любви и беззаветной преданности пламенеют сердца наши к Тебе, Божий Помазанник! Несказанно счастливы мы лицезреть с Тобою Государыню Императрицу, надежду России Государя наследника и всю Твою Царственную Семью».
«Необыкновенная энергия, трудоспособность и личная инициатива, соединенная с богатою административною опытностью по всем делам церковного управления, выражаются во всех его деяниях», – писал «Нижегородский церковно-общественный вестник» в сентябре 1914 г. В годы Первой мировой войны в епархии собирались обильные пожертвования, был открыт епархиальный лазарет для раненых и больных воинов, подобные лазареты и приюты для беженцев и осиротевших детей действовали почти во всех монастырях.
Во время февральского переворота 1917 г. владыка, исполняя обязанности члена Св. Синода, был в Петербурге. В епархии же с первых дней революции разгорелись конфликты мирян с духовенством и другие нестроения. В печати появились требования об удалении на покой архиепископа Иоакима, обвинявшегося в симонии и связях с крайне правыми силами. 23 марта преосвященный Иоаким вернулся в Нижний Новгород и на собрании городского духовенства давал объяснения по поводу порочащих его обвинений, заключив свое выступление словами: «Теперь у нас другое правительство, и я опять не за страх, а за совесть служу новому правительству. И вам то же самое предлагаю, “несть бо власть, аще не от Бога”»931.
Архиепископ Иоаким был участником Поместного собора. В январе 1918 г., перед отъездом на очередную его сессию, он выступал в Нижнем Новгороде на открытии христианских курсов и говорил, что нынешние тяжелые события происходят «от незримой, неуловимой, таинственной, адской силы, скрывающейся под именем масонства, прикровенно заменившего истинное богопознание и богопочитание сатанизмом…»932.
Зимняя сессия Св. Синода открылась 20 января 1918 г. Обер-прокурор Синода В. Н. Львов добился роспуска ее состава как составленного «темными силами» (Распутиным) и несущего в условиях «новой жизни» опасность отделения Церкви от епископата933. Сторонники новой власти возражали против возвращения преосвященного Иоакима в епархию, о чем Синод был уведомлен местным исполкомом еще летом 1917 г.; по предложению владыки непосредственное руководство епархией осуществлял викарный епископ Балахнинский Лаврентий (Князев).
Под давлением обстоятельств архиепископ Иоаким 21 марта 1918 г. подал прошение о перемещении его на настоятельское место в Ново-Иерусалимский монастырь, и 28 марта постановлением Патриарха и Синода просьба была удовлетворена – он был уволен на покой и назначен управляющим Воскресенским Ново-Иерусалимским монастырем на правах настоятеля. Владыка предложил архимандриту нижегородского Оранского монастыря Августину (Пятницкому) поехать вместе с ним и быть наместником в Воскресенском монастыре. Но этого не случилось. На архимандрита Августина было заведено дело в связи с анонимным доносом на него в нижегородскую ЧК насельников монастыря, которое закончилось его арестом и расстрелом 18/31 августа934.
В мае преосвященный Иоаким попрощался с нижегородской паствой и выехал в Новый Иерусалим. При нем продолжалась реквизиция монастырского имущества. Следуя указаниям Патриарха Тихона, преосвященный Иоаким организовал Союз защитников православия, или Братство ревнителей и проповедников православия. В это братство входили как сами монашествующие, так священники и миряне города Воскресенска и ближних деревень, в частности: настоятель городской Вознесенской церкви о. Василий Смирнов, о. Иоанн Беляев из Преображенской церкви с. Никулина, 8 монашествующих из братии – всего около 70 человек. Организационное собрание Братства состоялось 22 июня 1918 г. На 6 августа было намечено проведение в монастыре собрания верующих, ожидался приезд Патриарха Тихона, а на следующий день должен был состояться крестный ход. С ведома настоятеля об этом собрании заранее были оповещены прихожане близлежащих деревень. По приходским общинам было распространено обращение, в котором говорилось о переживаемых монастырской братией трудных временах в связи с незаконным отобранием у монастыря советской властью имущества, отчего монастырь поставлен в положение нуждающегося, братия чуть не умирает с голоду, тогда как в прошлом обитель кормила и призревала до тысячи человек братии, выделяла из своих средств на благотворительные дела и миссионерское Общество до 40 тыс. руб. в год, принимала в странноприимном доме до 35 тыс. странников в год, содержала во время последней войны и прежде лазарет на 100 больных и раненых воинов, а также давала полное содержание состоявшему при монастыре училищу.
Казначей монастыря через старосту Сергея Липатова созвал сельский сход, на котором призывал население с. Макруши с утра в воскресенье 4 августа прийти в монастырь для слушания проповеди, где будет сказано о намерении местного Совета отобрать у обители все продукты и, таким образом, разграбить. Говорил, что есть слухи, что скоро из Москвы приедут большевики и будут забирать драгоценности из храма, а в храм будут ставить лошадей; что уже сейчас у монахов забрали коров и лошадей, лишили гостиницы. «Просим вас, братцы, войти в наше положение и не дать этого сделать и осквер нить храм… Архиерей говорил, что церкви должны прикрыться… просил граждан, своих выборных, чтобы вернули все обратно, указывал, что взяли последнюю лошадь, и ему пришлось идти пешком», – говорил казначей монастыря.
Воскресенские власти переполошились и разослали во все организации телеграммы. В ночь на 6 августа председатель райсовета срочной телеграммой в Московский Совет сообщал о проведенных в связи с предстоящим собранием мероприятиях и о полной боевой готовности местного отряда Красной армии и милиции, а также просил прислать 50–100 человек из Павловского полка и броневую машину. Военный комиссар просил Звенигородский Уездный Военный Комиссариат срочно прислать латышский отряд в 50 человек, при боевом снаряжении.
6 августа в Новый Иерусалим приехал Патриарх Тихон, но крестный ход, который больше всего беспокоил местные власти, не состоялся по причине неожиданного отъезда Святейшего из монастыря.
По факту распространенного монастырской братией обращения было возбуждено дело о «Контрреволюционном выступлении монастырской братии Ново-Иерусалимского монастыря», в ходе предварительного следствия было допрошено 89 человек.
С осени развернулась активная деятельность членов Братства ревнителей и проповедников православия по привлечению верующих и сбору средств в пользу монастырской общины. Рассылались ходатайства в различные учреждения о возвращении имущества монастыря, но безрезультатно.
Архиепископ Иоаким в сентябре 1918 г. выехал в Крым к сыну и был расстрелян (по другим данным, повешен) неизвестными людьми935 на даче под Севастополем. Дата смерти указывается различно, но не ранее октября 1918 г.936
19 ноября 1918 г. последовало Постановление следственной комиссии Московского Ревтрибунала о прекращении делопроизводства по делу о «контрреволюционном выступлении монастырской братии Ново-Иерусалимского монастыря» ввиду отсутствия состава преступления. Арестованные монахи были освобождены.
Епископ Сарапульский и Елабужский Палладий (Добронравов) (1919)
Выпускник Московской Духовной академии в сане иеромонаха (1891), назначен смотрителем Коломенского Духовного училища, через несколько месяцев – Звенигородского; с 1892 г. – преподаватель Вологодской Духовной семинарии, с 1894 г. – Могилевской, с 1896 г. – Тульской. С 1897 г. в сане архимандрита наблюдатель миссионерских курсов при Казанской Духовной академии, ректор Литовской Духовной семинарии (1899), синодальный ризничий (1901). 6 декабря 1903 г. хиротонисан во епископа Вольского, викария Саратовской епархии. В речи при наречении во епископа архимандрит Палладий говорил: «…Не неведомы мне подвиги святителей древних. Не неведома мне тягота епископского делания в наше время… В своем святительском подвиге епископ не одинок. Он почерпает великую силу в дивном духовном единстве сонма святителей Церкви Православной на протяжении всех веков. Не в разные стороны направляется их деятельность, не чужды они друг другу по своим убеждениям, целям и образу действий. Они проповедают людям Христа распятого, хранят предания церковные, блюдут красоту и целость древнего чина богослужебного. Не нужно пастырям новейших времен искать каких-нибудь новых путей для своей паствы: вся минувшая судьба Церкви довольно учит епископов, и светлые образы древних святителей невольно влекут к подражанию и новых делателей на ниве Божией… Прошу вас, святители Божии, присоедините к моей немощной мольбе вашу молитву к Богу, да даст Он мне дух любви и ревности, дух благочестия и чистоты, дух спасительного смирения. Уповаю, что по вашим молитвам снидет на меня Дух Божий, и пойду я тогда в путь свой радуяся. Пойду на подвиг пастырский…»937.
В 1908 г. назначен епископом Пермским и Соликамским, с 1914 г. – епископ Саратовский и Царицынский, с 6 мая 1917 г. – епископ Сарапульский и Елабужский.
3–6 марта 1917 г. более десятка архиереев направили телеграммы на имя председателя Временного правительства кн. Г. Е. Львова, председателя Государственной думы М. В. Родзянко и обер-прокурора Св. Синода В. Н. Львова с приветствиями, молитвенными пожеланиями успехов и благополучия Временному Правительству, среди них был и епископ Саратовский Палладий. 5 марта он обратился к епархиальному духовенству с призывом «оказывать деятельную поддержку Временному Правительству разъяснением пастве общего нашего долга подчинения новой законной власти и призывом к спокойному продолжению обычных трудов во славу Церкви и дорогой Родины»938.
Причиной перевода преосвященного Палладия в Сарапульскую епархию стал конфликт между ним и викарным епископом Петровским Леонтием (фон-Вимпфен), который, будучи человеком чрезвычайно отзывчивым и сострадательным, не боялся, вступаясь за обиженных, входить в конфликт с властями предержащими. В данном случае, епископ Леонтий, несогласный с некоторыми действиями правящего архиерея, попытался сместить его с кафедры. Конфликт закончился удалением обоих с кафедр по решению епархиального съезда.
Епископ Палладий был участником Поместного Собора 1917 г. Выступал с предложениями по решению проблемы совершения Евхаристии в условиях недостатка хлеба и вина. Он предложил применять для просфор муку более низкого сорта, принимать нужное от церкви от прихожан необходимое, распределять между богатыми и бедными церквами для таинства.
Епископ Палладий был личным другом Патриарха Тихона. Во всех епархиях, где служил преосвященный Палладий, он стяжал любовь народа и большинства духовенства. Он был поборником строгой уставной службы, уделяя большое внимание ясности и выразительности клиросного пения. Пребывая на Пермской кафедре, он поддерживал многочисленные кружки любителей церковного пения, кружки ревнителей православия; по его почину возникло «трезвенное движение» с образованием при церквах обществ трезвости, открыта татарско-миссионерская школа для подготовки пастырей-миссионеров, учрежден проповеднический наблюдательный комитет для поднятия уровня проповеднической деятельности духовенства.
Во время первой мировой войны по его инициативе при всех приходских церквах Саратовской епархии были учреждены сестричества по уходу за ранеными; был создан Епархиальный комитет по устройству быта беженцев, прибывавших в епархию из Западных губерний, для которых при участии преосвященного было открыты приюты и школы. В 1918 г. епископ Палладий был назначен управляющим Воскресенским Ново-Иерусалимским монастырем, но на место служения не выехал, зиму 1918–1919 гг. провел в Москве, служа в Рождественском монастыре.
В феврале 1919 г. ликвидационный отдел Звенигородского управления юстиции сообщал в докладной записке в Звенигородский уездный Совет: «Все имущество церквей как по волостям, так и по г. Воскресенску и монастырю описано и передано в первом случае приходским общинам, а монастырское – братству ревнителей… Местный монастырь, именуемый Новый Иерусалим, целиком со всем имуществом и штатом описан и взят на учет. Местным отделом социального обеспечения там устроены богадельня и ясли, для чего приспособлены помещения бывших епископов. Монахов до Октябрьского переворота было около 50, теперь же осталось около 30… Одно время монахи стали распространять среди крестьян слухи о том, что они страшно бедствуют и голодают, и просили подаяния. Отделом приняты были меры к успокоению их, и они начали разбегаться. Скотный двор монастыря взят местным [земотделом] со всем инвентарем. Все имущество и драгоценности взяты по описи на учет… Монахи назначаются на работы, как и все буржуи, а также и зарегистрированы. Случаев снятия с себя священного сана не было»939.
По указу Святейшего Патриарха Тихона епископ Палладий прибыл 25 мая (ст. ст.) / 7 июня (н. ст.) 1919 г. в Ново-Иерусалимский монастырь к Троицыну дню, но вскоре заболел сыпным тифом.
В июне по Звенигородскому уезду стали распространяться слухи о скором закрытии Ново-Иерусалимского монастыря. 18 июня Воскресенский исполком принял решение об освобождении бывших покоев епископа Петра для устройства столовой богадельни. В связи с этим Братству предлагалось очистить помещения в монастыре, разобрав иконостас и алтарь. 29 июня на Звенигородском уездном съезде Советов было решено «в течение месяца от сего дня выселить все монашеское население из всех монастырей Звенигородского уезда», обосновывая это тем, что монастыри являются не только очагами контрреволюции и отживших суеверий, но и «местами растления гражданской нравственности». Поводом для принятия такого решения послужили возмущение и протест жителей Звенигорода и богомольцев Саввино-Сторожевского монастыря против святотатства при вскрытии мощей прп. Саввы Сторожевского.
В Воскресенском монастыре в связи со слухами о закрытии обители решено было устроить собрание членов Братства ревнителей и проповедников православия. Во все приходские общины были разосланы приглашения от монастырской братии с предложением прислать на собрание своих выборщиков для обсуждения всем миром создавшегося положения. Каждая сельская община на своем собрании избрала выборщиков и направила их на собрание Братства с определенными полномочиями, изложенными в заявлении. Общая мысль всех заявлений состояла в желании помочь братии в создавшемся тяжелом положении, «чтобы Новый Иерусалим существовал, как и было раньше», что существование и процветание обители «весьма желательно всем жителям».
На собрание Братства 6 июля (по другим данным, 7 июля) собралось, кроме монастырской братии, 500 выборщиков. В протоколе собрания было отмечено, что «положение братии за последнее время отчаянное, доведшее ее до нищенства и попрошайничества». Собрание единогласно приняло решение поддерживать братию продовольствием, топливом и всем необходимым для существования, а также утвердило обращение к властям с просьбой об освобождении духовенства от принудительных работ.
12 июля состоялось второе собрание Братства, на которое был приглашен председатель (по другим данным, представитель) Воскресенского Совета для выяснения дальнейшей судьбы монастыря. Собрание было бурным, раздавалось много «оскорбительных выкриков» против представителей местного Совдепа. Выступавший на собрании председатель райсовета, уже зная о предстоящей национализации монастырей по всему уезду, уверял собравшихся в ложности слухов о закрытии Ново-Иерусалимского монастыря и даже грозил за распространение этих слухов карой вплоть до расстрела.
Ночью 13 июля в монастырь явился его комендант Николаев с товарищами и вооруженными солдатами, потребовал ключи от храмов и других помещений и объявил, что с сего числа монастырь закрыт, и службы в храме на время прекращаются; председатель Братства и самые активные его члены, а также 14 монахов во главе с игуменом Кириллом были арестованы. Епископ Палладий в это время был болен и не вставал с постели. Игумен Кирилл, по всей видимости исполнявший обязанности наместника, – это, полагаем, Кирилл (в миру Андрей) Светозаров, ставший в 1904 г. первым пострижеником архимандрита Серафима (Чичагова, прославлен в лике святых) и им же в этом году рукоположенный во иеродиакона940, в 1910 г. рукоположенный во иеромонаха епископом Тихоном (Никаноровым, прославлен в лике святых). В послужном списке монашествующих за 1915 г. он числится казначеем (назначен в 1912 г.)941.
18 июля было утверждено обвинительное заключение по делу Братства. В нем отмечалось, что только неправильные действия местных властей стали причиной бурных выступлений верующих на собрании. Особое их возмущение вызвало поведение временного коменданта монастыря, большевика Николаева, который «нарядился в архиерейское облачение и с посохом в руках гулял по монастырю». Всем арестованным было предъявлено обвинение в «агитации против местного Совета, а также, в общем, против советской власти». Проводивший расследование следователь Г. И. Соколов навестил помещенного в земскую больницу епископа Палладия и объявил, что тот может считать себя свободным и что он, Соколов, сомневается в законности закрытия монастыря.
Указом Патриарха Тихона от 13 августа 1919 г. епископу Палладию предписывалось во всех случаях сношений с властью опираться на богомольцев и почитателей монастыря.
15 августа в монастырь приехал другой следователь – главный «эксперт» по монастырям И. А. Шпицберг – и в тот же день допросил более 10 человек. Давлением на них ему удалось узнать фамилии приезжавших в монастырь людей, близких к Патриарху Тихону, и монахов, общавшихся с приезжими, а также выявить членов Братства ревнителей и собрать сведения на епископа Палладия. Монахи, представлявшиеся наиболее «опасными», были отправлены в звенигородскую тюрьму, а их дела переданы в Московский трибунал. Остальных временно поместили в богадельню, устроенную в настоятельских покоях.
По клеветническому доносу послушника В. М. Колесова епископ Палладий был обвинен в безнравственности и разврате (растлении малолетнего послушника) и в октябре 1919 г. предстал перед судом в г. Москве942. Обвинение не подтвердилось, но владыка был осужден. Вскоре он был амнистирован и уволен на покой согласно прошению. В 1919– 1922 гг. был настоятелем Ново-Спасского монастыря. Ново-Спасский монастырь был закрыт новой властью в 1918 г. К осени здесь уже действовал концентрационный лагерь. В первые годы здесь находилась женская тюрьма, затем исправительно-трудовой лагерь для уголовников и политических заключенных. Скончался епископ Палладий в 1922 г. от астмы.
Архимандрит Исихий (1919–1929)
11 ноября 1919 г. дело Братства ревнителей было закрыто, поскольку «беспорядки, возникшие в связи с Ново-Иерусалимским монастырем… не повлекли за собой ни человеческих жизней, ни низвержения местной советской власти», а Звенигородский Совет депутатов вынес постановление о полном выселении монахов с территории монастыря и снятии их с довольствия, и Воскресенский монастырь Нового Иерусалима был окончательно закрыт.
Находившиеся с июля в тюрьме монахи были освобождены после 14 ноября, за исключением игумена Кирилла, которого предлагалось передать в Губчека. Но трое монахов, Кирилл, Иоакинф и Сысой, были освобождены только 9 января 1920 г.
Зимой 1919–1920 г. на территории монастыря открылся Историко-художественный музей. На монастырских воротах была вывешена железная доска с надписью: «Великая русская революция передала Ново-Иерусалимский монастырь и собор народу. Отныне, перестав служить делам культа, он является художественно-историческим памятником старины Всероссийского значения». В ноябре 1921 г. появился Музей местного края, а в апреле 1922 г. оба музея были объединены.
После закрытия монастыря на его территории организовалась сельскохозяйственная артель из монахов, постепенно восстановилась монашеская жизнь. Видимо, именно в эти годы архимандритом монастыря был Исихий (Подлуцкий), последний Ново-Иерусалимский архимандрит (расстрелян 4 июля 1938 г. в Бутово)943. В начале 1920-х гг. сюда приехал Иван Софронов, в день, когда должны были быть устроены смотрины найденной для него родителями невесты, дочери местного кабатчика. В 1922 г. Иван был пострижен в мантию с именем Иосиф, рукоположен во иеродиакона, в 1929 г. – во иеромонаха. Он стал последним монахом Нового Иерусалима.
В 1928 г. в Новый Иерусалим приехал Сталин. Походил, посмотрел и сказал: «Вот как раньше строили. Еще сто лет и больше простоит!» А через несколько дней после его визита в монастырь приехали чекисты и выгнали всех монахов944.
Иеромонах Иосиф Софронов в 1929 г. вернулся на родину в Тульскую область и служил в соборе г. Ефремова, занимался миссионерской деятельностью. С 1931 г. претерпел четыре ареста и около двадцати лет лагерей и тюрем: 1931–1936 гг. – Соловки и затем поселение, 1949–1951 и 1959–1964 гг. – северные лагеря; последний арест в 1985 г. по обвинению в шпионаже, пытки (закручивание на голове металлического обруча до потери сознания), заключение в 1986–1987 гг. – сначала в следственном изоляторе тюрьмы «Кресты» г. Ленинграда, а затем в психиатрической больнице закрытого типа, из которой он был освобожден благодаря вмешательству митрополита Ленинградского Алексия, будущего Патриарха.
С поселения в пос. Медвежья Гора после первого своего заключения о. Иосиф ушел в Финляндию. Здесь тоже сначала был лагерь, потом служил на приходе, ездил в Париж к митрополиту Евлогию (Георгиевскому) за святым миром. В 1946 г. вместе с группой священников, служивших в Финляндии, вернулся в Россию по приглашению Патриарха Алексия (Симанского). 1 апреля 1958 г. был возведен в сан игумена, 29 апреля 1978 г. – архимандрита. Последним местом его служения, с 1964 г., стал храм Успения Божией Матери в деревне Внуто Хвойнинского района Новгородской области.
В 1988 г. архимандрит Иосиф был в Новом Иерусалиме. Обошел весь монастырь, показал, где была его келья, рассказал, как все мерзли на Светлое Воскресение в Воскресенском соборе; потом спустились в Гефсиманский сад, подошли к Иордану. За монастырской стеной батюшка молился у места, где большевики расстреливали монахов… В последние годы жизни о. Иосифа по бывшему ему сонному видению им были обретены мощи покровителя края преподобного Никандра Городноезерского, перенесены во внутовский храм и помещены в изготовленную по заказу деревянную раку. Архимандрит Иосиф скончался 16 августа 1993 г., погребен за алтарем Успенского храма.
Он был истинным подвижником, исповедником, молитвенником. Простота, доступность, духовная сила и опытность, проистекавшие из многотерпения скорбей, крепкой веры, горения к Богу и служения Ему, влекли к нему многих и многих, и он указывал путь к Богу: «Мы должны кричать ко Господу – такое покаяние вам предлагаю, о таком прошу. Удаленному от Господа быть очень тяжело. Тем более в наше время. Оно приближает нас к покаянию. Кайтесь, молитесь, просите Господа, дабы он благословил нас от сего времени и во веки. Аминь».
Обозрение истории Воскресенского монастыря в деятельности ее настоятелей выявляет несколько периодов его бытования. Первый и основополагающий, когда монастырь строился непосредственно Патриархом Никоном и затем его устроение продолжали его ближайшие ученики и сподвижники, духовно выросшие под его крылом и впитавшие его замыслы. К концу XVII столетия, а одновременно и к концу Патриаршества в России Воскресенский монастырь Нового Иерусалима был построен.
Далее, первая четверть XVIII в. – время переустройства высшего церковного управления. 16 октября 1700 г. скончался Патриарх Адриан, во временное управление Церковью вступил Патриарший местоблюститель Стефан (Яворский). В 1721 г. 1 января взамен патриаршей власти и поместных Соборов Царем Петром Алексеевичем учреждена Духовная коллегия, 14 февраля переименованная в Святейший Синод; 14 августа – определением Синода запрещено творить поклонение патриаршим местам, а патриаршие посохи велено убрать в ризницу; 22 октября Россия провозглашена империей. В 1722 г. 15 января по именному государеву указу в Крестовой палате Патриаршего дворца взамен патриаршего кресла поставлены место императорское и стол для заседаний; 27 ноября скончался местоблюститель Патриаршего престола Стефан.
В это же время в Воскресенском монастыре запрещено строительство и поновление зданий, и даже снято железо с кровель Воскресенского собора и отправлено в Москву, шатер же покрыт тесом. Из монастыря постоянно по царскому указу забираются работники в Санкт-Петербург, в Воронеж, на Ладогу; поставляются лошади и сено для драгунских полков, тряпки и ветошь для бумажного завода в Москве и т.п. Кроме того, Царь Петр ввел в практику насильственное заселение монастырей отставными военными, инвалидами и даже преступниками945. Все это закончилось обрушением 23 мая 1723 г. каменного шатра над ротондой Гроба Господня.
Начало второй четверти XVIII в. ознаменовалось дальнейшей реформой церковного управления – 8 февраля 1726 г. учрежден Верховный тайный совет, которому постановлением от 16 марта Святейший Синод стал подотчетен. А ровно через полгода после этого, 17 сентября, в Воскресенском монастыре произошел большой пожар, приведший к еще большему разорению обители, в его огне сгорели и хоромы Патриарха Никона. И, хотя к восстановительным работам в монастыре был привлечен один из лучших архитекторов своего времени И. Ф. Мичурин, в 40-х гг. Воскресенский собор все еще пребывал в плачевном состоянии. В 1745 г. – «верх протекает сквозь своды, крыша ветха и великая течь от дождей и позеленели своды, в церкви от водяной течи невозможно стоять во время ненастное». К 1748 г. – «такие преумножились в той церкви течи, что во время дождя непрестанно подставляют кадки и ушатами из церкви выносят воду, и верхние своды… стали рушиться и великая часть того свода уже упала, и в олтаре большом и за олтарем непрестанно кирпичи падают»946.
В середине XVIII в. стать вторым строителем Воскресенского собора выпало архимандриту Амвросию Зертис-Каменскому (1748–1765), желанием и попечительством Императрицы Елизаветы Петровны возобновившему его, правда уже в отличном от первоначального художественном стиле – в стиле барокко. Вторая половина XVIII в. посвящена завершению обновления Воскресенского собора, освящению его приделов и благоустроению западного комплекса монастырских зданий с церковью Рождества Христова в центре, покоев, предназначенных для приема особ Царствующего дома – в правом крыле, в левом крыле – келий настоятеля.
В самом конце XVIII столетия, при архимандрите Варлааме (1792–1799), начинается устроение новых приделов на хорах Воскресенского собора и продолжается почти все следующее столетие. Они не изменили облик собора, сложившийся к середине XVIII в., поскольку находились во втором ярусе, имели небольшие размеры. Особенностью их является присутствие в иконостасах, как правило, икон небесных покровителей устроителей придела.
Из настоятелей этого времени архимандрит Мелхиседек II (1805–1813) памятен спасением монастырской ризницы в 1812 г. и произведенной по собственной инициативе и оказавшейся неудачной перестройкой интерьера Рождественского собора, через 35 лет благополучно исправленной Мелхиседеком III (1851–1852).
Архимандриту Арсению (1837–1843), несмотря на «слабость управления», благодаря заступничеству митрополита Филарета (Дроздова), знавшего его долгое честное служение, выпала честь управлять монастырем во время обновления и освящения в нем Гроба Господня, а затем и быть погребенным в славной обители.
В середине XIX в. расширение церковного пространства устроением новых приделов было закончено. В 70-е гг. Воскресенский собор обновлен и вновь освящен, Христорождественский храм получил два новых придела, устроен музей Патриарха Никона – все это заслуга архимандрита Леонида (1869–1877).
К концу XIX в. «монастырским и народным преданием» существовали следующие палестинские наименования окрестностей монастыря: река Иордан, села Назарет и Скудельниче, горы Фавор и Ермон, Уриин сад, поток Кедрский, Гефсиманский сад, Мамврийский дуб, Силоамская купель, кладезь Самарянки, Рамская роща, Иосафатова долина, юдоль Плачевная947.
В конце XIX – начале XX столетия Ново-Иерусалимский монастырь посещали тысячи паломников из самых разных слоев общества, самые усердные отгрызали от кареты Патриарха Никона кусочки дерева («от зубной боли»)948.
Трудами архимандрита Серафима (Чичагова) в 1904–1905 гг. было совершено последнее обновление Ново-Иерусалимского монастыря. Последующие настоятели Нового Иерусалима, которым досталось управлять монастырем в революционное время, фактически не прерывавшееся с 1905 г., были архиереи, определенные Синодом в обитель на покой по различным личным обстоятельствам.
1918–1919 гг., время закрытия монастыря, стало для монастыря и братии особенно трудным еще и потому, что в самое тяжелое время – время разорения Нового Иерусалима – обитель, хотя формально и имевшая управляющего, оказалась фактически обезглавленной и вынуждена была опираться исключительно «на богомольцев и почитателей обители». Через два с небольшим месяца после Октябрьского переворота, в январе 1918 г., из обители был взят первый помощник управляющего епископа, опытный архимандрит Иона, а в марте этого же года, после начавшейся в монастыре реквизиции, уехал епископ Трифон. Архиепископ Иоаким пробыл только три месяца, успев провести организационное собрание Братства ревнителей и собрание верующих. Епископ Палладий прибыл в обитель только через 9 месяцев, в июне 1919 г., и пробыл четыре месяца, оказавшись в разгар трагических событий прикованным к больничной койке.
Время 20-х гг. XX в. – это особое время в бытовании Нового Иерусалима – время самоорганизации монашествующей братии, с одной стороны, для физического выживания в новых, отвергающих религиозные формы жизни условиях, с другой – сплочения вокруг сокровенного духовного центра, наверняка ощущавшегося ими, иначе не пришел бы сюда Иван Софронов, ради молитвы в Новом Иерусалиме, и, думается, какой же сильной молитвы, ради поддержания горящей, сколько возможно, лампады Нового Иерусалима, сохранения его духа и тем сохранения его для нас, потомков. Как-то мы ответим им?
***
В XVIII – начале XX столетия настоятелями Ново-Иерусалимского монастыря были многие достойные люди. Пребывание одних стало благоприобретением для обители, именами других, может быть, и не стоило бы, по меткому выражению автора XIX в., «пачкать скрижали истории». Но конечный суд принадлежит не нам. Там, где он будет происходить, будет взвешено все. В Новый Иерусалим вряд ли попадают случайные люди, но не все выдерживают испытание Новым Иерусалимом, где так близок Бог и потому так строг спрос. Это не просто Русская Палестина, как любят теперь тиражировать это наименование, появившееся достаточно поздно, и не только ландшафтная икона Святой Земли, хотя и это очень много. Подобия образов Святой Земли различной полноты можно встретить в самых разных местах, но, безусловно, такой – единственный в своем роде. И все же, главное – и в настоящее время, как никогда ранее, – это образ Града Небесного, где всем управляет сам Бог. Бог и его Патриарх, пастырь Его стада, основатель и строитель монастыря Воскресения Христова Нового Иерусалима – Святейший Никон.
И тогда вопрос настоятельства в Ново-Иерусалимском монастыре – это вопрос соответствия этому сверхзамыслу. И тогда истинный настоятель Ново-Иерусалимского монастыря, приумножающий его во всех смыслах, есть человек, понимающий, или ощущающий, свое работничество у Бога в деле спасения людей, при должном отношении к основателю обители, Святейшему Никону, почитании определенных им установлений.
История же настоятельства в Ново-Иерусалимском монастыре «послепатриаршего» периода свидетельствует в основном о том, что его настоятели мало входили в эти «тонкости». Во многих случаях пребывание здесь становилось хорошей школой и «трамплином» для епископства либо удобным местом для пребывания епископа на покое, ну а чем их настоятельство становилось для обители – зависело уже от личных качеств и степени духовности.
Первым священнархимандритом в новейшей истории Воскресенского монастыря Нового Иерусалима, начавшейся с передачи его Русской Православной Церкви, стал Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II (Ридигер) и его наместник, назначенный в июле 1994 г. из начальников Русской Духовной миссии в Иерусалиме, архимандрит Никита (Латушко).
Святейшим Патриархом Алексием были совершены первые богослужения и освящения приделов возобновляемого монастыря: 25 августа 1994 г. – благодарственный молебен, а по его окончании – заупокойная лития на гробнице Патриарха Никона, ознаменовавшие возрождение обители; 6 декабря 1995 г. освящена церковь Рождества Христова, 16 декабря 1999 г. – придел во имя Успения Пресвятой Богородицы в Воскресенском соборе. В своем слове, обращенном к пастве, Патриарх Алексий проникновенно говорил о своем великом предшественнике, Святейшем Никоне, как о страстотерпце, который «и сегодня наш молитвенник перед Богом»949.
24 мая 2005 г. архимандрит Никита встречал в монастыре участников международного крестного хода, ознаменовавшего празднование 400-летия со дня рождения Патриарха Никона, способствовавшего объединению Украины с Россией (крестный ход проходил по территории России, Беларуси и Украины). Он сказал: «Вы в Воскресенском Ново-Иерусалимском монастыре. И пусть нисколько не смущается ваше сердце, когда видим эти стены. Для взора человеческого они, может быть, выглядят не совсем убранными, но для взора души они являются небесами у нас на Земле…» – и служил молебен.
6 июня 2005 г. в память 400-летия со дня рождения Патриарха Никона по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II была совершена Божественная литургия и панихида на гробнице основателя монастыря и шестого Московского Святителя (возглавил богослужение архиепископ Орехово-Зуевский Алексий).
Архимандрит Никита был наместником Ново-Иерусалимского монастыря почти 15 лет. За это время были поновлены лишь некоторые приделы величественного Воскресенского собора – Успенский, Предтеченский и Архангельский, земляная церковь свв. Константина и Елены и храм Рождества Христова в Трапезных палатах. Таким образом, жители города получили храм с постоянным богослужением, все приходящие в монастырь – возможность поклонения пребывающим тут святыням.
Первые годы жизни обители после передачи ее Церкви, период становления отмечены удивительно теплым и благодатным живым христианским общением, исполненным любви, когда во всем ощущалась споспешествующая рука Божия, и внесенный в алтарь храма Рождества Христова престол, по человеческому разумению, на время, оказалось невозможным вынести, он просто не проходил в дверь.
При архимандрите Никите не были отреставрированы Воскресенский собор и монастырский комплекс (но было сделано немаловажное – с крыши собора убран строительный мусор, а в ротонде разобраны деревянные леса и открыт Гроб Господень, что позволило в последние годы просушить собор), и причин тому много. Жаль, конечно, что упущена возможность научно-изыскательских работ по комплексу и натурных наблюдений за его современным состоянием; жаль, что ныне оказалось утраченным то, что сохранилось после Второй мировой войны и существовало на период 1994–1995 гг.: порушился изразцовый иконостас в нижнем ярусе колокольни после демонтажа защитного дощатого короба с целью восстановления, которое так и не началось; погибла в огне деревянная церковь Богоявления в Гефсиманском саду; жаль, что так и не возродилась полноценная монашеская жизнь, а собравшаяся было братия теперь рассеяна…
Но, кто знает, может быть, возможная на тот момент реставрация, с тем духовным состоянием людей и общества, стала бы больше злом, нежели благом? Скорее всего духовное состояние ближних и дальних оказалось недостойно Нового Иерусалима. Не будем забывать, что это не рядовой монастырь, в котором можно делать все, что угодно, и даже благочестивой душе. Это – образ Иерусалима, прообраз Града Небесного. Все происходящее в монастыре и начало, имеющее в жизни дольней – прямое следствие процессов, происходящих во всем обществе, особенно в обществе церковном… И вполне может статься, что происходящее не то что по состоянию и качеству не всегда приемлемо, но даже противостоит самой идее Града Горнего. Возможно, настоятельство архимандрита Никиты было временем духовного вызревания церковного общества и образа Нового Иерусалима как зеркала церковной жизни, а главная роль о. Никиты – хранение камней этого нового Иерусалима (как бы по-разному ни видели время и плоды его настоятельства)? Одно – судьбы человеческие, другое – Церкви и мира. И, если говорить о первом настоятеле Нового Иерусалима, то главная его заслуга, главная задача, которую он достойно выполнил, – это открытие монастыря после 75 лет забвения. Для многих, кто был рядом с ним в эти такие трудные и такие радостные годы, он остается в памяти вдохновенным и умудренным открывателем вновь явленного НОВОГО ИЕРУСАЛИМА, «величественно и бесстрашно входившим в клетку со львами», по меткому замечанию участника событий.
7 мая 2008 г. состоялась инаугурация Президента Российской Федерации Дмитрия Медведева, а 11 мая архимандрит Никита представил нового наместника обители – игумена Феофилакта (Безукладникова) – настоятеля церкви Живоначальной Троицы в Останкине и благочинного Всехсвятского округа г. Москвы.
Новый наместник обители был назначен накануне визита в монастырь Святейшего Патриарха и нового Президента Российской Федерации, состоявшегося 23 июля 2008 г. (совсем как в 1856 г. в ожидании послекоронационного визита Императора Александра II, о чем упоминалось выше, – ни больше ни меньше – историческое дежавю). Все оценивается временем. Новый наместник, корни которого в Оптиной пустыни, поставлен, надо полагать, с учетом опыта настоятельства на бывшем Оптинском подворье (храм Живоначальной Троицы в Останкине) и несения многоразличных забот благочинного. Ему предстоит «освоить» Новый Иерусалим, а это – монастырь духа великого его устроителя и «фундатора» – Патриарха Никона. Понести сей крест – большой труд и большая честь.
В предпринимаемом возрождении Святого Живоносного Воскресения Христова монастыря Нового Иерусалима есть немало «подводных камней». Так, в ходе реализации этого проекта планируется вывести за стены монастыря Историко-архитектурный и художественный музей «Новый Иерусалим», который фактически наследовал организованному архимандритом Леонидом музею Патриарха Никона, чьи коллекции вошли в созданный после закрытия монастыря в 1919 г. на его территории Областной краеведческий музей, выросший позднее в музей нынешний. Если это произойдет, то за стенами монастыря окажется прижизненный портрет основателя Нового Иерусалима – парсуна «Патриарх Никон с клиром», до помещения ее архимандритом Леонидом в музей пребывавшая всегда в Воскресенском соборе, олицетворявшая присутствие здесь своего основателя и покидавшая монастырь лишь накануне революционных событий, в 1905 г., и только чудом в них не исчезнувшая.
Большую тревогу вызывает то, что исподволь тема возрождения монастыря стала духовно сближаться с идеей начала 90-х гг. XX в. устроения на базе обители международного туристического центра, которая в свое время подтолкнула Московскую Патриархию обратить серьезное внимание на этот монастырь и возбудить вопрос о передаче его в лоно Церкви. Современное «раскручивание», другим словом не назовешь, идеи «Русской Палестины» и приписывание ее Патриарху Никону лежит именно в этой области.
Да, на протяжении существования Ново-Иерусалимского монастыря в «послепатриарший» период приумножались эти названия усердием монастырских властей и удерживались народным преданием, в основном это были имена ветхозаветные. Теперь же мы видим на карте Русской Палестины и слышим о Иерихоне, Хевроне, Галилейском море – Истринском водохранилище. Напомним: Патриарх Никон назвал Галилейским морем озеро Велье и устроил там Галилейскую пустынь. Конечно, никто не может возбранить продолжать соотносить современный ландшафт с историческими событиями, например, назвать Москву третьим Римом, об этом уже написана не одна книга. Только не надо приписывать подобные затеи – «игры ума» – Патриарху Никону и освящать их его именем, не надо в рекламных роликах, призывающих жертвовать на возрождение Ново-Иерусалимского монастыря, твердить о Русской Палестине Патриарха Никона, не нужно духовных подмен ради, казалось бы, благой цели. Вспомним и о Елеонском кресте. Достойная всякой похвалы установка 29 января 2006 г. Поклонного креста на месте, где 18 октября 1657 г. Патриарх Никон утвердил Крест с памятной надписью об основании Воскресенского монастыря и наименовании его Новым Иерусалимом, оказалась несколько «подправленной», вероятно, по обстоятельствам современных жизненных реалий, но при этом само дело названо возобновлением Никоновского креста, т.е. воспроизведением прежде бывшего. Крест похож, но прежде вход в Елеонскую часовню был с запада, и поклонялись святыне соответственно на восток, а теперь все наоборот – подходи с востока и кланяйся на запад. И, как ни странно, все эти маловразумительные действия осеняются именем Святейшего Никона. Полагаем уместным напомнить один случай: после того как Патриарх обнаружил, что вместе с верующими благословил одетых в русское платье иностранцев, он расценил этот подлог как кражу патриаршего благословения и тут же запретил последним носить русское платье, чтобы различать их в толпе и благословения не подавать. Как вам такие «тонкости»? В установке поклонного креста на пути к обители не видится ничего странного, если он устанавливается с целью поклонения обители. Но Елеонский крест Патриарха Никона в этом смысле был водружен не как поклонный и никогда так не воспринимался, поскольку был именно памятным – в свидетельство об именовании сего монастыря Нового Иерусалима, а паломниками воспринимался как напоминание о крестном пути Спасителя950.
Одним словом, не надо забывать о духовном и умственном трезвомыслии – устроение мест библейских не должно становиться средством продвижения духовного туризма.
Современная ситуация заставляет иначе оценить и действия архимандрита Никиты, который не любил «раздувать» нередко бывавшие в Новом Иерусалиме чудесные явления, чтобы не давать повод нездоровому ажиотажу вокруг святыни. Одно из первых таких явлений, когда после совершения первой пасхальной службы в возрождающемся монастыре погашенные лампадки в алтаре трижды оказывались снова возжженными (совсем как при явлении Патриарха Никона сторожу Диомиду в 1691 г.), он постарался оставить неизвестным, предпочитая сохранить святыню сокровенной, что тогда казалось несправедливым, а сегодня… Святыней нельзя торговать!
Господь выгнал торгующих из Храма, Тит разрушил храм Гроба Господня. Сегодня вокруг величайшей святыни христианского мира в древнем Иерусалиме шумит базар. От этого, вероятно, не уйти. Но не надо подмен, не нужно этот базар вносить внутрь храма и Церкви под благочестивыми предлогами, не надо из Нового Иерусалима Патриарха Никона делать Русскую Палестину – притягательный центр для новых паломников-туристов, туристический центр с духовным уклоном. Звучит резко, но коварен дух века сего и рядится в благочестивые одежды: «Блюдите, как опасно ходите», – сказано на все времена. Да не услышим от Господа: «Что вы зовете Меня Господи! Господи! И не делаете того, что Я говорю?» (Лк.6:46); «Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие» (Мф.7:22–23). «Не скоро совершается суд над худыми делами; от этого не страшится сердце сынов человеческих делать зло» (Еккл.8:11).
В Святой Земле в храме Гроба Господня принимают всех, но никто не подлаживает его под приходящих. Содержащие этот храм греки так и называются – хранители Гроба Господня. Так будем же и мы хранителями Никонова нового Иерусалима, а вместе с ним и Иерусалима Нового.
Закончим это повествование цитатой из монастырской рукописи середины XVIII в.: «В прочем ежели какия публичныя здания могут быть славимы или от знатности своих здателей, или от красоты своего великолепия, или от приятности местоположения, или от здраваго воздуха и чистых вод изобилия, или от довольства окружающих лесов и других природы обогащений, то все оное преимущественно Воскресенский монастырь к своей похвале заслуживает»951.
Прошло более двух веков и уже нет того: вода в реке не так чиста, воздух растворен выхлопами автомобилей, изобилие которых уже превышает изобилие лесов, природу все больше заменяют «блага цивилизации», но по-прежнему великолепен Святого Живоносного Христова Воскресения монастырь Нового Иерусалима, притягателен для взора и спасителен для души.
Мы же, всматриваясь в историю, станем ее достойными учениками, мудрыми и невысокомерными, укрепляясь подвигом одних, избегая ошибок других. Как учат святые отцы, все Промыслом Божиим устраивается на пользу и спасение человека, нужно только суметь правильно воспринять происходящее и усвоить преподаваемые Божественной педагогикой уроки. А у всех, кто хотя бы раз побывал в Новом Иерусалиме, или иначе приобщился к наследию Патриарха Никона, есть надежный, сильный и любящий помощник и руководитель в этом делании – Святейший Никон Патриарх.
Профетизм в жизни Патриарха Никона. (Первушин М. В.)
Патриарх Никон – одна из самых загадочных фигур русской истории. Исследованию его жизни посвящены сотни научных публикаций, выводы которых порой прямо противоположны друг другу952. Пожалуй, только еще к одному Патриарху отношение было столь же неоднозначным – к Патриарху Сергию (Страгородскому)953. Но Патриарх Сергий жил в XX в., он – практически наш современник, мифотворчество о нем можно рассматривать через толщу архивных документов и аргументированных исследований. С именем же Патриарха Никона связана 350-летняя история, создано немало мифов, которые еще предстоит развенчать. Предметом нашего анализа являются зафиксированные в житии Святейшего чудеса и знамения.
Чудо в жизни каждого играет немаловажную роль. Можно сказать, что и сама жизнь человека – это чудо, если смотреть на нее как на непрестанное действие Божьего попечения и водительства. Блаженный Августин говорил, что чудо – когда Господь умножает хлеба, но не меньшее чудо – произрастание хлеба, т.е. чудо – это необязательно сверхъестественное событие. Чудесами для одних могут оказываться самые обычные, естественные, с точки зрения других, события. Чудо, по выражению архиепископа Иоанна (Шаховского), есть «нечто прикровенное, интимное».
Учитывая относительность чудес, рассмотрим те из них, которые связаны со сверхъестественным не только для участников, но и для сторонних наблюдателей. Отметим особо, что под участниками чудесных событий мы подразумеваем не только Патриарха Никона, но и его современников (как сторонников, так и противников). При этом необязательно, чтобы именно Патриарх был участником чуда. Важно то, что чудо было определенным образом явлено в жизни Никона, коснулось его души (был ли он свидетелем, участником чуда или просто слышал о нем), и это было отмечено в источниках.
Данная работа не претендует на всеохватность материала и предполагает дальнейшую его разработку. Предстоит, возможно, более универсально, чем хронологически, классифицировать чудеса, выявить их влияние на жизнь и служение Святейшего Патриарха Никона и т.п. При подготовке статьи были использованы некоторые труды Патриарха Никона, его биографии и другие источники954.
Детство
В старообрядческом «антижитии»955 Патриарха Никона рассказывается о посещении новорожденного Никиты мордовским шаманом, другом отца Никиты, который предсказал ребенку необычное будущее: «Будет он царь не царь, а выше царей, князей и бояр, и будет он и богат и нищ, и построит он или города или монастыри, и будут туда приезжать и цари, и бояре, и князи, будут за него молиться, и будут на него злобствовать, и его проклинать, занеже царь и великий дух его снискал, и землю он прославит, где родился и где будет погребен». После пророчества шаман «сорвал со своего ожерелья златницу, и, кладя младенцу в пелены, рече: “Пусть сие злато умастит тебе дорогу, какую уготовал тебе сам великий дух”»956.
Эта история перекликается с жизнеописанием Патриарха, составленным Иваном Шушериным, где говорилось, что во время прогулки в Макариев-Желтоводском монастыре некий мордвин (в других списках – татарин) предсказал Никите (тогда юноше было лет 15–17), что он будет «Великим Государем Царству Российскому»957. Эти два свидетельства, вероятно, имеют один источник, что, впрочем, может быть и опровергнуто.
Вскоре после рождения Никиты его мать умерла, а отец женился во второй раз. Мачеха, вдова с детьми, невзлюбила пасынка. Ребенок часто оставался голодным, бывал бит, однажды упал в погреб от удара по голове. Несколько раз мачеха пыталась его убить, и только чудо спасало мальчика от смерти: однажды заснувшего в теплой печи Никиту она заложила дровами и подожгла, в другой раз пыталась отравить мышьяком958.
Священнический период
В житии митрополита Илариона Рязанского рассказывается, что, будучи бельцом (т.е. женатым священником), Никита ради духовных бесед и наставлений ходил к священнику Анании (отцу Илариона). Однажды Никита попросил у о. Анании подарить ему рясу, а тот в ответ предсказал ему патриаршество959.
В возрасте 22 лет Никита с семьей переселяется в Москву, куда его на священническое место уговорили перейти московские купцы, приезжавшие на Макарьевскую ярмарку. В столице Никита пробыл около 10 лет960.
В одном из списков «Известия...» И. Шушерина есть два рассказа о предсказаниях Никиты. Первый – о думном дворянине Хлопове, «на степень болярства возведенном», в домовой церкви которого на Петровке, близ Высоко-Петровского монастыря, служил священник Никита. Рассказывается, что Хлопов, получив боярство, устроил в своем доме обед и пригласил бояр, Никиту же призвал только для благословения хлебов. Никита, опечалившись, ушел в монастырскую часовню, где с монахом пообедал хлебом да квасом. В это время купленная к боярскому обеду свежая рыба стала испускать зловоние. Вспомнив об иерее, не приглашенном к столу, Хлопов и гости стали призывать Никиту, который пришел в дом только после трехкратного прошения. Он вновь благословил стол, но принять участие в трапезе отказался со словами: «…в доме сем не оскудеет пьянство, блуд, татьба, убийство и всякая мерзость». Как заключает агиограф, по смерти Хлопова дом его по царскому приказу взят был под кабак961.
Второй рассказ – о предсказании Никиты в доме Ивана Михайловича Милославского, куда священник переселился из дома Хлопова. В этом месте, как пишет агиограф, Никита претерпел много страданий и предсказал Милославскому, что его и тех, кто будет жить в доме его, «постигнут безчестныя казни»962.
Соловецкий период
Следующим этапом в жизни будущего Патриарха стал уход в Соловецкий монастырь (1636) и постриг с наречением имени Никона в честь сщмч. Никона, епископа Сицилийского (память 5 апреля, н. ст.)963. Согласно житию прп. Елеазара Анзерского (память 26 января, н. ст.), у которого в послушании находился Никон, однажды во время Литургии Елеазар увидел на Никоне омофор и предсказал ему святительский сан964.
Будучи в Анзерском скиту, согласно одному из списков жизнеописания по И. Шушерину, Никону в сонном видении представился сосуд, до краев полный семян. Человек, стоявший рядом с сосудом, обратившись к Никону, сказал: «Исполнилась мера твоих трудов». Обернувшись, Никон нечаянно обронил чашу – семена рассыпались. Когда же он собрал их, сосуд оказался не таким полным, как был. Автор трактует этот сон как отражение неблагоприятной ситуации из-за отношений между Никоном и Елеазаром (Никон упрекнул Елеазара в сребролюбии, видя, что строительство храма на острове затягивается, а собранные ими в Москве деньги лежат без движения).
Интересно, что рассказ о сне отсутствует в протографе «Известия...» И. Шушерина, так как автор, вероятно, по-другому понял этот эпизод: Никон добился в жизни всего сам, своим трудом, но сам же и разрушил то, что создал, а когда попытался вернуть, собрать все заново, уже не достиг прежнего величия. Такая наиболее вероятная трактовка могла «снизить» образ главного героя965, и потому (предположительно) была исключена из краткой редакции. В. В. Шмидт по данному поводу замечает: «Не было ли это для Никона наставлением свыше, чтобы он не засматривался на свои заслуги в духовном подвижничестве?.. А, может, это было предзнаменованием к иным трудам и подвигам, мера которых все в той же чаше еще не исполнена, чему прообразом-напоминанием служит встреча Марии Египетской с великих даров старцем Зосимой, которому открыта была “ничтожность” его подвигов встречей с великой подвижницей, растерзавшей страсть ко греху любовью ко Христу»966.
Иеромонах Никон около 1639 г. покинул Анзер и отправился в маленькой лодке на материк вместе с одним крестьянином. Причиной ухода Никона был вышеназванный конфликт со старцем967. В море о. Никона и его спутника застигла буря, от которой они спаслись только чудом – лодку выбросило на остров Кий. Здесь будущий святитель установил деревянный крест и дал обет создать на этом месте, если Богу то будет угодно968, Крестный монастырь.
Митрополичий период
Следующий этап чудесных знамений и предсказаний, отмеченных в источниках, относится к периоду с 1649 г., когда Никон стал митрополитом Новгородским. Сразу после поставления в митрополиты Никон посетил в Великом Новгороде проживавшего на покое в Спасском Хутынском монастыре своего предшественника по кафедре – митрополита Афония. По свидетельству И. Шушерина, Никон просил у Афония благословения. Однако Афоний, сам приняв благословение от Никона, назвал его Патриархом969.
Заметим, что источником сообщаемых Шушериным сведений о предсказании Никону разными людьми патриаршества, как считает С. К. Севастьянова, был сам Патриарх Никон970. Позднее подобные известия ставились в вину Святейшему, будто верившему пророчествам и питавшему ими «свою гордыню». Еще при жизни Патриарха Никона Александр, епископ Вятский, в «Обличении на патриарха Никона» (1662 г.) писал о начальном периоде служения будущего святителя: «Еще бо в царствующем граде Москве белцем быв, священноиноческую благословенную грамоту взял, оболгав преосвященнаго Афония, митрополита Новгородскаго, и Никона себе нарек преже пострижения своею волею. И едучи во Анзерскую пустынь, на Вологде, на паперти церковней Ильинъским игуменом Павлом пострижен, а не в церкви. И приедучи в пустыню, абие священноиноческая действовал, а под началом не бывал. Аще всю жизнь ево кто известно ведал и преже проклятия чести и власти вправду бы рек, яко и на праг церковный несть достоин взяти»971. Подобные «свидетельства-сказки», активно составляемые в антиниконовской среде в предсоборный период, положили начало обширной старообрядческой литературе о Святейшем Патриархе Никоне, где известия легендарные, переплетаясь, сливались с историческими фактами, домыслы заменяли свидетельства, мифы определяли реальность972.
В 1650 г. произошло восстание в Новгороде во главе с Иваном Жегловым, которого преосвященнейший Никон предал проклятию. Никон писал Царю, как он со своими единомышленниками обличал восставших, за что их «те воры хотят убить до смерти. И мы за твое, государево, многолетное здоровье к смерти готовы и ожидаем того с часу на час, что за тебя, Государя, умереть»973. По свидетельству самого митрополита, ему было видение в Софийском соборе во время заутрени: венец с иконы Спасителя «Златая риза» переместился по воздуху и стал над его головой974. Это чудесное видение подтверждают последовавшие за этим события: разъяренная толпа вломилась в Софийский двор, избила святителя так, что, казалось, он был уже при смерти: «…И ныне лежу в конце живота и кашлею кровью и живот весь запух и чая себе скорой смерти святым маслом соборовался. А того не ведаю, надолго ли моего живота продолжитца и буду ли жив», – писал Преосвященнейший Никон Царю975.
Во время путешествия митрополита Никона на Соловки за мощами святителя Филиппа на Белом море началась буря, и митрополит со спутниками попали в шторм. В третьем часу дня ладью Никона выбросило в Пудожское устье. На этой ладье все чудом остались живы, а всего в морском ненастье погибло 69 человек976.
В повести «Истиннаго благочестия ревнителем и душеспасительныя стези ревновати и душепагубныя и нечестивыя антихристовы помраченныя прелести известнаго познания»977, содержание которой связано с пребыванием Никона на Соловецких островах в 1652 г., рассказывается о первой встрече митрополита Никона с Арсением Греком, сосланным на Соловки в 1649 г. Арсений якобы назвал Никона тогда Патриархом, в ответ на что Никон возразил, что он еще митрополит. Тогда Арсений прорек, что Никон вскоре станет Патриархом. Когда Никон действительно был избран Патриархом, рассказывает легенда, он в благодарность за пророчество немедленно вызвал в Москву Арсения. Автор повести приписывает пророческий дар Арсения помощи нечестивых бесовских сил и колдовства. По мнению того же автора, колдун Арсений по прибытии в Москву приступил к порче книг, втянув в это дело и самого Никона978.
Патриарший период
В 1654 г. в январе в Валдайском Иверском Святоозерском монастыре после освящения деревянных церквей Святейший изготовил серебряный ковчег, в котором намеревался привезти в Иверский монастырь частицу мощей святителя Филиппа, однако после видения ему в тонком сне Святителей Петра и Ионы в ковчег были вложены частицы мощей трех Московских Святителей979. Согласно же И. Шушерину, в ковчег была положена еще и частица мощей Святителя Алексия Московского980.
За день до приезда Патриарха Никона в Иверский монастырь местным жителям было видение огненного столпа над этим монастырем. Никон сам описал его со слов очевидцев в своем сборнике «Рай мысленный». Через день после приезда и сам Святейший мог созерцать над Иверской обителью яркое свечение, а в сонном видении и некоего человека, лежащего в рубище и благословляющего981. Спустя день ему вновь было видение «в нощи в третий час» огня над Иверским монастырем, о котором он сообщал Царю Алексею Михайловичу982. Патриарх Никон трактует этот знак как особую милость Божию к месту сему Иверской обители: «На небеси – Рай, на земли – Валдай».
Подчеркивая неоднозначность даже в явленных, описанных чудесах, отметим следующее чудо, хотя оно и не относится непосредственно к жизни Святейшего Патриарха. В житии Трифона Печенегского, точнее, в сказаниях о чудесах этого святого, бывших во время Патриарха Никона, есть рассказ об игумене Иоанне. Этот игумен задумал приписать достаточно бедную Трифоно-Печенегскую обитель к патриаршему Иверскому Валдайскому монастырю, зная чудесные события, о которых было сказано, но был «поражен невидимою силою» и стал немощным983.
Летом 1654 г. по указу Патриарха Никона были собраны иконы франкского письма. На одних иконах выскоблили глаза, на других – полностью лики. Стрельцы носили их по городу, крича: «Кто впредь будет писать иконы не по старине, тот подвергнется строжайшему наказанию». Такое отношение Никона объясняется тем, что «те иконы написаны были не по отеческому преданию, с папежского и латынскаго переводу», т.е. по образцу католических картин984.
Издание Святейшим Патриархом указа о запрете писания и употребления таких икон совпало с началом «мороваго поветрия», которое начало быстро распространяться не только в Москве и окрестностях, но и по всей стране (многие видели в этом гнев Божий за «надругательство» Патриарха Никона над иконами985). Одновременно происходит ряд знамений: чудо Гребневской иконы Пресвятой Богородицы, опалившей огнем святотатцев московской Успенской церкви на Лубянке; солнечное затмение в начале августа; прославление списков Грузинской иконы Пресвятой Богородицы в московской Троицкой церкви у Варварских ворот, Шуйской иконы Пресвятой Богородицы «Одигитрии» в связи с исцелениями от моровой язвы; чудесное избавление от чумы Казани после принесения туда Смоленской Седмиезерной иконы Пресвятой Богородицы986.
В первой челобитной Царю Алексею Михайловичу, написанной после своего возвращения из сибирской ссылки, протопоп Аввакум открыто высказывается по вышеизложенным вопросам. В частности, причиной морового поветрия он называет Никоновы справы: «…моровое поветрие не мало нам знамение было от Никоновых затеек, и агарянский меч стоит десять лет беспрестани, отнележе разадрал он церковь»987. В дополнении к «Прениям…» Арсения Суханова неизвестный автор называет причинами моровой язвы Божий гнев и деятельность Патриарха Никона988.
Святейший Никон не видел в случившихся событиях знамений. Он писал в «Поучении о моровой язве»: «Много бо тогда невнимающе правому велению от оных крамолников, лживых баснословии, напившеся, клеветаху ов на сего, ов же на иного, яко повинных творяше моровому поветрию, и многи невегласи бесом прелщени, пророчествоваху ложная…»989.
Следующие два чуда относятся к российским военным событиям. После Литургии 6 января 1656 г. в Успенском соборе Святейший Патриарх Никон в присутствии Царя и Патриарха Макария Антиохийского служил молебен с особым молитвословием по случаю победы русских войск над поляками в Вильне и прочитал всему народу донесение Виленского воеводы, в котором тот рассказывает, что враги бежали без битвы, потому что перед битвой увидели на небе «Алексия, Царя Московского», над ним было написано его имя, впереди него – св. Михаила с мечом, нападающего на врагов. По этому случаю пропели многолетие, в котором впервые прозвучал новый титул царя «Всея Великия и Малыя и Белыя России Самодержец». Царь тут же наименовал и Патриарха Московским и Всея Великия и Малыя и Белыя России990.
13 августа 1656 г. в Москву от Царя Алексея Михайловича прибыл гонец Петр Матюшкин с сообщением, что 31 июля взят немецкий город Динабург. Матюшкин рассказал, что Царь послал шведам свои грамоты с условием капитуляции, но противник не покорился, и грамоты были отосланы назад Царю. Тогда Алексей Михайлович, положив грамоты к образу Богородицы, молился о помощи в победе над шведами. И в ту же ночь многие были свидетелями чуда: над городом Динабургом в небе висел обнаженный меч991. Иван Шушерин связывает завоевание русскими этого города с перенесением на остров Кий изготовленного из кипарисового дерева креста-мощевика для Крестной обители992.
В ноябре 1658 г. произошли «знамения страшныя над Царем-градом», о которых, согласно летописным известиям, было сообщено Царю и, очевидно, Патриарху.
Между Сербской землей и Царьградом лежит небольшая земля под названием Аская, где правит Царь греческой веры. Там случился град (градина весом «полчетверти фунта» – 50 г), потом прилетел змей огненный, сел над царскими палатами и дышал огнем на них три дня, после чего подлетел к окнам и выдохнул из себя огонь, от которого палаты горели три дня и сгорели до пепла. Царь с Царицею едва спаслись. В то же время жители Тевриза видели в воздухе икону с сидящим на престоле Спасителем, держащим в руках крест и полотенце993.
Одна монахиня после Литургии, совершенной Патриархом Никоном в Новодевичьем монастыре в присутствии Царя и Патриарха Макария, подошла к ним и рассказала, что с давних пор она была больна, но в этот вечер пришла в собор, чтобы провести ночь у раки святителя Филиппа. Ночью он явился ей в своем архиерейском облачении, а прислуживали ему и кадили из кадильниц дьяконы. Обратившись к монахине, возвысив голос, митрополит Филипп приказал ей встать, и она тотчас исцелилась. Услышав этот рассказ, Царь прослезился, а Патриарх Никон произнес длинное поучение народу по случаю этого чуда994.
Архимандрит Герасим, ближайший сподвижник Патриарха, настоятель Воскресенского монастыря с 1658 г. до своей смерти в 1665 г., записал рассказ о видении мученического венца на главе Патриарха Никона незадолго до оставления им патриаршества995.
Период по оставлении Патриаршего стола
Был 1659 г. Патриарх Никон рассказывал приехавшему от Царя думному дьяку Дементию Башмакову, что два человека в Воскресенском монастыре исцелились по совершении над ними молитв, а также о том, что, будучи и на патриаршестве, он исцелял людей996. Забегая вперед, отметим, что в заточении Никон рассказывал главе московских стрельцов Лопухину и дьяку Оловянникову, что ему было видение чаши лекарственной как благословения к целебной деятельности. По записям о лечении Патриархом Никоном больных в Ферапонтовом монастыре, с 10 сентября 1673 г. по март 1676 г. значится 132 случая исцеления997.
Что касается исцелений, здесь сложно (особенно скептикам) четко установить меру свершившегося чуда. Известно, что один из келейных старцев Никона, диакон Мардарий, приезжая в Москву, покупал Никону «для лекарства деревянное масло, росной ладан, скипидар, траву чечуй, целебиху, зверобой, нашатырь, квасцы, купорос, камфару и камень безуй»998. В связи с этим можно с уверенностью говорить лишь о «врачебной премудрости», которой владел Святейший. После собора 1676 г. следственным властям было велено «все Никоновы лекарства, коренья, травы, водки, мази сжечь на огне и бросить в реку, чтоб от них ничего не осталось». С этого же времени прекращаются записи об излеченных Патриархом Никоном больных и страждущих.
12 января 1661 г. на Утрене в деревянной церкви Святого Воскресения Патриарху Никону было видение: митрополит Московский Петр требовал от него свидетельствовать перед Царем его (царевы) вины перед Церковью и показал пожар в царских чертогах, который произойдет, если Царь не примет свидетельства. Это пророческое видение Патриарх описал в письме царю999. Спустя полтора года, 29 июня 1662 г., Патриарх Никон в письме к Никите Зюзину писал, что видение исполнилось в страшном пожаре, разрушившем царский дворец1000.
В мае–июне 1664 г. были записаны расспросные речи по поводу ряда явлений Богородицы в окрестностях Тобольска и недалеко от Тюмени. Важнейший пункт в речах явившегося образа Богородицы – обличение вновь введенных церковных обрядов1001.
13–17 декабря 1664 г. Патриарх Никон предался сугубой молитве, бдению и посту. На пятый день в сонном видении Московские Святители призвали его вернуться на Патриарший престол. Свое видение Святейший описал в письме Царю 18 декабря1002.
Прочитав ответное письмо, написанное от имени Царя Н. А. Зюзиным, Никон сказал: «Хотя я патриаршего престола не ищу, но однако Церкви Божией всякого умирения и себе царскаго милосердия желаю: отдаюсь воле Божией и царскому изволению». Был разработан план, согласно которому с 17 на 18 декабря Патриарх приехал в столицу1003. Однако вследствие коварства замыслов участников этих событий встреча Государя с Патриархом не состоялась, а последнему было велено возвращаться в Воскресенский монастырь. По окончании Утрени, за час до света, Святейший ушел из собора, на этот раз забрав с собой символ духовной власти Русского царства – жезл митрополита Петра, и уехал, отрясая прах от ног своих. Житие повествует: «(л. 128) … Великий же Государь повеле паки итти ему в Воскресенской монастырь (сие же бе уже по Утрени в той же соборной церкве) Святейший же Никон слышав таковое повеление пойде ко святым иконам (л. 129) знаменоватися и изыде из соборныя церкве взят с собою жезл Петра митрополита и сяде в свои сани; за ним же великий государь присла болярина своего князь Дмитрея Долгорукова и с ним полковников и стрелцов. Никон же, возседая в сани своя глаголя Господня словеса идеже аще не приемлят вас изходяще из града того, и прах прилепши к ногам вашим отрясите во свидетельство нань; сего ради и прах прилепши к ногама нашима отрясаем вам; полковник неки глагола ему мы убо прах сей подметем тогда святейший Никон глагола ему разметет убо вас сия метла явльшаяся на небеси {бе бо в то время явльшися на небеси хвостовая звезда якоже метла еже есть комета} и по сем поидоша на Каменной мост…».
Пройдет несколько времени – исполнится пророчество Святейшего не только в отношении участников коварного заговора, но и в отношении Царского дома, когда после Федора Алексеевича на престоле Российского Царства пресечется прямая ветвь Романовской династии, связанной клятвой верности «собинных друзей», когда в начале XX в. сокрушится монархия, связанная клятвой верности Патриаршеству, ею же упраздненному1004.
20 мая 1666 г. в алтарь соборной церкви Иверского монастыря влетел соловей, сел на горнем месте на окне и пел дивно. Настоятель велел пономарю его поймать и посадить в приготовленную клетку. Соловья поймали в шапку живого и принесли архимандриту – вынули его из шапки удушенным. Завязалась переписка между архимандритом Иверского монастыря Филофеем и Патриархом Никоном об этом происшествии. 7 июня Никон писал архимандриту с просьбой рассказать ему подробности события. «Патриарх взглянул на это происшествие как на предвестие ожидавшей его судьбы, и церковные события конца того же 1666 года не замедлили оправдать его предчувствия во всей силе: спустя шесть месяцев после происшествия Патриарх Никон подобно иверскому соловью, пропев на соборе 1666 года трикраты… впал в руки врагов своих, был сослан в заточение, долго томился в нем и напоследок, хотя и достался в дружелюбные руки своего Царственного крестника, но прибыл к нему уже мертвым и возвеличен подобающей честью лишь в погребении и поминовении»1005.
Период ссылки Патриарха Никона
21 декабря 1666 г. прибывшего в Ферапонтов монастырь ссыльного Патриарха поместили в больничных кельях на хозяйственном дворе. Изверженный от сана Святейший прибыл в монастырь совершенно больным и физически ослабевшим от недостатка пищи и отсутствия зимней одежды. Жители города Углича, узнав о приближении к городу ссыльных, ехавших в Ферапонтов монастырь, вышли им навстречу с теплыми вещами и продуктами, но стрельцам было приказано разогнать народ. И только под Мологой, в небольшой деревне некая женщина после бывшего ей видения, открывшего о путешествии в ссылку Божьего Святителя, дала по повелению блаженному Никону на дорогу теплую одежду и 20 серебряных рублей.
В один из дней Великого поста 1668 г. Патриарху Никону было видение, в котором некий благообразный юноша сказал, что красивое здание, в котором Никон оказался в созерцаемом видении, построено его, Никона, терпением. Юноша призвал Святителя к усердию в прохождении жизненного пути и предсказал, что скоро он вкусит своего хлеба. Видение предвосхитило утешительно-радостное событие: из Воскресенского монастыря к Патриарху вскоре приехал иеромонах Мисаил с трудниками и передал ему братское печалование – посылку с 10 хлебами, рыбой и другой едой, а также 200 руб.1006
В июне 1671 г. Патриарх Никон призвал к себе новоприбывшего стольника Шайсупова и рассказал ему, что в прошлый приезд к нему Родиона Стрешнева Никон предсказал смерть Царевича Алексея Алексеевича и о «разорении казацком», заверяя Шайсупова, что это было объявлено ему от Господа Бога1007.
Последние дни блаженного Святителя
Летом 1681 г., незадолго до своего освобождения, Святейший Патриарх Никон, тяжело болея, соборовался и принял схиму с именем Никона, вероятно, в честь прп. Никона, игумена Киево-Печерского (память – 5 апреля, н. ст.)1008. Предвидя свое скорое освобождение, блаженный Святитель извещал свою братию. И вот настал день: Никон велел братии собираться в дорогу, так как скоро за ним приедут. Братия решила, что от крайней слабости и болезней блаженный Патриарх помутился разумом. Однако на следующий день прибыл гонец с Царским указом перевезти Патриарха Никона в Воскресенский монастырь. Царский посланник застал Патриарха одетым и готовым к отъезду, чему немало удивился1009.
16 августа около Толгского монастыря Патриарх Никон велел пристать к берегу. Он причастился из рук архимандрита Кириллова монастыря Никиты и дал прощение Сергию, бывшему архимандриту Спасо-Ярославского монастыря, который перед всеми присутствующими рассказал о видении ему во сне торжественного шествия Святителя Церкви Христовой Патриарха Никона1010, неправо осужденного. На следующий день Святейший Патриарх Никон скончался.
***
Переосмысление прошлого – процесс естественный и плодотворный, но вместе с тем сложный и неоднозначный. В разные времена и для разных людей и целых поколений чудеса совершались по-разному. Вникая с размышлением в происходящее, каждый из нас может усмотреть в своей прошедшей жизни не одно знамение милости Божьей. Для чего оно даруется людям?
Бог установил законы видимого мира. Жизнь человека и дело его спасения совершаются в пределах этого заданного порядка. Бог действует в мире, сохраняя естественный строй жизни, и только в определенных обстоятельствах, когда в этом есть особая необходимость, Он отменяет «естества чин», определяя, через кого, каким образом творить чудеса, так как чудо всегда является духовным испытанием как для того, через кого Бог его совершает, так и для того, ради кого оно явлено. Одних Бог избрал святителями и пастырями, иных наделил разумом духовным, чтобы быть старцами, другим дал сугубую благодать творить в изобилии чудеса. Да и само спасение наше для будущей вечной жизни может совершиться только чудесным образом: никакими собственными усилиями не можем мы до конца победить грех и облечься в чистые одежды христианских добродетелей без Отеческой любви и милости свыше. И только Божественная благодать может очистить, убелить и переплавить (Дан.12:10) все наше пораженное грехом существо.
Будем же, по слову Апостола, чаще испытывать самих себя, в вере ли мы (2Кор.13:5). И, если вера наша еще слишком немощна и потому мы еще недостаточно чутки к знамениям милости Божией, то станем усерднее прибегать к непрестанно чудодействующему во спасение наше Господу, прося Его сначала вместе с Апостолами: «…Умножь в нас веру» (Лк.17:5), а затем с богодухновенным Псалмопевцем: «…Сотвори со мною знамение во благо» (Пс.85:17). И чем больше мы убережем свое сердце от порочных движений, чем старательнее будем избегать всякой самоуверенности, нетерпеливости и ропота, тем более очевидной для нас станет чудодействующая сила Божественного о нас Промышления, как это явил своим кротким, страдательным и отверженным ради Христа подвигом жизни Святейший Патриарх Никон.
Можно сделать простой вывод: в делах человека – величие его, когда в сокрушении сердечном, с верой и упованием восходит он к Горнему, благообразно и правильно рассуждая о даруемых ему свыше явлениях и природы, и социальной жизни, и мистических, и религиозных видениях, когда все помыслы и дела свои он мерит заповедью Божьей и образом служения Христа, явленным в Евангельском слове, а посему в торжественном предощущении Горнего сумеет соразделить Никоново: «…Да что суть гордость наша, еже писаное совершаем делом. Отступися от зла, сотвори благо, се ли… гордость?»1011.
Патриарх Никон: его роль в созидании Русской Православной Церкви, русской государственности и русской культуры (Долгов К. М.)
Патриарх Никон1012 жил в XVII в. Это было время политических и социальных кризисов и катастроф, народных восстаний, духовных и нравственных потрясений, переломов и катаклизмов. И это время называли застойным – видимо, по сравнению с XVIII в., с реформами Петра I. Однако уже само название XVII в. как времени «смутного, бунташного» говорит о том, что оно не могло быть застойным – оно несло значительные преобразования во многих сферах жизнедеятельности.
Социальный уклад, быт, нравы, обычаи, верования, казавшиеся вечными, стали меняться, что вызывало беспокойство, тревогу, волнение, духовную неуверенность, неустойчивость. Вроде все еще живут, как жили раньше их отцы и деды, но уже что-то нарушилось: исчезает простота и естественность, все становится менее понятным, усложняется. В сравнении того, что есть, с тем, что было и как было, становилось очевидным, что вековые устои начали рушиться. Встал вопрос: что делать, как быть?
Блюстители и охранители старины, старого быта заговорили об «отступлении от истинной веры», ибо все нововведения рассматривались ими как отступления от веры отцов и дедов. Они считали, что все новшества идут от Запада, от «латинской службы и еретического чина», т.е. от Католической Церкви и движений протестантизма. Охранители старины призывали держаться старины и отвергать привносимое в быт новое.
Стремительно увеличивавшиеся внешнеполитические и культурные контакты и взаимовлияния свидетельствовали о внешних разногласиях1013, которые в первую очередь касались обрядовой стороны: крестились двумя перстами вместо трех, произносили сугубую «аллилуйя» вместо трегубой и т.д., не различали молебного перстосложения от благословящего, само имя писали Исус вместо Иисус. Разногласия касались и церковно-общественного благочестия: соблюдения чинопоследования в церковных службах1014, устранения «многогласия» – переход от «раздельноречного» пения к «наречному», что по существу стимулировало музыкальную реформу (переработку нотного материала и новое соотнесение текста и музыки), чинно-благообразного поведения в церквах и т.п.
Необходимость преобразований и внутрицерковных, и общественных ощущалась и осознавалась довольно остро – разрешением многих недоуменных вопросов, проведением «справ» занимались ревнители благочестия при участии Царя. За «справой» скрывались покаяние, нравственное очищение и собранность духа, а за «огречиванием» Русской Православной Церкви стояло подведение «греческого» как православного под единого православного русского Царя, ответственного за Эйкумену с ее наследием. За «реформой» же скрывался вопрос церковно-политический, соотношения светской и духовной власти – «цезарепапизм» или «папоцезаризм», «Империя» или «Священство». И, хотя сама реформа продумывалась в царском дворце, а Патриарх Никон был лишь привлечен к ней, он принял в этой реформе самое активное участие.
Что за человек был Патриарх Никон – «один из самых крупных, могучих деятелей русской истории», как именовал его известный русский историк Н. И. Костомаров? О нем довольно полно повествует основной источник – «Известие о рождении и воспитании и о житии Святейшего Никона, Патриарха Московского и всея России, написанное клириком Иоанном Шушериным», которое многократно издавалось и широко известно1015.
25 июля 1652 г. Никон стал Патриархом. Начинается его бурная деятельность в сфере церковного и государственного строительства. Этому способствовала значительная духовная близость и ответственность за судьбы Церкви и царства Царя и Патриарха: они вместе занимались всеми делами государства Российского, поэтому не случайно Царь называл Никона Великим Государем, а Патриарший титул согласовывался с Царским: «Архиепископ царствующего града Москвы, всея великия и малыя и белыя России и всех северных стран и поморья и многих государств Патриарх».
Во всех делах взаимодействия Патриарх Никон последовательно выступает за полную независимость Церкви, так как считает, свидетельствует, что «церковная власть преболее есть власти царской». Святую Русь он понимает не в узконациональном смысле, а в духе созидательного наследия нового Израиля в истинном учении подлинно церковного общества, которое более совершенно, чем общество политическое, в кафолической ортодоксии, глубже других выражающей христианское учение с его животворной нравственной силой, способной преобразить дольний мир по образу мира Горнего1016. Именно этим объясняется непримиримость Патриарха ко всяким искажениям христианского учения и учения Православной Церкви и отступлениям от него. Этим же можно объяснить и его неутомимое церковное строительство как в сфере социальной, так и в возведении монастырских комплексов, которые являются образами, довлеющими градам мирским.
Во образ и подобие горы Афон Патриарх Никон строит Иверский монастырь на озере Валдай, Крестный монастырь на Кий-острове Онежской губы, Воскресенский монастырь Нового Иерусалима под Москвой, утверждая великую традицию и преемственность в исторических судьбах христианского мира за православной Русью – Святой Русью как Новым Израилем: «Стараясь сохранить тенденции преемственности и каноническое единство Вселенской Эйкумены, Святейший Патриарх, призывая к соработничеству ученых мужей, сверяет московские печатные богослужебные книги с греческими и афонскими и исправляет расхождения, согласует обряды и чины с восточно-православной практикой; устраивает приходские школы, иконописные, ремесленные мастерские, типографии, заводит библиотеки; вникает в проблему землевладения с целью его совершенствования; стремится к формированию активной дипломатии и военной стратегии с эффективным тактическим компонентом; организует регулярную армию и обеспечивающие ее производства, заимствуя технологии и зарубежный опыт; актуализируя иерократический принцип управления в Церкви “воинствующей”, предлагает распространить его и на социально-государственную систему управления и т.д. Вся деятельность Патриарха Никона проникнута сознанием своего долга быть во всем согласным с правилами Святых отцов и хранить их непреложно, всем своим служением строить и утверждать новый Израиль – Святую Русь»1017.
Естественно, деятельность (церковная и государственная) Патриарха Никона была нетрадиционно масштабной, во многом непонятной для бытового сознания и вызывала большое неудовольствие бояр, да порой и церковного клира. Впоследствии ее увяжут с расколом во всех его частных и общих аспектах. Итак, в чем состоял раскол, который связывали и связывают с именем Патриарха Никона?
Приведем суждение Н. И. Костомарова: «Раскол гонялся за стариною, старался как бы точнее держаться старины; но раскол был явление новой, а не древней жизни»1018. Вот что писал о расколе прот. Г. Флоровский: «В этом роковой парадокс Раскола… Раскол не старая Русь, но мечта о старине. Раскол есть погребальная грусть о несбывшейся и уже несбыточной мечте. И «старовер» есть очень новый душевный тип… Раскол весь в раздвоении и надрыве. Раскол рождается из разочарования. И живет, и жив он именно этим чувством утраты и лишения, не чувством обладания и имения. Раскол не имеет, потерял, но ждет и жаждет. В расколе больше тоски и томления, чем оседлости и быта. Раскол в бегах и в побеге. В расколе слишком много мечтательности, и мнительности, и беспокойства. Есть что-то романтическое в расколе, – потому и привлекал так раскол русских неоромантиков и декадентов… Раскол весь в воспоминаниях и в предчувствиях, в прошлом или в будущем, без настоящего. Весь в истоме, в грезах и в снах. И вместо «голубого цветка» полусказочный Китеж… Сила раскола не в почве, но в воле. Раскол не застой, но изступление. Раскол есть первый припадок русской безпочвенности, отрыв от соборности, исход из истории… И совсем не «обряд», но «антихрист» есть тема и тайна русского раскола. Раскол можно назвать социально-апокалиптической утопией… «Никонианская» Церковь представлялась уже вертепом разбойников. Это настроение становится всеобщим в расколе:… Раскол есть вспышка социально-политического неприятия и противодействия, есть социальное движение – но именно из религиозного самочувствия. Именно апокалиптическим восприятием происходившего и объясняется вся резкость и торопливость раскольничьего отчуждения. «Паническое изуверство», определяет Ключевский. Но паника была именно о «последнем отступлении»… Розанов однажды сказал: «Типикон спасения, – вот тайна раскола, нерв его жизни, его мучительная жажда»… Не следует ли сказать скорее: спасение, как типикон… спасение и есть типикон, т.е. священный ритм и уклад, чин и обряд, ритуал жизни, видимое благообразие и благостояние быта… Вот этот религиозный замысел и есть основная предпосылка и источник раскольничьего разочарования… Мечта раскола была о здешнем Граде, о граде земном, – теократическая утопия, теократический хилиазм. И хотелось верить, что мечта уже сбылась, и «Царствие» осуществилось под видом Московского государства. Пусть на Востоке четыре Патриарха. Но ведь только в Москве единый и единственный православный Царь… И это ожидание было теперь вдруг обмануто и разбито… «Отступление» Никона не так встревожило «староверов», как отступление Царя. Ибо именно это отступление Царя в их понимании и придавало всему столкновению последнюю апокалиптическую безнадежность… Кончается и третий Рим. Четвертому не быть. Это значит: кончается история. Точнее сказать, кончается священная история. История впредь перестает быть священной, становится безблагодатною. Мир оказывается и остается отселе пустым, оставленным, Богооставленным. И нужно уходить – из истории, в пустыню. В истории побеждает кривда. Правда уходит в пресветлые небеса. Священное Царствие оборачивается царством антихриста… Об антихристе в расколе идет открытый спор от начала. Иные сразу угадывают уже пришедшего антихриста в Никоне, или в Царе. Другие были осторожнее. «Дело-то его и ныне уже делают, только последний-ет чорт не бывал еще» (Аввакум)… И к концу века утверждается учение о «мысленном» или духовном, антихристе. Антихрист уже пришел и властвует, но невидимо. Видимого пришествия и впредь не будет. Антихрист есть символ, а не «чувственная» личность… Антихрист открывается и в самой Церкви: «настатие последнего отступления»… И первый вывод отсюда: перерыв священства в Никонианской Церкви, прекращение священства вообще и в самом расколе. И неоткуда было «возстановить» оскудевшую благодать… «Бегствующее священство» не было решением вопроса… Сравнительно скоро расходятся и разделяются «поповцы» и «безпоповцы». Но магистраль раскола только в безпоповстве… До конца последовательным был только вывод безпоповцев… С настатием антихриста священство и вовсе прекращается, благодать уходит из мира, и Церковь на земле вступает в новый образ бытия, в «безсвященнословное» состояние, без тайн и священства. Это не было отрицанием священства. Это был эсхатологический диагноз, признание мистического факта или катастрофы: священство изсякло… все осквернено, даже вода святая. Спасаются уже не благодатию, и даже не верою, скорее упованием и плачем. Слезы вменяются вместо причастия… Здесь новая антиномия Раскола. Когда благодать взята, все зависит от человека, от подвига или воздержания. Эсхатологический испуг, апокалиптическая мнительность, вдруг оборачивается своего рода гуманизмом, самоуверенностью, практическим пелагианством. И самый обряд получает в это исключительное время оставленности особую важность. Ведь только быт и обряд теперь и остаются, когда благодать отходит и тайны оскудевают. Все становится в зависимость от дел, ибо только дела и возможны (качественная сродненность с протестантизмом. – К. Д.). Отсюда эта неожиданная активность Раскола в мирских делах, эта истовость в быту, – некий опыт спасаться обломками древностного жития… Раскол дорожит и дорожится обрядом больше, чем таинством. Потому легче терпит безблагодатность, чем новый обряд. Ибо «чин» и «устав» представляют для него некую независимую первоценность… Раскол уходит в пустыню, исходит из истории, поселяется за границами истории… Раскол строится всегда, как монастырь, в «киновиях» или в скитах, – стремится быть неким последним монастырем или убежищем среди порченаго и погибающего мира»1019.
Этот очень глубокий и тонкий анализ раскола раскрывает сущность никоновых справ, социокультурных перемен в гражданско-политической жизни и вместе с тем сущность староверов, или старообрядчества. В целом Г. Флоровскому удается дать зримую картину сути происходивших в то время событий как в церковной сфере, так и в сфере государственной. Он верно показывает, что в деле Патриарха Никона главное – это наступление Империи, и Святитель был прав, когда он в своем «Возражении, или Разорении…» обвинял Царя Алексея и его правительство в покушении на свободу и независимость Церкви, считая «Уложение» бесовским и антихристовым лжезаконом.
Можно понять и оправдать резкость и «властолюбие» Патриарха Никона, поскольку он защищал Церковь от наступления Империи, а Царство от исступления и забвения. Он как будто предчувствовал, что спустя несколько десятилетий, при Петре I, имперская власть полностью подчинит себе Церковь и лишит ее всякой свободы и независимости, низведет на уровень институции в системе государственного аппарата, отторгнув от нее ее главу и законоположника – Иисуса Христа. Не случайно Никон настаивал на том, что «священство» выше (преболее) «царства», в то время как против Никона выступили не только греки, но и «азиатские выходцы и афонские прелазатаи», которые «защищали» Царство против Священства, а также «ревнители русской старины» – староверы стоглавого толка, для которых «Царствие» осуществлялось скорее в царстве, нежели в Церкви. Вот почему тема раскола – не «старый обряд», но Царствие1020.
Крайне важна идея о том, что сила раскола не в почве, но в воле, что раскол – не застой, а исступление, отрыв от соборности, исход из истории. Ведь Патриарх Никон стремился как раз сохранить старину, опираясь на всегда современное своей утвержденностью в вечности благовествование Церкви миру, на святоотеческое учение, на традицию Православия, чтобы строить и совершенствовать церковно-гражданское дело и жизнь, соделывая их в поступательном развитии более совершенными и аскетично-строгими, более ясными в своих изъяснениях и более соответствующими духу Истины в ее историческом открытии. Возможно, могучее волевое начало Патриарха вызвало не менее ревностное противодействие, возросшее в социально-политический протест, что оказалось и для Русского царства, и Церкви, а также и для Патриарха Никона роковым.
Никон был Патриархом лишь шесть лет, регентствуя государству при этом в течение двух с половиной лет. Он не мог сделать все, что замышлял, но он указал на исторические задачи России по присоединению Малороссии и Белоруссии, по выходу в Балтийское море, по защите православия в Ингрии и Карелии. В церковной жизни Святейший Никон вывел Московскую Русь из позиции изоляционизма среди Православных Церквей и обрядовой реформой приблизил ее к другим Поместным Церквам, напомнил о единстве Церкви при поместном разделении, подготовил каноническое объединение Великороссии и Малороссии, оживил жизнь Церкви, сделав доступными народу творения ее отцов и объяснив ее чины, трудился над изменением нравов духовенства. Патриарх старался преобразить государственную жизнь, одухотворяя ее высшими церковными целями, стремясь к осуществлению «симфонии» государства и Церкви не только в теоретическом аспекте, но чтобы Русь была святой в смысле вечного стремления к идеалу недостижимому – стяжанию образа Горнего мира…
Взгляды и убеждения Святейшего полностью согласованы с традиционным святоотеческим православным учением, притом в его каппадокийской традиции, и представляют довольно разработанную систему, правда изложенную фрагментарно. Объединяя в одно целое церковно-канонические, социально-политические и государственные воззрения Патриарха Никона на необходимость проникновения государства церковными принципами, можно считать, что он выступал за модель теократического государственного устройства на принципах иерократии, по которой государство ставит себе как отдаленный идеал, никогда не достижимый, превращение в Церковь. Эта система противоположна как папоцезаристской, так и цезарепапистской, протестантской, растворяющей Церковь в государстве1021.
Таким образом, Патриарх Никон внес огромный вклад как в развитие российской государственности, так и в историю Русской Православной Церкви: он пытался осенить государственность высшими нравственными принципами ортодоксии христианской религии, а учение Православной Церкви приблизить к осмыслению и разрешению государственных проблем, проблем народной жизни и общечеловеческой жизнедеятельности.
Одна из ярких характеристик личности Патриарха Никона принадлежит прот. Г. Флоровскому: «О Патриархе Никоне (1605–1681) говорили и писали слишком много уже его современники. Но редко кто писал о нем безкорыстно и безпристрастно, без задней мысли и без предвзятой цели. О нем всегда именно спорили, пересуживали, оправдывали или осуждали. Его имя до сих пор тема спора и борьбы. И почти не имя, но условный знак или символ. Никон принадлежал к числу тех странных людей, у которых словно нет лица, но только темперамент, а вместо лица идея или программа. Вся личная тайна Никона в его темпераменте. И отсюда всегдашняя узость его горизонта. У него не было не только исторической прозорливости, но часто даже простой житейской чуткости и осмотрительности. Но в нем была историческая воля, волевая находчивость, своего рода “волезрение”. Потому он и смог стать крупным историческим деятелем, хотя и не был великим человеком. Никон был властен, но вряд ли был властолюбив. Он был слишком резок и упрям, чтобы быть искательным. Его привлекала возможность действовать, а не власть. Он был деятелем, но не был творцом… Конечно, не “обрядовая реформа” была жизненной темой Никона. Эта тема была ему подсказана, она была выдвинута на очередь уже до него, и с каким бы упорством он ни проводил эту реформу, внутренне никогда он не был ею захвачен или поглощен. Начать с того, что он не знал по-гречески, и так никогда и не научился, да вряд ли и учился. “Греческим” он увлекался извне. У Никона была почти болезненная склонность все переделывать и переоблачать по-гречески, как у Петра впоследствии страсть всех и все переодевать по-немецки или по-голландски. Их роднит также эта странная легкость разрыва с прошлым, эта неожиданная безбытность, умышленность и надуманность в действии. И Никон слушал греческих владык и монахов с такой же доверчивой торопливостью, с какой Петр слушал своих “европейских” советчиков. При всем том Никоново “грекофильство” совсем но означало расширения вселенского горизонта. Здесь было не мало новых впечатлений, но вовсе не было новых идей. И подражание современным грекам нисколько не возвращало к потерянной традиции. Грекофильство Никона не было возвращением к отеческим основам и не было даже и возрождением византинизма. В “греческом” чине его завлекала бóльшая торжественность, праздничность, пышность, богатство, видимое благолепие. С этой “праздничной” точки зрения он и вел обрядовую реформу…»1022. Тонкая и глубокая характеристика личности Патриарха Никона и его великих начинаний и действий. Но можно ли полностью согласиться с этой характеристикой? Полагаем, вряд ли.
Думается, что Г. Флоровский был неправ, когда утверждал, что у Никона не было лица, а только темперамент, а вместо лица идея или программа, и что вся личная тайна Никона в его темпераменте. Представляется, что в реальности было нечто обратное: о Никоне спорили и будут, видимо, всегда или еще очень долго спорить именно потому, что это была незаурядная личность. Да, ему недоставало образования, знания греческого языка, возможно, не хватало широкой эрудиции и знакомства с наследием великой культуры. Это во многом объясняется тем, что он вышел из самых низов и не смог получить «европейского» образования, какое получил, например, Петр (Могила). Никон взрос в святоотеческой традиции и традиции православного Предания. И в этом смысле его образование было скорее самообразованием и все, что он мог таким способом изучить и освоить, он осуществил. Вместе с тем именно благодаря этому у Никона выработались железная воля, могучий характер, выражающийся прежде всего в его темпераменте, а также то, что Г. Флоровский назвал очень метко «волезрением». Эти «историческая воля», «волевая находчивость», «волезрение», а соответственно и недюжинная интуиция помогали Никону видеть те проблемы, темы и мотивы, которые волновали современное ему общество. Во многом именно поэтому он смог стать выдающимся историческим деятелем и вопреки мнению Г. Флоровского также и великим человеком, так как величие человека проявляется прежде всего и главным образом именно в его деяниях, особенно в деяниях исторического масштаба и значения, которые и были осуществлены Патриархом Никоном.
Можно согласиться с Г. Флоровским в том, что Святейшего Никона привлекала «возможность действовать, а не власть», что он был «властен», но «не властолюбив», но вряд ли можно согласиться с тем, что Никон «был деятелем, но не был творцом». Разумеется, не всякая деятельность является творчеством, не всякий деятель – творец, но деятельность Патриарха Никона больше являет собой именно творчество, чем просто действование. Это относится и к церковному и социальному служению, которому он придавал большое значение, и к книжной и обрядовой справам, и к зодчеству и художественному наследию, и к делам целительным, или врачебным: во всех этих сферах Патриарх Никон не просто что-то заимствовал, а переосмысливал известное и стремился внести что-то свое, малоизвестное или неведомое.
Надо ли доказывать, что истинное церковное и социальное служение требует подхода не просто механического, формального, а именно творческого, творческо-деятельного, глубоко осмысленного, продуманного в соответствии с основными принципами и устоями общественного и государственного устройства?
Следует ли напоминать о том, что всякое книжное дело, в том числе и справа (редакторское), требует огромного чувственно-интеллектуального напряжения, а не просто сверки с оригиналом, будь то греческим, латинским или каким-нибудь другим. Известно, что перевод Библии (например, Лютером, Агриколой, Кириллом и Мефодием) был огромным событием в духовной и культурной жизни народов, поскольку существенным образом менял их мировоззрение, миросозерцание, мирочувствование? Как справедливо писал Г. Флоровский, «…для перевода требуется большое творческое напряжение, великая изобретательность и находчивость, и не только на слова. Переводить это значит мысленно бдить и испытывать. Это совсем не только простое упражнение или формальная гимнастика мысли. Подлинный перевод всегда соозначает и становление самого переводчика, его вхождение в предмет, т.е. обогащение самого его события, а не только расширение кругозора… Вот в этом и состоит непреложное значение Кирилло-Мефодиевского дела. Это было становление и образование самого “славянского” “логоса”, самой души народа. “Славянский” язык сложился и окреп именно в христианской школе и под сильным влиянием греческаго церковнаго языка, и это был не только словесный процесс, но именно сложение мысли»1023. Это великое и святое дело по-своему продолжал Патриарх Никон, естественно, в перспективе исторического развития-становления, в соотнесенности с греческими оригиналами, а не только со славянскими списками.
Надо ли доказывать, что зодческая деятельность Патриарха Никона – возведение храмов и величественных монастырей – это не просто копирование, подражание монастырям Иерусалимским и Афонским, а новое творческое переосмысление известных образов и моделей зодчества и воплощение их в образах и моделях, выражающих сущность православной Руси, Руси Святой, нового Израиля?
И можно ли сомневаться в творческом начале деятельности Патриарха Никона, когда он, используя зарубежный опыт, пытается создать новую политическую стратегию, новую дипломатию, новую регулярную армию, а проверенный историей иерократический принцип управления привить и сделать имманентным социально-государственной системе управления своего времени?
Г. Флоровский, говоря об истории, и в том числе русской истории, писал: «История есть истолкование событий, вскрытие их значения и смысла. Историк никогда не должен забывать, что изучает он и описывает творческую трагедию человеческой жизни. Не должен, ибо и не может. Беспредпосылочной история никогда не бывает, и не будет… Изучение русского прошлаго привело меня и укрепило в том убеждении, что православный богослов (любой ученый. – К. Д.) в наши дни только в святоотеческом предании может найти для себя верное мерило и живой источник созидательного вдохновения. Умственный отрыв от патристики и византинизма был, я уверен, главной причиной всех перебоев и духовных неудач в русском развитии… И все подлинныя достижения русского богословия всегда были связаны с творческим возвращением к святоотеческим истокам. В исторической перспективе с особенной очевидностью открывается, что этот узкий путь отеческаго богословия есть единственный верный путь. Но этот возврат к отцам должен быть не только ученым, не только историческим, но духовным и молитвенным возвратом, живым и творческим возстановлением самого себя в полноте церковности, в полноте Священного Предания… И неистощимая сила отеческого предания в богословии всего более определяется тем, что для Святых отцов богословие было делом жизни, духовным подвигом, исповеданием веры, творческим разрешением жизненных задач. Этим творческим духом навсегда оживлены те древния книги. И только через возвращение к отцам может возстановиться в нашем церковном обществе та здоровая богословская чуткость, без которой не наступит искомое православное возрождение. Среди церковных служений в наше время богословское исповедничество приобретает особенную важность, как воцерковление мысли и воли, как живое вхождение в разум истины… В отеческом истолковании Православие вновь открывается как побеждающая сила, как сила, перерождающая и утверждающая жизнь, и не только как тихая пристань для усталых и разочарованных душ – и не только как конец, но как начало, начало подвига и творчества, как “новая тварь”»1024.
Нередко можно слышать упреки Православной Церкви в «отсталости», «окостенении», «догматизме», «ортодоксальности» и т.п. Следует сказать, что они не по адресу, как не по адресу и обвинения Православной Церкви в том, что она слишком тесно связана с государством, не идет в ногу со временем и т.д. и т.п. Г. Флоровский показал, что именно в возврате к святоотеческим истокам – основа духовного возрождения не только самой Церкви, но и всей России, каждого человека, так как в святоотеческой традиции сокрыты неистощимые творческие силы, соединение культуры, науки, истории и глубочайшей и высочайшей духовности, которые обусловливают воцерковление мысли и воли именно как живое вхождение в разум истины. В этом – неиссякаемая мощь и сила Православия, возрождающая, претворяющая и утверждающая подлинно христианскую, человеческую жизнь, наполненную глубочайшим смыслом и содержанием.
Да, Православная Церковь всегда активно участвовала в государственном строительстве, в формировании российской государственности и Российского государства, но участвовала не как государственное учреждение, а именно как Церковь. С одной стороны, она окормляет паству, утверждает веру, оказывает влияние на национальную волю, характер, духовные качества народа, его мораль и нравственность, основы гражданского сознания, поведения и права, основы той высокой культуры, которая будет удивлять весь мир, с другой стороны, российский народ – паства строит свою жизнь как верноподданный своего Монарха, созидая государство, подданными которого он является.
Следует отметить, что Патриарх Никон внес весьма заметный вклад в формирование и развитие российской государственности и Российского государства именно с позиций святоотеческого учения и учения Православной Церкви1025.
Если говорить о воздействии интеллектуальных факторов на возникновение, формирование и развитие русской государственности, то следует обратить внимание на то, что в истории русской мысли всегда было много непонятного, таинственного и необъяснимого. Кто и как может объяснить слишком долгое и запоздалое пробуждение русской мысли вообще? Если Русь многое, как в частности и государственность, переняла от Византии, то вызывает удивление сочетание «многоглаголивой» Византии и «тихой и молчаливой», почти «немой» Руси. Отчего столько веков молчала Русь и не могла выразить себя, свое многообразное бытие и существование в слове? Отчего она безмолвствовала столько времени – от тяжелых раздумий о своем житье-бытье, от возвышенных мыслей о Боге, от косности и лени духовной или от иллюзий, мечтаний и состояний исторической дремоты?
Правда, она все-таки высказывалась и довольно определенно и глубоко. Но в чем и как? В древнерусской иконе, которая заменила русскому народу и литературу, и философию, и мораль, и право, не говоря уж о богословии1026. «За молчаливые до-Петровские века многое было испытано и пережито. И русская икона с какой-то вещественной безспорностью свидетельствует о сложности и глубине, о подлинном изяществе древнерусского духовного опыта, о творческой мощи русского духа. С основанием говорят о русской иконописи, как об “умозрении в красках” … И все же древнерусская культура оставалась безгласной и точно немой. Русский дух не сказался в словесном и мысленном творчестве… Эта невысказанность и недосказанность часто кажется болезненной. Иногда здесь видели простую отсталость и примитивность, и объясняли это византийскими связями древней Руси, роковым влиянием Византии»1027, – так писал об этом феномене протоиерей Г. Флоровский.
Но упреки в отсталости, некультурности и необразованности Византии и Руси того времени несостоятельны, ибо Византия тогда была единственной подлинно культурной страной во всем западном, или европейском, мире. Да и позже она оставалась живым культурным очагом с высоким творческим напряжением. А много позже, в самый канун падения Византии, ее политического и государственного распада, византийская культура и религиозность переживают новый подъем, отблеск которого ложится на все итальянское Возрождение. В этом смысле древнерусский кризис был не кризисом от отсталости и от некультурности, а кризисом культуры: «Это был подлинный кризис культуры, кризис Византийской культуры в русском духе. В самый решительный момент русского национально-исторического самоопределения Византийские традиции прервались – Византийское наследие было оставлено и полузабыто. В этом отречении “от греков” завязка и существо Московского кризиса культуры»1028.
Известно, что история русской культуры начинается с Крещения Руси в 988 г. в Киеве. Языческая культура была как бы отброшена, хотя на самом деле она еще существовала очень долго, оставила зримые и яркие плоды и пребывала многие века в народной памяти, в быту, в самом народном складе и духе. Поэтому неслучайно и совершенно справедливо русский философ Вл. Соловьев говорил о Крещении Руси как о перерыве, или разрыве, национальной традиции. Это был, действительно, настоящий разрыв национальной традиции, выразившийся прежде всего в возникновении двух культур – «дневной» и «ночной», как их называл Г. Флоровский. Носителем «дневной» культуры было меньшинство, поскольку заимствованная византийская культура была долгое время достоянием книжного, или культурного, меньшинства. Большая часть народа жила вне этой культуры. Именно поэтому история «дневной» культуры не исчерпывает всей полноты русской духовной судьбы.
В глубинах простого народа складывалась и развивалась другая культура, в которой языческие переживания сплавлялись с мотивами древней мифологии и христианского воображения. Она редко прорывалась на поверхность, существуя где-то в глубинах народного бытия. Разумеется, границы между этими культурами не были четкими, хотя душевные, или духовные, их установки были более или менее определенными и различимыми. Об этом очень тонко и умно писал Г. Флоровский: «Это различие в данном случае можно определить так: “дневная” культура была культурою духа и ума, это была и “умная” культура; и “ночная” культура есть область мечтания и воображения… В сущности, внутренняя динамика культурной жизни всегда определяется взаимодействием таких установок и устремлений. Болезненность древнерусского развития можно усмотреть прежде всего в том, что “ночное” воображение слишком долго и слишком упорно укрывается и ускользает от “умного” испытания, поверки и очищения… Впоследствии в этой вольности народного воображения усмотрели одну из основных черт русского народного духа. Это и верно, и сразу нуждается в оговорках. Во всяком случае, здесь перед нами историческая величина не доисторическая и уж никак не внеисторическая. Иначе сказать: продукт развития, итог процесса, исторический сросток, а не только и не просто врожденная черта или свойство, сохранившееся несмотря на переливы истории… Изъян и слабость древнерусского духовного развития состоит отчасти в недостаточности аскетического закала (и совсем уже не в чрезмерности аскетизма), в недостаточной “одухотворенности” души, в чрезмерной “душевности” или “поэтичности”, в духовной неоформленности душевной стихии… Здесь источник того контраста, который можно описать, как противоположность византийской “сухости” и славянской “мягкости”… Нужно различать: речь идет сейчас не о недостаточности “научного” рационализма, – разложение “душевности” разсудком или разсудочным сомнением есть снова болезнь, и не меньшая, чем и самая мечтательность; речь идет о духовной сублимации и преображении душевного в духовное через “умную” аскезу, чрез восхождение к умному видению и созерцаниям… Путь идет не от “наивности” к “сознательности”, и не от “веры” к “знанию”, и не от доверчивости к недоверию и критике, но есть путь от стихийной безвольности к волевой ответственности, от кружения помыслов и страстей к аскезе и собранности духа, от воображения и рассуждения к цельности духовной жизни, опыта и видения, от “психического” к “пневматическому”. И этот путь трудный и долгий, путь умного и внутреннего подвига, путь незримого исторического делания… В кругу таких духовно-психологических апорий разыгрывается прежде всего трагедия русского духа… Разрыв двух слоев есть только одно и самое формальное проявление этого трагизма. И не следует сводить его к таким формальным категориям, к морфологии или структуре народного духа. Историческая судьба исполняется в конкретных событиях и решениях, в нерешимости или решительности пред конкретными жизненными задачами»1029. Очень верное и глубокое наблюдение!
Действительно, историческая судьба русского народа на протяжении всего его существования развивалась именно в решении конкретных исторических задач, порой казавшихся нерешаемыми, и все-таки они решались, но не с помощью формальной системы категорий, не с помощью формальной морфологии или структуры народного духа, как это было в Европе (о чем четко писали и Г. В. Ф. Гегель и его великий критик датский религиозный философ С. Киркегор), а с помощью характерного славяно-русского созерцания мира, природы и человека. Если западноевропейскими народами двигали воля и рассудок, то у русских главное – сердце и воображение и лишь потом воля и ум. «Средний европеец», о котором проникновенно писал русский мыслитель и дипломат К. Леонтьев полтора века назад, а в XX в. об этом блестяще писал испанский философ Х. Ортега-и-Гассет, стыдился искренности, совести и доброты как «глупости» в отличие от русского человека, ждущего от других людей прежде всего именно доброты, совести и искренности.
В этом смысле русская государственность, русское правосознание, русская духовность, возможно, «бесформенны», добродушны, но справедливы, а европейские государственность, правосознание, духовность формальны, строги, уравнительны. Европейцы с иронией, а то и с высокомерием и презрением относятся к другим народам как менее их развитым, малокультурным, малодемократичным. Русские же всегда наслаждались естественной свободой своего пространства, вольностью безгосударственного быта и расселения, нестесненностью своей внутренней индивидуализации, а потому всегда добродушно относились к другим народам, мирно уживались с ними, а если кого и ненавидели, то только захватчиков и поработителей.
Русский человек всегда ценил свободу духа выше формальной правовой свободы. Отсюда возникло глубокое различие между западной и восточно-русской культурами. Известный русский философ И. А. Ильин писал: «У нас вся культура – иная, своя; и притом у нас иной, особый духовный уклад. У нас совсем иные храмы, иное богослужение, иная доброта, иная храбрость, иной семейный уклад; у нас совсем другая литература, другая музыка, театр, живопись, танец; не такая наука, не такая медицина, не такой суд, не такое отношение к преступлению, не такое чувство ранга, не такое отношение к нашим героям, гениям и царям… И притом наша душа открыта для западной культуры: мы ее видим, изучаем, знаем и если есть чему учиться, то учимся у нее; мы овладеваем их языками и ценим искусство их лучших художников; у нас есть дар чувствования и перевоплощения. У европейцев этого дара нет. Они понимают только то, что на них похоже, но и то искажая все на свой лад»1030 (курсив наш. – К. Д.).
Вот почему Европа, начиная с Петра Великого, опасалась России, а с А.В. Суворова и Александра I стала бояться ее. Да и теперь, хотя политические условия кардинально изменились, опасения относительно России остаются, поэтому предпринимаются усилия ослабить ее самыми различными путями и способами – от попыток расчленить на мелкие государственные образования до навязывания ей западноевропейских государственных структур и форм, обвинений в агрессивности, тоталитарности, некультурности и т.д.
Но вернемся к формированию русской культуры и русской государственности. Бесспорно, что Россия приняла крещение от Византии, и это определило ее историческую судьбу, культурно-исторический и государственный путь, ибо крещение было пробуждением русского духа, русской национальности, русской самоидентификации, предполагающей широкие взаимосвязи с окружающим государственно-политическим миром. При этом следует помнить, что византийское влияние было не столько прямым, сколько опосредованным. И. А. Ильин писал: «Решающим было принятие Кирилло-Мефодиевского наследства, а не прямое восприятие Византийской культуры. Непосредственное духовно-культурное соприкосновение с Византией и с греческой стихией было уже вторичным»1031. Также вторичным было и восприятие Русью византийской государственности.
Известно, что перевод Библии – это всегда подлинно историческое событие в народной судьбе, подвиг и духовный, культурно-цивилизационный сдвиг. Переводить – это значит соединять языки, а каждый язык – это цельное миросозерцание, мировоззрение, мирочувствование. Следовательно, переводчик создает возможность встречи своего народа с другими, чтобы они обогащали друг друга и устанавливали между собой дружеские, творческие связи и отношения, вырабатывали общие интересы. Перевод, особенно таких книг, как Библия, – это духовная революция, или революция духа. Таким был перевод Библии Мартином Лютером на немецкий язык. Такой же революцией духа был перевод Библии Микаэлем Агриколой на финский язык. Такой же революцией был перевод Библии Кириллом и Мефодием на церковно-славянский язык. Г. Флоровский пишет: «Это было становление и образование самого “славянского” языка, его внутренняя христианизация и воцерковление, преображение самой стихии славянской мысли и слова, славянского “логоса”, самой души народа. “Славянский” язык сложился и окреп именно в христианской школе и под сильным влиянием греческого церковного языка, и это был не только словесный процесс, но именно сложение мысли. Влияние христианства чувствуется значительно дальше и глубже собственно религиозных тем, чувствуется в самой манере мысли»1032. Точнее сказать, не только в самой манере мысли, но и в самой субстанциальности мышления, которое становится более основательным, более универсальным, более совершенным и утонченным. Это полностью относится как к немецкому мышлению после М. Лютера, финскому – после М. Агриколы, так и к русскому мышлению после Кирилла и Мефодия. Вот что значит «сложение мысли», «логос», единство мысли и слова как результат творческого перевода Библии.
Возвращаясь к российской государственности и культуре, отметим, что для России страшным бедствием и государственной катастрофой, «погибелью русской земли» было татарское нашествие1033. Русская государственность была практически уничтожена, татаро-монгольское иго оказало негативное влияние на государственное устройство Руси. К счастью, влияние не было таковым для русской культуры, ибо татары по уровню культуры значительно уступали русскому народу. Поэтому татарское иго не было ни разделом эпох, ни перерывом, ни переломом в историческом творчестве русского народа, его настроениях и стремлениях. Культура лишь сдвинулась, сместилась к северу, куда орды татар не смогли дойти.
Развитие культуры не прерывалось, оно продолжалось. Так, XIII в. был веком значительных идейно-культурных начинаний: Патерик Печерский, Толковая Палея и ряд других сводов. ХIV в. знаменует прилив южнославянских влияний как прямое продолжение нового культурного движения в Византии – «Возрождение Палеологов» и крепнущие связи с Константинополем и Афоном. Появляется огромной количество переводов мистико-аскетической литературы: Василия Великого, Диадоха, Исаака Сирина, Исихия, Лествица Симеона Богослова, Ареопагитики и т.д.
Нельзя забывать, что ХIV в. – это век отшельнического и монастырского возрождения на Руси, век преподобного Сергия Радонежского. Именно в это время расцветает Новгородская школа иконописи (Феофан Грек и др.). В ХIV–ХV вв. Русь переживала как бы новое воздействие Византии. Но это культурное оживление было кануном кризиса и разрыва. И это был прежде всего кризис не культурный, а национально-государственный, связанный с пробуждением религиозно-политического самосознания, с государственным ростом Москвы, с потребностью церковно-политической независимости от Константинополя.
Вскоре произошел Флорентийский собор, на котором греки отступились от своей веры и Церкви. Это было поводом и основанием провозгласить независимость Русской Православной Церкви. Падение Константинополя существенно повлияло на умонастроение и психологию русского народа – появилось эсхатологическое настроение, эсхатологическое ожидание и предчувствие конца мира. В это время и появляется теория третьего Рима: «Яко два Рима падоша, а третий стоит, а четвертому не быти»1034. Образ Москвы как Третьего Рима выдвигается на фоне приближающегося конца мира. Москва – третий Рим и последний, следовательно, и русский Царь – единственный и последний всемирный Царь. Ставилась задача не возрождения Рима как такового, а преемственного сбережения второго Рима Римом третьим, не продолжения и развития византийских традиций, а воссоздания нового Рима взамен прежнего, разложившегося, павшего и падшего. Как заметил один из русских мыслителей, «Московские Цари хотели быть наследниками Византийских Императоров, не выступая из Москвы и не вступая в Константинополь».
Место Константинополя постепенно занимает Западная Европа, с которой Русь устанавливает все более тесные связи и отношения. Так, например, брак Ивана III с Софьей Палеолог означал не столько усиление византийского влияния на Москву, сколько начало русского западничества, поскольку Царевна была воспитана в Унии, венчана в Ватикане. Русь сближается с Италией и с Европой в целом. Иван III приглашает к своему двору множество европейских специалистов. Если Иван III – западник, то его сын Василий III – еще больший западник. И ведь совсем не случайно почти за сто лет до «Государя» Макиавелли Василий III практически осуществлял ту политику жестокого и властного государя, которую Макиавелли описывал.
В ХIV и особенно ХV в. были поставлены почти все национальные задачи России:
1. Выработка на основе христианско-византийской традиции самостоятельного, нового национального акта веры и внедрение христианства во все сферы жизни.
2. Создание единого государства.
3. Создание своего правового порядка и судопроизводства без римского права (не обладая христианским правосознанием).
4. Разрешение проблем народного образования и развития искусств посредством создания церковных школ и монастырей.
5. Развитие международных отношений: войны с Эстляндией, Польшей, Литвой – это не столь серьезные конфликты; одновременно Русь сближается с европейскими странами ради установления мира с Европой и защиты своей земли от Азии.
Эти задачи пытались решать и Иван III, и Василий III, и Иван Грозный. Многое им удалось, но многое осталось нерешенным.
Таким образом, русская государственность XIV–XV вв. формировалась на основе богатых традиций русской культуры, под прямым воздействием христианской религии и Православной Церкви, а также под огромным влиянием русской ментальности, русского мышления.
Русский человек понимал, что в государстве и для государства он должен нести непомерные тяготы и жертвы, в душе же мечтал о полной свободе от давления государства. И государственное развитие шло именно в этом направлении. Достаточно сказать, что русский государственно-правовой порядок создавался посредством самоуправления всех слоев общества. Российская государственность, вопреки распространенному мнению как внутри России, так и за рубежом, была не столько централизованным правлением, сколько самоуправлением: самоуправление Церкви, церковных общин, различных конфессий, городов и сел, земства; самоуправление: сословное купеческое, дворянское, крестьянское, университетское, кооперативное, казачье, профессиональное, промышленное и т.д. Правда, такое универсальное самоуправление возникло позже.
Что касается государства, то оно понималось русским человеком по-своему, на что обратил внимание И. А. Ильин: «Государство есть для него живое нравственное сообщение, организм солидарности, совместной жизни людей, вольной и справедливой: нравственно безликое государство может только возмутить его; он пытается привнести любовь в государство и в политику, он спрашивает о религиозном полномочии государства и, если такового не находит, готов отречься от него. Мудрому европейцу это может показаться наивным и детским, он лишь улыбнется и пожмет плечами. Русский же хочет знать, что право, государство, политика произрастают из глубины святых корней духа, предстают перед ликом Божиим, освящены любовью, связаны братством, требуют справедливости, являются своего рода одной большой семьей»1035. Если это удается, тогда человек решается на добровольное послушание и самоограничение, на лояльность из свободных побуждений, становится свободным гражданином, выполняя свое гражданское и политическое предназначение. Вот это свободное и достойное личности обязательство гражданина в лояльности и составляет самую глубинную и содержательную сущность демократии как таковой.
Подводя итоги рассмотрения некоторых моментов жизни и творчества Патриарха Никона, можно сделать следующие выводы.
1. Величие его как исторического деятеля состояло в том, что он своим «волезрением» постиг наиболее важные проблемы, стоявшие в то время перед Россией и перед Православной Церковью: формирование, развитие и укрепление российской государственности; формирование, упрочение и углубление православной веры и христианской религии; формирование, развитие и всемерное распространение среди простого народа культуры религиозной и светской; строительство новых храмов и монастырей как центров и очагов христианской религии и православной веры, а также как центров образования и культуры; забота о защите Руси от постоянных набегов внешних врагов – создание новой, боеспособной армии; борьба с бедностью и нищетой, болезнями и нравственными пороками, по существу, борьба за физическое и нравственное здоровье народа великой и малой и белой России и всех земель северных, и поморья, и многих государств, на которые распространялся омофор Московских Патриархов. Весь свой могучий темперамент, всю свою волю и энергию Патриарх Никон направил на осуществление этих исторических и важнейших для России задач.
2. Разумеется, не «обрядовая реформа» была жизненной темой Патриарха Никона – за его «справами» скрывалась жестокая борьба «цезарепапизма» и «папоцезаризма», борьба за установление светской или церковной власти, за господство светской власти над церковной или церковной над светской. Чувствуя наступление «Империи» на Церковь, Патриарх Никон со всей силой обрушивался на все, что сковывало свободу Православной Церкви, мешало ей выполнять свою миссию на Земле. Ему приходилось бороться с весьма мощным и острым «эрастианством»1036 руководящих правительственных кругов. Именно этим объясняются его резкость и «властолюбие».
Можно сказать, что тема раскола – не «старый обряд», а борьба между «царством» и Церковью, где Святейший Патриарх Никон боролся за Церковь, а старообрадцы – за «царство». Поэтому совсем не «обряд», а «антихрист» был темой и тайной русского социально-гражданского раскола.
3. Если древнерусский кризис был кризисом культуры, а не бес-культурности, или не-культурности, и, если Крещение Руси означало перерыв или разрыв национальной традиции, а язычество продолжало свою жизнь в народном подсознании, что обусловливало сложение двух культур («дневной», носителем которой было меньшинство, и «ночной», носителем которой было большинство народа), то необходимо было, с одной стороны, вести борьбу против нового и своеобразного синкретизма, в котором сплавлялись в единое целое языческие «переживания» с мотивами древней мифологии и христианского воображения, которое ускользало от «умного» испытания, поверки духа метафизическим очищением, а, с другой стороны, надо было, если не ликвидировать, то хотя бы уменьшить разрыв, существовавший между «ночной» и «дневной» культу рами, – высокую культуру приближать к простому народу, а культуру простого народа делать достоянием правящих верхов. Эту важнейшую историческую задачу также пытался решить Патриарх Никон.
4. Изъян и слабость древнерусского духовного развития состояли в недостаточности аскетического закала и «одухотворенности» души, в чрезмерной «душевности», или «поэтичности», в духовной неоформленности душевной стихии. Речь поэтому должна идти о том, чтобы бороться против этой стихийности – и не посредством увеличения «научного» рационализма (поскольку разложение душевности рассудком есть не меньшая болезнь, чем мечтательность), а через духовную сублимацию и преображение душевного в духовное через «умную» аскезу, через восхождение к умному видению и созерцаниям к волевой ответственности, к аскезе и собранности духа, к цельности духовной жизни, опыта и видения. Это путь трудный и долгий – путь умного внутреннего подвига, путь незримого исторического делания…
Патриарх Никон, его деятельность и творчество проявляют и знаменуют не столько «смуту» и «раскол» древнерусского общества, сколько великое историческое творчество русского общества, русского народа в формировании российской государственности, христианского православного вероучения, христианской и светской культуры.
Никониане (Богданов А. П.)
Иоасаф II – Питирим – Тень Никона – Украинские маневры – «Отравители» – Вокруг Патриаршего престола – Новгородский митрополит – Патриаршество
Низвержение великого Никона с Патриаршего престола и заточение этой харизматической личности в дальнем монастыре имело странный эффект. По логике вещей самодержец продемонстрировал реальное соотношение царства и священства в России XVII в. Вся история возвышения и падения Никона наглядно показала зависимость архипастыря Русской православной церкви от воли и каприза светской власти. Но огромные усилия, потребовавшиеся для борьбы с вроде бы бессильным Патриархом, чрезвычайное беспокойство Царя Алексея Михайловича относительно умонастроения опального и ссыльного Никона, наконец, возвращение умирающего старца Царем Федором Алексеевичем (1676–1682), торжественное погребение тела его в Новом Иерусалиме и поминание в молитвах Патриархом выходят за рамки грубо материалистического понимания истории.
Мощь воздействия Никона на умонастроения россиян нельзя отнести целиком к его месту в церковно-государственной иерархии: ведь после ухода с престола, осуждения церковным собором и в особенности заточения оно не ослабло, а в некотором роде даже усилилось. Не можем мы приписать эту незримую власть над душами и влиянию, как выразились бы в XIX в., «магнетической личности» экс-Патриарха, которого Царь Федор Алексеевич первоначально притеснял, чтобы затем, без всякого намека на личный контакт, возвратить и возвысить – мертвого – до прежнего величия.
Очевидно, незримым фактором, нематериальной, но весьма действенной силой, проявившейся именно в остром, выходящем за обыденные рамки столкновении духовной и светской властей, была вера. Это утверждение находится лишь в видимом противоречии с цинизмом царской администрации, разыгравшей большой, чуть не вселенский, церковный собор с помощью нанятых и к тому же ложных восточных архиереев, не гнушавшейся помощью турок, чтобы придать своим прислужникам легитимность, и т.п. Хитроумие и энергия, с которыми юный российский абсолютизм стремился обмануть Бога, ясно свидетельствуют о месте, занимаемом верой в душах самых закоснелых в придворных интригах государственных дельцов.
Совестливость царей и в особенности царевых слуг можно воспринимать с иронией (если совесть политика вообще не является божественной шуткой). Она диктовала, однако, рамки и формы допустимого для них исполнения желаний. Именно внутренняя вера создала то нагромождение хитроумных мероприятий против Никона, которое пришлось столетиями распутывать историкам. И, если слуги могли заглушать голос совести всеоправдывающей ссылкой на службу, защиту интересов и исполнение воли своего Государя, то сам Алексей Михайлович не раз дрогнул во время расправы с Никоном и после многие годы тяжко страдал, а деятельный Федор Алексеевич не случайно и не по прихоти придворных дельцов восстановил в отношении опального Патриарха справедливость в собственном истолковании.
Реабилитация Никона и одновременное сожжение староверов (Аввакума со товарищи) – любопытнейший психологический акт, своего рода рассечение гордиева узла, особенно учитывая внутреннюю схожесть узников: экс-Патриарха и «огнепального» протопопа. Федору Алексеевичу, утвердившему в чине своей коронации идею вселенского Российского православного самодержавного царства, требовалась ясность позиции относительно раскола и истинной церкви. Но возвращение Никона из ссылки, погребение и поминание его как Патриарха не случайно встречало упорное сопротивление нового архипастыря Иоакима и церковных властей.
Принято считать, что Патриарх Иоаким Савелов опасался возвращения Никона к власти и потери своего престола, хотя ничего подобного о замыслах Царя Федора источники не говорят1037. Иоаким был уже третьим Патриархом после низвержения Никона и полностью сохранял свою власть (достаточную, чтобы противоречить Царю в весьма важных реформах).
Вопрос стоял не о будущем, а о прошлом: что представляли собой Патриархи Иоасаф II и Питирим, коли признать, что Никон и в опале сохранял, если не власть, то звание Патриарха? Представив себе, что предков мог волновать не только передел власти, но вопрос об истине (из-за которого многие принимали гонения, пытки и казни), сопротивление Федору Алексеевичу легко объяснить и оправдать.
Злорадствуя над нестроениями Западной Церкви, еще до Лютерова раскола знававшей двух и трех пап единовременно, грамотные православные стремились избегнуть неудобного сознания, что и Святая Русь не была девственна в этом смысле. Посему один из пары одновременно возникавших митрополитов обязательно клеймился как «злой еретик» – и соответственно вовсе не «наш» архиерей. Даже в Смуту законно поставленный Патриарх Гермоген счел необходимым выступить против клятвопреступления совместно с законно смещенным экс-Патриархом Иовом. Понятно, что положение Патриархов, взошедших на престол в тени заточенного, но не смирившегося с неправедными действиями светской власти Никона, вызывало большое смущение церковных историков и столетия спустя.
В самом деле, даже при взгляде со стороны положение сменившего Никона на Патриаршем престоле Иоасафа II, а затем Питирима, вызывает неприятные ощущения, тем более, что участие первого в грязной игре самодержца не мотивировано собственным желанием. Исследователи довольно единодушно не рассматривают Иоасафа как самостоятельную, ответственную за свои поступки фигуру, а энергичный Питирим, пробивший-таки себе дорогу к Патриаршему престолу, властвовал менее года, не совершил сколько-нибудь важных деяний и как Патриарх заметен значительно менее поставленного по воле Лжедмитрия Игнатия. Об этих преемниках Никона правильнее говорить в контексте драмы великих фигур: бунтаря-Патриарха, лидеров староверов, Царя Алексея; Иоасаф и Питирим являются отсветами огня битвы гигантов. Оба они были возвышены Никоном, оба являлись по убеждениям никонианами, хотя и выступали, согласно указаниям Государя, против своего покровителя.
Иоасаф II
Будущий седьмой Патриарх Московский и всея Руси был отмечен вниманием Никона уже в преклонные годы и поставлен архимандритом Владимирского Рождественского монастыря (1654–1656). Вскоре Иоасаф возглавил знаменитый Троице-Сергиев монастырь (1656–1666), в котором вместе с братией горячо молился о победе россиян над поляками. Говорили, что архимандрит обратил на себя внимание Государя благодаря чуду, ниспосланному россиянам в виде крупной победы над неприятелем после трехдневного поста и молитв троицкой братии.
Подобных чудес во время долгой и яростной борьбы двух крупнейших славянских государств за Украину и Белоруссию (1654–1667) являлось с обеих сторон немало; переменчивость военного счастья прославила тогда святыни многих православных и католических обителей (хотя с Троицей мог соперничать, пожалуй, только Ченстохов). Когда оба государства напрягали последние силы, пребывая в состоянии экономической катастрофы и социального брожения, когда любая случайность могла перетянуть чашу весов на ту или иную сторону, богомольный Царь Алексей даже у звезд готов был спрашивать совета1038, как же он должен был уповать на святую Троицу!
Строго говоря, и всю историю с Никоном невозможно объяснить, не учитывая экстатического напряжения религиозного чувства с первых же лет опустошительной войны, известной в Польше как «Потоп», на Украине как «Руина», в России отмеченной страшным мором, Соляным и Медным бунтами вкупе с Конотопской резней, в которой погибло юношество едва ли не всех фамилий Государева двора. Неудивительно, что Царь при известии о большой победе вспомнил троицких молитвенников и в благодарственной грамоте величал их «небесными человеками и земными ангелами».
Но запомнился Троицкий архимандрит Царю в особенности «недерзновением». Когда во время Большого церковного собора 1666–1667 гг. Алексею Михайловичу понадобился новый Патриарх, тихость и послушливость были основными качествами претендента: не хватало еще, ко всем бедам и сложностям, прибавить строптивого архипастыря! Осуждение Никона позволило реально убедиться, кто из архиереев наименее строптив. Отметим, что пуганый Царь не нашел достойным никого из митрополитов и архиепископов, да и меж архимандритами выбрал, кажется, самого старого и буквально дышащего на ладан Иоасафа.
10 февраля 1667 г. ветхий старец был соборно поставлен в Патриархи Московские и всея Руси, чтобы занять на церковном соборе место ниже греческих патриархов. Никон, которого к тому времени заслали в Ферапонтов монастырь, отреагировал почти ласково: «…и то непрямой Патриарх», – повторяли его слова сторонники. Разумеется, непрямой, коли «Вселенские Патриархи непрямые, отставные и нанятые, – передавали из уст в уста мнение узника, – просили они у нашего Никона-Патриарха посулу (взятки. – А. Б.) 3000 и говорили: ты у нас по-прежнему будешь Патриарх». Разумеется, те, кто считал Никона Патриархом, поставленного с помощью продажных греков Иоасафа Патриархом признать не могли1039.
В свою очередь историки сомневаются не в формальном праве Иоасафа на патриарший клобук, а в реальности его участия в деяниях, совершавшихся архипастырским именем. По крайней мере решения церковного собора 1667 г. точно не зависели от его воли. О том, как было организовано это действо, подробно писали великие историки, в том числе С. М. Соловьев, митрополит Макарий, Н. Ф. Каптерев, а также довольно уделялось внимания и в наших исследованиях1040. Наряду с осуждением Никона собор утвердил его важнейшие обрядовые нововведения и 13 мая торжественно проклял староверов, которые предавались «градскому суду» – государственному уголовному преследованию.
Тем самым был утвержден раскол Русской православной церкви и найдено средство превратить его в массовое явление: воздействие грубой силой на сторонников старой веры само собой толкало в их ряды всех униженных и оскорбленных феодальным государством. Преследования проводились в жизнь именем Патриарха Иоасафа. Если не становиться на крайнюю позицию полного отрицания дееспособности сановного старца, следует признать, что он поддерживал преследования, как свидетельствует подписанная его именем суровая Увещательная грамота староверам.
Кто относился к последним – следует отметить особо, ибо представление о раскольниках как узкой группе несгибаемых (или твердолобых) в своих убеждениях (и заблуждениях) публицистов, вроде Аввакума со товарищи, боярыни Морозовой и т.п. лиц, «мутивших народ», очень далеко от истины. Даже столь сдержанный историк, как С. М. Соловьев, с возмущением писал о строгих мерах, принятых властями «против одного из самых знаменитых монастырей в государстве» – Макарьевского Желтоводского.
Согласно доносу Антиохийского Патриарха Макария, поступившему на имя Патриарха Иоасафа из Поволжья, «в здешней стране много раскольников и противников не только между невеждами, но и между священниками: вели их смирять и крепким наказанием наказывать»1041. Собственно говоря, укоренение решений церковного собора почта повсеместно означало лишь покорность верующих силе и авторитету центральной власти, впавшей, по убеждению значительной части россиян, в ересь: большинство смолчало, но многолетнее сопротивление царским карателям авторитетнейшей Соловецкой обители свидетельствовало, что, помимо служебного рвения, на Руси сохраняется уважение к собственной совести1042.
Помимо патриарших увещаний, царева воля утверждалась на просторах государства воинскими командами. Священники, которые наотрез отказывались править церковную службу по новым «никонианским» книгам, именем Иоасафа лишались должностей и предавались суду (1668). Служили староверы на просфорах с древним осьмиконечным крестом: досталось и выпекавшим их просфорницам, разосланным в наказание по монастырям (1668). Такая дотошность заставляет думать, что Патриарх не был столь дряхл, как полагают, или, по крайней мере, полагался на деятельных советников в делах чисто церковных.
Между тем компромиссность решений Собора 1667 г. оставляла выбор реальной политики за церковными властями, что должно было заставить энергичных архиереев стараться воздействовать на Патриарха, за которым, пускай формально и по подсказке, оставалось последнее слово. Например, собор отменил столь долго и настоятельно утверждавшееся у нас правило перекрещивания католиков при обращении их в православие. Но отмена эта, видимо, не привилась.
К инициативе Иоасафа относят указ о правильном писании икон, послания к выдающемуся живописцу Симону Ушакову, в которых Патриарх порицает вторжение в русскую иконопись западноевропейской манеры и тщится узаконить византийский стиль (1668). Обращение с этими увещаниями к организатору художественных работ государевой Оружейной палаты, к тому же художнику, прославленному именно работами в новом русском стиле, – серьезный шаг церковной власти, подчеркнувшей консервативность своего курса.
В патриаршество Иоасафа делались попытки провести в жизнь и иные соборные запреты и ограничения. Так, не полагалось признавать нетленные тела святыми мощами без достоверных освидетельствований: кто и насколько нетлен. Противились церковные власти всегдашнему стремлению народа работать и торговать в праздничные дни; запрещалось в праздники и производить суд. Иоасаф (либо его советники) приложил руку к издревле малоуспешной борьбе с народными обычаями, восходящими к языческим временам: запретили священникам шествовать с крестом впереди свадебного поезда, в котором резвятся скоморохи, звучат отнюдь не духовная музыка и пение. Эти запреты, возможно, именно в силу их невыполнимости, подтверждал позже и Патриарх Иоаким – вместе с установлением собора о единообразном одеянии всех духовных лиц.
К положительным мерам в пользу благочестия следует отнести возобновление при Иоасафе давно забытых проповедей в церквах и в особенности поддержку деятельности миссионеров, распространившуюся на Крайнем Севере до Новой Земли, на Дальнем Востоке до Даурии. На Амуре, близ зыбкой границы с Цинской империей, был основан Спасский монастырь (1671). Святость в тех краях была особенно необходима для укрепления духа малого числа россиян, которым вскоре пришлось героически сразиться с полчищами китайцев. И действительно, согласно местным сказаниям, к моменту нападения цинов православные святые, включая крайне западных (вроде князя Довмонта), уже поддерживали единоверцев в приамурских сопках. Это еще раз показало, что, хотя сама вера нематериальна, проявление ее (в данном случае для захватчиков) может быть весьма чувствительным.
Очезримым результатом патриаршества Иоасафа были книги, в большом числе издававшиеся государевым Печатным двором: справщики обыкновенно были монахами, и благословение Патриарха обязательно печаталось в выходных данных. Если «Сказание о соборных деяниях» и «Жезл правления» Симеона Полоцкого (с первыми полемическими сочинениями против староверов) вышли в 1667 г. по решению собора, то такие заметные издания, как «Большой катехизис» и «Малый катехизис», «Цветная триодь» (1670) и «Постная триодь» (1672), могли появиться лишь с согласия самого Патриарха. Любопытно, что, хотя о сверке изданий с древними русскими и греческими рукописями говорилось давно, реальная работа с греческими текстами заметна только в иоасафовских триодях1043.
Два решения высших иерархов Восточной церкви остались нереализованными, несмотря на горячую заинтересованность в одном из них светской власти, а в другом Симеона Полоцкого, являвшего собой типический пример русского прогрессивного интеллигента. Власть желала учреждения новых епархий на огромной территории государства для укрепления церковной власти на местах соответственно власти воеводской. Собор рекомендовал «сие необходимейшее дело исполнить». В результате за пять лет была организована одна епархия – Белгородская: да и та, я думаю, не случайно возникла в точности на территории базирования главной русской юго-западной армии под командой князя Г. Г. Ромодановского, внимательно заботившегося как о жизни, так и о душах своих ратников.
В свою очередь Симеон Полоцкий, сочинявший значительную часть соборных документов и материалов, сумел протащить под шумок важнейшее решение в пользу просвещения. О том, чего это стоило, говорит уже форма сохранившихся документов. Инициатива принадлежала группе анонимных прихожан московской церкви Иоанна Богослова, бивших челом Московскому и Восточным Патриархам о благословении построения в их приходе «славянския грамматики училища». О том, что неведомые радетели за просвещение были лицами подставными, свидетельствует впечатляющий результат этого прошения.
Три Патриарха в августе-сентябре 1668 г. дали благословенные грамоты, но не прихожанам, а некоему «честному и благочестивому мужу» имярек, который «неотступно молил» архиереев о благословении задуманного им училища при храме имярек. При сем грамоты санкционировали создание уже не просто славянского грамматического училища, а славяно-греко-латинской гимназии под руководством вышеуказанного мужа имярек. Кто писал за Восточных Патриархов подобные грамоты – известно; да и сохранилась вся подборка документов в сборнике Симеона Полоцкого, отредактированном его любимым учеником Сильвестром Медведевым1044.
Загадочна лишь реальная последовательность событий. То ли Полоцкий испросил своего рода «открытый лист» на гимназию и решил реализовать его в приходе Иоанна Богослова. То ли тамошний настоятель, выпускник Киево-Могилянской коллегии Иоанн Шмитковский челобитьем своих прихожан подал Симеону мысль запастись общей санкцией среднего образования в России у трех Патриархов. Как бы то ни было, патриаршие грамоты громогласно заявляли не просто о желательности – но о совершенной необходимости образования для укрепления благочестия.
Еще в решениях Большого собора Полоцкий заложил идею, что церковные нестроения и в особенности раскол связаны с темнотой и непросвещенностью народонаселения. Таким образом, вполне еретическая в глазах русских церковных властей мысль об острой необходимости учиться разным наукам, начиная с грамматики, была утверждена наиавторитетнейшим собранием православных архиереев. Прием для сегодняшнего времени не оригинальный, но в России XVII в. это было достижение служилого интеллигента, прямо-таки сверкающее новизной.
В патриарших грамотах Симеон не постеснялся развернуть свою идею с помощью блестящей риторики (обеспечившей, кстати сказать, его высокое положение при дворе). От имени греческих патриархов было заявлено, что «Премудрость Божия, единородное Слово Отчее» – это необходимейшая христианину «пища и питие». Кто ж спорит! Только Симеон, отталкиваясь от канона новгородской Софии-Премудрости, изящно подменил его содержание именной аналогией с премудростью-знаниями. Получилось, что именно приобретение знаний, учение и воспитание есть главный путь к Богу.
В конце XVII в. та же мысль пронизывала творчество придворного поэта Кариона Истомина, писавшего о необходимости сознательного построения, путем разумного воспитания и обучения, «града Царства Небеснаго» в душе земного человека-микрокосма. Тогда убеждение, что человек есть «словесноумное животное» и только на пути познания мира приближает свою небесную часть – душу – к Богу, выглядело естественным. В 60-х же годах мысль Полоцкого на фоне равнодушия большинства иерархов к просвещению звучала революционно.
Из нее вытекало, что дети, желающие «безвозбранно и безпакостно насыщатися» знаниями, прямой дорогой следуют к Христу. Где в таком случае остаются русские архиереи, умеющие только читать, писать и петь по нотам? Ведь путь к Премудрости Божией, согласно грамоте Восточных Патриархов, пролегал через «учение различными диалекты: греческим, словенским и латинским». А сами архиереи есть «Премудрости Божией рабы, посланные созывать с высоким проповеданием на сию трапезу всякого чина и сана людей»1045. Потому-то и возрадовались греческие патриархи великим веселием, обретя в Новом Израиле (России) такую «ревность и любительство премудрости».
Окончательно добивает Симеон противников просвещения утверждением, что греческие патриархи радостно дают благословение «на создание училищ и в них устроение учения» не только своей волей, но «приемше согласие» самого Великого Государя Алексея Михайловича. Что и говорить, грамота смелая, вышедшая из-под пера истинного борца за просвещение. Но грамота от имени Патриарха Иоасафа звучит еще сильнее. Читая ее, нельзя не согласиться, что старец-архипастырь не слишком вникал в содержание документов, скрепляемых его именем. Поскольку подписать такое в здравом уме и твердой памяти русский архиерей не мог тогда никоим образом!
Именно премудрость, утверждается в грамоте, драгоценнее всего на свете. Более того, именно она дарует все блага своему обладателю. Наконец, никого так не возлюбит Бог, «токмо сего, иже с премудростью пребывает, ибо сия краснейша солнца». Библейские тексты о Премудрости, ставшие чрезвычайно популярными в придворной литературе позже, во времена регентства Царевны Софии (по-гречески – мудрости)1046, уже в грамоте Иоасафа использованы для обоснования преимущества ее обладателей над людьми неучеными: мысль, не утвердившаяся в нашем обществе доселе, не говоря уже о XVII столетии…
Как простой иеромонах, не поднявшийся в церковной иерархии выше должности строителя Заиконоспасского монастыря (что в Китай-городе напротив Никольских ворот Кремля), Полоцкий был до чрезвычайности смел. Но в качестве официального учителя царских детей и секретаря-переводчика греческих архиереев, съехавшихся на собор в Москве, он поступал скорее ловко, хитроумно используя необычность ситуации для утверждения от имени архипастыря важнейшей нравственной идеи, лежащей в основе прогресса.
Блаженнейшими, утверждает грамота Иоасафа, следует называть тех, кто всем сердцем ищет неоценимого сокровища премудрости, «всяким не отрицающе трудом и бодрых не засыпающе бдений, паче же пот изливающе». Таким всякое должно воздаваться почитание и подобство от людей всякого сана, особенно от правителей церковных, как Божией Премудрости любителей, искателей и проповедников.
Обратите внимание на тонкость выражений отца Симеона. Назвать российских архиереев любителями просвещения было бы прямым и нескрываемым издевательством. Но поскольку премудрость в грамоте аналогична Премудрости, а церковные иерархи действительно поставлены проповедовать Слово Божие, упрекнуть Полоцкого абсолютно не в чем. Думаю, этот пример довольно объясняет ненависть многих архиереев (во главе с будущим Патриархом Иоакимом) к Симеону, не угаснувшую даже много позже смерти просветителя, и их глубокое отвращение ко всяким грамотеям, которые подобным образом «силлогисмами упражняются».
Патриарх Иоасаф, стараниями Полоцкого, пошел дальше греков и вместо школы для «младенцев» санкционировал гимназию «свободных учений мудрости» для «юных отрок». При сем «спудеи» должны были изучать не только науки тривиума и квадривиума, т.е. семь свободных искусств: грамматику, диалектику, риторику, геометрию, арифметику, астрономию и музыку (как в Киево-Могилянской коллегии), но и богословие, что служило верным признаком университетского курса. У гимназического учения были серьезные противники – с университетом же Симеон кажется мечтателем. Однако не следует забывать, что впоследствии его ученик Сильвестр Медведев действительно добился у Царя Федора «Привилегии» Московскому университету с правами и свободами, которыми до сих пор не обладает в стране даже такой университет, как МГУ1047.
О силе сопротивления замыслу просветителя свидетельствуют проклятия, коими греческие и Московский патриархи заранее награждают каждого «учений ненавистника, завистника и пакостителя». Паисий Александрийский и Макарий Антиохийский назначают отмстителем, «хотящим сему Божественному делу препинание или пакость творити», самого Бога: в сем веке и в будущем, пока не рассыплются кости его в аду. Иоасаф вкупе с отлучением призывает на голову противника просвещения кары Каина и Иуды.
Речь, как видим, идет о блестящей победе свободных наук над «мраком невежества». Но, подобно многим удачным аппаратным маневрам российских интеллигентов, этот привел к обратным результатам, вполне характеризующим господствующее настроение окружения Патриарха Иоасафа. Ни греческого, ни латинского, ни славянского училища открыто не было. Гимназия в приходе Иоанна Богослова не возникла. Более того, действовавшее в Заиконоспасском монастыре (с 1665 г.) небольшое училище Симеона Полоцкого уже в начале 1668 г. закрылось.
К 1667–1668 гг. относится также последнее упоминание о деятельности ученых старцев, собранных Федором Ртищевым в Андреевском монастыре: уже в следующем году эти просвещенные монахи обитали в Иверском монастыре, где считались «крамолистыми, своенравными, не общежительными». Жалоба на них была адресована известному в будущем главе «мудроборцев» Иоакиму Савелову, тогда еще архимандриту Чудовского монастыря. Таким образом, после патриаршего благословения просвещения и проклятия его противников все известные нам московские училища оказались закрытыми1048, и положение это сохранялось до начала 80-х гг. XVII в.1049
Недопущение распространения училищ обошлось без единого открытого выступления против учения, без каких-либо обличений «зломысленного мудрования», характерных для более позднего времени. Это свидетельствует о решительном, подавляющем перевесе противников схоластического образования среди церковных и светских властей, от которых зависела реализация патриарших благословенных грамот.
Заметим также, что решительный отпор сторонникам свободных наук был дан еще до отъезда из Москвы экс-Патриарха Александрийского Паисия и лжемитрополита Газского Паисия Лигарида, работа при которых переводчиком-референтом давала Симеону Полоцкому немалые дополнительные возможности влияния. Греческие власти воспринимались Царем Алексеем Михайловичем лучше русских, и даже на похоронах его сына царевича Симеона в июне 1669 г. Паисий Александрийский выступал впереди Иоасафа Московского и всея Руси.
Мало того, престарелому архипастырю пришлось постараться, чтобы придать изверженным греческим властям сколько-нибудь приличный вид. Константинопольский Патриарх Парфений, справедливо сместивший Паисия и Макария с давно брошенных теми престолов, был по просьбе Царя сослан турецким султаном, а Александрийский Патриарх Иоаким ограблен и изгнан турецкими властями. Оставалось лишь убедить нового Константинопольского Патриарха Мефодия не противодействовать возвращению Паисия и Макария: этому послужила изрядно приправленная ложью грамота, подписанная бедным Иоасафом.
Бессловесный Патриарх Московский был готов просить даже за отлученного от Восточной Церкви и проклятого Паисия Лигарида в надежде избавиться, наконец, от хитроумных греков. В грамоте Иерусалимскому Патриарху Нектарию Иоасаф умолял отпустить вину Лигарида и выслать на Русь «писанием своим архипастырское прощение и благословение» этому проходимцу, ибо «премногие труды его премудрые многую пользу церкви Великороссийской принесли».
Вкупе с царскими увещаниями и, главное, с золотом, просьба Иоасафа возымела успех. Новый Иерусалимский Патриарх Досифей, отмечая полнейшее недостоинство Лигарида, прислал ему прощение с выговором за службу папе Римскому и 15-летнее пренебрежение своей паствой; «…ты… глуп, бесчеловечен и бесстыден, – суммировал Досифей оценку Лигарида, – только место, где пребываешь, есть двор царский». Впрочем, новые преступления Паисия вскрылись уже через два месяца, он был вновь, уже окончательно, отлучен, и Патриарх Иоасаф так и не дождался дня, когда ловкий делец покинет Москву: старец скончался 17 февраля 1672 г.
Чтобы закончить грустное повествование о седьмом Патриархе всея Руси, отмечу основное условие понимания странных на первый взгляд событий более чем трехсотлетней давности. Оно состоит в том, что не следует преувеличивать изменения, произошедшие с тех пор в обстоятельствах русской жизни, и смотреть на людей XVII в. как на музейные экспонаты. Особенно это касается властей предержащих, доселе свято соблюдающих свои таинства и ритуалы. Достаточно войти в любое правительственное учреждение, чтобы преодолеть грань между тремя столетиями.
Питирим
Драма пастыря энергичного, сильного духом и глубоко убежденного в величии архиерейского служения, но неспособного открыто восстать против утверждения самовластия над Церковью «благочестивейшего и тишайшего» Царя Алексея Михайловича, вызывает неуместное, может быть, сочувствие. Деяния личностей героических – вроде Никона или вождей староверов – направляют историю, но не столь потрясают обычного человека в глубине души. Судьба Патриарха Питирима, занимавшего «превысочайший престол» менее года (с июля 1672 г. по апрель 1673 г.), предзнаменует собой третий – средний между свободой воли Никона и бессловесностью Иоасафа II – путь русской интеллигенции, на мой взгляд, наиболее трагический.
Дважды «у врат смертных» особо ясно зрел свое ничтожество Питирим, живший в помыслах, но бессильный претворить их в действие. И как бы для того, чтобы яснее показать тщету гордыни мнимо свободного духа в рабском теле, два его горестные «Заветные писания» разделены переполненным торжеством «Словом к Государю при поставлении в Патриархи» (7 июля 1672 г.). Мы, однако, воздержимся от того, чтобы восплакать над судьбой Питирима и не позволим сочувствию к понятным человеческим слабостям затуманить слезою ясный взгляд на поучительный путь жизни мечтательного холопа.
Тень Никона
2 декабря 1655 г. Патриарх Никон подписал настольную грамоту митрополиту Сарскому и Подонскому Питириму, признанному «достойным и ведущим предстательство людей» освященным собором, а главным образом самим архипастырем. Возведенный в сан Новоспасский архимандрит Питирим «слово дал Богу и нашему смирению, – писал Никон, – показать послушание»1050. Для этого при всевластии «Великого Государя Святейшего Патриарха» не было никаких препятствий. Сарский и Подонский митрополит в XVII в., как и поныне, имел епархию лишь на словах и именовался более точно Крутицким (по сохранившемуся до наших дней прекрасному архитектурному памятнику – митрополичьему двору на Крутицах). Он исполнял роль управляющего делами при Патриархе.
10 июля 1658 г. при отшествии Никона с Патриаршего престола именно Питирим должен был отправиться из окруженного толпами безутешного народа Успенского собора во дворец к Царю Алексею Михайловичу рассказать, что деется. Миссия не стала значительной. «Точно сплю с открытыми глазами и все это вижу во сне», – только и заметил Алексей Михайлович на рассказ Питирима, а все дальнейшие переговоры с Никоном вел через своих придворных.
Однако для описания и судебной оценки событий показания Питирима (и ряда других духовных лиц) оказались весьма существенными. 16 февраля 1660 г. Царь в присутствии Боярской думы объявил специально собранному в Золотой палате духовенству, что показания митрополита Сарского и Подонского первыми свидетельствуют о самовольном оставлении Никоном престола и, более того, об отречении от него с клятвою. Это означало возможность и необходимость поставить на место «отрекшагося своей епископии» Никона нового Патриарха.
По сути, Питирим вместе с другими присутствовавшими при отшествии Никона и дважды давшими показания (перед открытием собора, 14–15 февраля 1660 г., и в ходе его, 20–22 февраля) духовными и светскими лицами говорил правду1051, что было легко и приятно, поскольку это была правда, угодная Государю. Сам Никон не упрекал своего доверенного ставленника за эти показания, возможно, потому что решения собора 1660 г. были немедленно поставлены под сомнение не только опальным Патриархом, но также некоторыми духовными лицами из царского окружения, и в конечном итоге проигнорированы Алексеем Михайловичем1052.
Конечно, Питириму было обидно узнать, что Никон мимоходом нарек этот бесполезный собор «синагогою иудейскою», отметив между прочим, что был судим властями, которые от него же получили рукоположение, как отец детьми. На тот факт, что из всех свидетелей только митрополит Питирим и боярин князь А. Н. Трубецкой заверяли, будто «Патриарх Никон патриаршества своего отрекся с клятвою», бывший благодетель Крутицкого митрополита вообще не обратил внимания. Одного слова Никона, что «оставил я престол, но архиерейства не оставлял», оказалось достаточно, чтобы поломать все приготовления к избранию нового Патриарха.
Скажут, что Питирим все равно выиграл, получив в свои руки реальное церковное управление вместо запершегося в Новом Иерусалиме Никона, тогда как при поставлении нового Патриарха не имел решительных шансов занять престол. Однако должно заметить, что митрополит Сарский и Подонский отнюдь не стал местоблюстителем Патриаршего престола и в период «межпатриаршества», как он сам писал в ставленых грамотах духовенству, действовал «по государеву цареву… указу»1053.
На смену руководству со стороны властного Никона пришел контроль светских властей над тем же управляющим делами Церкви: может быть, не столь строгий и мелочный, но отнюдь не дававший реальной власти, утеснявший чтимую Питиримом церковную свободу и досадительный из-за справедливых упреков опального Патриарха, с которым самому митрополиту предписывалось не считаться, но слово коего было весьма авторитетно для Царя (и, как увидим ниже, для части духовенства).
Единственная честь – действовать вместо Патриарха в Успенском соборе и при предписанных традицией «выходах», например, при шествии на осляти в Вербное воскресенье, – была отравлена этим унизительным положением эрзац-архипастыря. Ко всему еще Никон, озлобившись на Государя, в 1662 г. в неделю православия, по выражению митрополита Макария, «торжественно проклял, или анафемствовал» стоявшего тогда во главе русской иерархии Крутицкаго митрополита Питирима, проклял за три будто бы вины: «за действо вая [шествие на осляти], за поставление Мефодия, епископа Мстиславского, и за досадительное и поносительное к себе слово»1054.
Проклятие это, произнесенное Никоном в сердцах, наделало много шуму на Москве, показав, в частности, чего стоит авторитет митрополита Крутицкого. Уведав об анафеме, Царь Алексей Михайлович потребовал мнения на этот счет от архиереев. Известны письменные ответы Государю митрополитов Новгородского Макария и Ростовского Ионы, архиепископа Рязанского Ионы и двух епископов – Вятского Александра и Полоцкого Каллиста. Вероятно, дело обсуждалось еще шире, демонстрируя внимание Государя к Никону и унизительное положение Питирима, которому лишь после того, как архиереи высказались в его пользу, было дозволено 13 октября 1662 г. бить челом на Никона за незаконную клятву1055.
Прямых последствий челобитье Питирима не имело. Только в декабре Государь, сетуя в Успенском соборе во время всенощной на праздник Петра митрополита, что Русская православная церковь вдовствует без пастыря, вслух пожаловаться изволил и на произвольные проклятия, коими осыпает Никон Питирима и иных без собора и без всякого испытания. К этому времени С. М. Соловьев относит решение Государя о созыве Большого церковного собора с участием Восточных Патриархов; но до реализации подобного замысла было еще очень далеко.
Пока же Никон, насколько можно судить, прекратил проклинать Питирима. Но не потому, что не нашел в этом поддержки (раз произнесенное отлучение было в глазах Никона действительным, доколе оно не снято), а скорее по причине незначительности в его глазах этой личности. В феврале 1663 г. Никон, между прочим, официально заявил царским посланцам свое презрение к действующим духовным властям, выделив управляющего делами Церкви: «…а Питирим митрополит и того не знает, почему он человек»1056. Это была очередная несправедливость опального Патриарха. Но несомненно, что во время своего управления митрополит Крутицкий следов самостоятельной деятельности почти не оставил.
Позже, в 1665 г. (после своей переполошившей дворец попытки вернуться на престол в декабре 1664 г.), Никон счел необходимым подробно разъяснить Восточным Патриархам ситуацию с управлением Русской православной церковью. Грамоты его были перехвачены уже на Украине и произвели новое волнение при московском дворе. Питирима, несмотря на недовольство его деятельностью, Никон скорее оправдывал, справедливо видя в церковных деяниях волю Государя.
«Приказали мы править на время Крутицкому митрополиту Питириму, – писал Никон. – И по уходе нашем Царское Величество всяких чинов людям ходить к нам и слушаться нас не велел, потребное от Патриаршества давать нам запретил; указал – кто к нам будет без его указа, тех людей да истяжут крепко и сошлют в заточение в дальние места, и потому весь народ устрашился. Крутицкому митрополиту велел спрашивать себя, а не нас. Учрежден Монастырский приказ, повелено в нем давать суд на Патриарха, митрополитов и на весь священный собор, сидят в том приказе мирские люди и судят…». Претензии Никона лично к Питириму были связаны с подчинением митрополита светской власти в таких церковных делах, которые опальный Патриарх счел вовсе уж неподсудными мирскому разумению: «Мы предали анафеме… Крутицкого митрополита Питирима, потому что перестал поминать на Литургии наше имя, и которые священники продолжали поминать – тех наказывал; он же хиротонисал епископа Мефодия в Оршу и Мстиславль, и послали того в Киев местоблюстителем, тогда как Киевская митрополия под благословением Вселенского Патриарха».
Никон не напрасно обличал противоканоничное поставление местоблюстителя Киевской митрополии, непосредственно подчинявшейся Патриарху Константинопольскому. В этой истории царское правительство отрабатывало действия, с помощью которых оно затем старалось придать видимость законности низвержению с престола самого Никона.
Украинские маневры
Дело Мефодия, подробно рассмотренное знаменитым историком Церкви митрополитом Макарием1057, воистину было беззаконным и соблазнительным, но Питирим имел к нему лишь формальное отношение. На Украине шла война; Правобережье отпало от России с изменой Юрия Хмельницкого; на Левобережье полковники насмерть боролись между собою за гетманские клейноты1058. В тяжелые 60-е годы у московского правительства, и так не слишком деликатного в делах Церкви, проявилось обычное в таких случаях стремление идти напролом, уповая, что победа все спишет.
Поскольку Киевский митрополит, управляя значительной частью украинской Церкви, держался на территориях, подвластных польскому королю, российской частью Киевской епархии ведал местоблюститель – ученейший Лазарь Баранович, епископ Черниговский (впоследствии архиепископ Черниговский и Новгород-Северский). Как и иные просвещенные представители левобережного православного духовенства – архимандриты Печерский Иннокентий Гизель, Михайловский Феодосий Сафонович, ректор Киево-Могилянской коллегии Иоанникий Галятовский и другие, – Лазарь твердо стоял за решение объединиться с Россией, принятое Переяславской радой.
В то же время он был непонятен московским чиновникам своим нежеланием вовлекать Церковь в политическую и тем паче междоусобную войну. Баранович со товарищи упорно не желал видеть неустойчивую военно-политическую границу между Речью Посполитой и Российской державою, когда речь шла о православном духовенстве Киевской митрополии. Блюдя благочестие в своей части епархии, епископ искренне чтил оказавшегося за границей митрополита и иных собратьев – пастырей украинской Церкви. Эта позиция была приемлема для Москвы, пока речь шла о переходе под крылья двуглавого орла всей Украины и оставалась в силе декларированная цель войны: освобождение от неприятеля исконно благочестивых древнерусских православных земель.
Когда же в ходе тяжелой войны с Польшей, осложненной шатаниями казаков и гетманов, вмешательством Швеции, Крыма и Турции, встал вопрос о границе unti possidentis, по месту, где стояла нога воина, ревнители единства южнорусского православия стали вызывать в Москве все большие подозрения. Зато близок и понятен московским политикам был Нежинский протопоп Максим Филимонович, горячо приветствовавший еще в 1654 г. вступление русских в Нежин и поход Государя на Смоленск.
С тех пор Максим ревностно служил добровольным агентом, заваливая царскую администрацию политическими донесениями. Его-то и предпочли ученому и благочестивому мужу Лазарю Барановичу! На русской части Украины не было для него архиерейской кафедры? Не беда, на отвоеванных землях Белоруссии нашлась епископия Мстиславская и Оршанская. 4 мая 1661 г. Нежинского протопопа, нареченного в монашестве Мефодием, рукоположил на нее митрополит Питирим «по соизволению Царя, благословению всего освященнаго собора и совету царскаго синклита».
«Соизволивший» на сие Государь (не говоря уже об архиереях) прекрасно осознавал беззаконность вторжения в юрисдикцию Патриарха Константинопольского. Об этом Царь Алексей Михайлович прямо писал последнему в декабре 1662 г.: «…по нужде допускается и пременение закона. Мы рассудили меньшим пожертвовать большему: ибо лучше нарушить правило, запрещающее епископу рукополагать в чужом пределе, нежели соблюсти правило, но допустить, чтобы те души впали в погибель».
Питирима, писал Государь, «мы понудили рукоположить этого епископа для спасения украинского православия, которое якобы вслед за Киевским митрополитом Дионисием Балабаном готово было соединиться с папистами… Подданные наши казаки, называемые черкасами, живущие в городах Малой и Белой России, поползновенны и удобопреклонны к иноземному ярму; ныне же особенно узнали мы их удобопреклонность к соседним им папистам».
Кто создал у Царя такое впечатление – очевидно. Нагнетание страхов перед пронизывающей все и вся «изменой» – любимое средство карьеры политических дельцов. Извещенный о «шатости» украинцев Царь не обратил внимания даже на то, что чтившее митрополита Дионисия левобережное духовенство совершенно безропотно приняло незаконного московского ставленника, рукоположенного к тому же анафематствованным Никоном архиереем.
Даже Лазарь Баранович, которого явочным порядком известили о смещении с должности местоблюстителя Киевской митрополии, не выказал и тени обиды. Не медля отбыв в свою епархию, Лазарь 2 августа 1661 г. отписал Государю, что «боголюбиваго епископа Мстиславскаго и Оршанскаго, господина отца Мефодия Филимоновича, истиннаго богомольца вашего величества, я честно почтил и принял, со всем духовным собором, как брата и сослужителя своего, и посадил на престол митрополии Киевской блюстителем, отдав ему в целости все имущество, церковное и монастырское».
Облеченный высоким саном московский агент, прибыв на Украину с изрядным запасом денег для оперативной работы, стал действовать столь энергично, перебегая от одного претендента на гетманские клейноты к другому, что окончательно запутал Москву и Украину. Первый приведенный им к присяге гетман Самко в январе 1662 г. горестно извещал Москву: «Такой баламут, как Мефодий, и в епископы не годится. Государь пожаловал бы нас, велел Мефодия вывести из Киева и из черкасских городов, а если его не выведут… и мы на раду не поедем… Сначала сложился он с Василием Золотаренком, а теперь сложился с Брюховецким».
Вслед за возмущенными интриганством Мефодия претендентами на гетманство выступил Никон, проклявший Питирима. Анафема падала и на рукоположенного Крутицким митрополитом, которого Никон, по церковным правилам, не мог проклинать, как подчиненного Константинополю. Впрочем, страшное проклятие Цареградского Патриарха на Мефодия не замедлило последовать. Но московское правительство не смутилось. Когда грамота Алексея Михайловича с оправданием беззакония «по нужде» не возымела действия, на Востоке была предпринята дипломатическая операция по выведению государева слуги из-под клятвы, – сходные мероприятия позже пришлось повторять с главными действующими лицами судилища над Никоном.
Впрочем, подкуп восточных архипастырей для утверждения ими московских беззаконий был делом тонким, требующим навыков и времени. Пока тянулось «очищение» Мефодия, против местоблюстителя, лишь изредка заглядывавшего в Киев (и никогда не появлявшегося в собственной епархии), возмутилось, наконец, киевское духовенство:
«Мы принимали его, по грамоте нашего милостиваго Государя, за блюстителя… он же вместо отца явился нам великим неприятелем и, вместо блюстителя, губителем!» – почти единодушно писали украинские власти (за вычетом смиренного Лазаря Барановича).
Выказывая обиду, украинцы осмелились сослаться на каноническое право. Во-первых, «отец Мефодий находится под проклятием как Патриарха Константинопольскаго, так и Московскаго, за то, что вмешался незаконно в чужую диоцезию». Во-вторых, «он посвящен на епископство без всякой елекции» (избрания. – А. Б.). В-третьих, «он только по своему желанию, не имея никаких заслуг пред Церковию, выпросил себе блюстительство». Наконец, он «и нас всех фальшиво привел в подозрение у его Царскаго Величества».
Единодушное негодование киевского духовенства интересно для нас тем, что показывает реальное, скрытое обычно смирением перед волей Государя церковное правосознание, в котором Никон, покинувший только Москву, но оставшийся в пределах своей епархии, не выглядел низложенным. В украинском же междоусобии, старательно раздуваемом Мефодием, победил этот смутьян: гетманом был избран его ставленник Брюховецкий, а Самко и Золотаренко, послужившие московскому агенту разменной картой, преданы смертной казни.
Года не прошло, как Брюховецкий и Мефодий рассорились, причем гетман, ссылаясь на «статьи», принятые еще Переяславской и Батуринской радами, потребовал, чтобы «в Киев на митрополию был бы послан, по указу государеву, русский святитель из Москвы»: «чтобы духовный чин киевский не шатался к ляхским (польским. – А. Б.) митрополитам… и духовный чин, оставив двоедушие, не удалялся из послушания Святейшим Патриархам Московским».
Малороссийское духовенство, естественно, воспротивилось покушению на свои исконные вольности и сочло гетмана врагом церкви. В разгоревшейся вражде больше всех выиграл двоедушный Мефодий, вокруг которого вынуждены были сомкнуться защитники права украинского духовенства избирать себе митрополита. Мефодий не только временно удержал, но и укрепил свою власть, а в 1665 г. епископ, так и не побывавший (по Макарию) в своей епархии, был вызван в Москву судить Никона как оставившего Патриарший престол.
«Отравители»
Между прочим, такой же упрек, какой митрополит Макарий адресовал Мефодию, Патриарх Никон бросил Питириму. «Правит тремя епархиями, – заявил о нем Никон Паисию Лигариду (лжемитрополиту Газскому), – патриаршескою, Суздальскою и своею Крутицкою, в которой со времени своего поставления ни разу не был». На читателя, уже знакомого с судьбами собиравшихся Царем против Никона восточных архиереев (часто уже лишенных мест, а то и проклятых за оставление паствы и сотворенные в жажде наживы тяжкие прегрешения)1059, подобное обвинение вряд ли произведет впечатление.
Судьба Паисия была в руке царской. Но только ли приказами объясняется его выступление против Никона? Ведь последний, в общем-то считая Паисия марионеткой, в том же письме Лигариду утверждал, что Крутицкий митрополит предпринял и самостоятельное действие: «подсылал злаго человека, чтобы отравить нас». Речь шла о страшном деле, разыгравшемся в 1660 г.1060, когда Никон, как бы между прочим, отписал в Москву своему приятелю боярину Н. А. Зюзину из Крестного монастыря, что его чуть было не отравили, едва Господь помиловал: «безуем камнем и индроговым песком отпился;.. и ныне вельми животом скорбен».
После принятия «безуя камня» и тертого бивня нарвала (к которому на Руси относили легенды о целебных свойствах рога единорога) и впрямь могло живот прихватить. В Москве, однако, письмо Никона вызвало изрядное беспокойство строками, что это «Крутицкий митрополит да Чудовский архимандрит прислали дьякона Феодосия со многим чаровством меня отравить, и он было отравил». Обвинение именно близких к правительству лиц, Питирима и его ближайшего помощника архимандрита Павла, особенно энергично закрутило колесо костоломной следственной машины.
Никон писал с островка в Белом море в конце июня; уже к сентябрю обвиненные им черный дьякон Феодосий и портной мастер Тимошка были в Москве под пыткой. Оказалось, что речь шла об обычной ворожбе «для привороту к себе мужеска полу и женска», а «повинную» Никону Феодосий написал поневоле, когда его били плетьми девять раз1061. На пытке Тимошка назвал всех, кто велел ему оговорить Феодосия: не было, оказывается, и ворожбы. Но, по правилу, страшно пытали и Феодосия: тот должен был очиститься от обвинений. Дело «отравителей» доказывало только, что кто пытает, тот и добивается желаемого результата.
Для нас гораздо важнее отметить, кого именно Никон считал своими настоящими личными врагами среди московского духовенства в 1660 г., подтвердив эту оценку (относительно одного Питирима) в письме 1662 г., а затем открыто обвинив Питирима и Павла перед Государем и Восточными Патриархами на Большом соборе в декабре 1666 г. Тогда Никон потребовал, чтобы сих двух архиереев, хотевших его отравить и удавить, выслали с заседания собора вон. Питириму и Павлу пришлось защищаться, представив розыскное дело с пыточными речами несчастных Тимошки и Феодосия: Царь лично вручил оное Восточным Патриархам.
Там же, на Большом соборе, довелось Питириму оправдываться и по обвинению в захвате патриаршего места на торжественных церковных службах. «Тебе действовать не довелось, – заявлял Никон, – то действо наше, патриаршеское». Митрополит твердил: «…в божественных службах в соборной церкви (Успенском соборе Кремля. – А. Б.) я стоял и сидел, где мне следует, а не на патриаршеском месте; в неделю ваий действовал по государеву указу, а не сам собою». На помощь Питириму вновь поспешил Государь, обвинивший Никона в том, что тот сам подобным Питириму образом служил в бытность Новгородским митрополитом, к тому же в Никоново патриаршество аналогично действовали митрополиты в Новгороде, Казани и Ростове…
Питирим и Павел в свою очередь активно нападали на бывшего покровителя. «Ты и сам, – говорил Никону Питирим, – на Новгородскую митрополию возведен на место живого митрополита Авфония». – «Авфоний был без ума, – ответствовал Никон, – чтоб и тебе так же обезуметь!». Вместе с Иоасафом, архиепископом Тверским, Питирим поддерживал на соборе важное обвинение, что опальный Патриарх отрекся от своего престола «с клятвою». «Если буду [вновь] Патриарх – то анафема буду!» – говорил, по их словам, Никон1062.
Не менее активно выступали против Никона и некоторые другие архиереи (например, Илларион Рязанский), но именно Питирим и Павел раньше и больше других были восприняты опальным владыкой как «отравители» его отношений с Государем. Действительно, эти двое наиболее твердо стояли против возвращения Никона на Патриарший престол, поддерживая усилия придворных не допустить, чтобы могучая личность Никона вновь подчинила себе волю «тишайшего» Царя. И они сыграли, если не главную, то заметную роль в обороне Церкви и государства от страшившего многих возвращения Никона.
Вокруг Патриаршего престола
Хотя церковная власть в период «межпатриаршества» была крепко ущемлена «царством», ее не следует считать вполне призрачной. В борьбе за управление Русской Православной Церковью Питирим и Павел – редкий случай! – действовали командно, рука об руку. 5 августа 1664 г. Питирим избран был на высокую степень митрополита Новгородского и на следующий день в присутствии Государя хиротонисан митрополитом Ионой Ростовским с освященным собором.
Действо происходило при активном участии лжемитрополита Газского Паисия Лигарида, вторым (после Ионы) подписавшего 7 августа и настольную грамоту Питирима1063, но, по крайней мере официально, не игравшего главной роли в переводе последнего на Новгородскую митрополию и тем более в поставлении на освободившуюся кафедру Сарскую и Подонскую архимандрита Павла, как это утверждал в 1666 г. Никон: Павел был рукоположен именно Питиримом1064. Хотя, как справедливо отметил Никон, Лигариду «то делать не довелось, потому что от Иерусалимского Патриарха он отлучен и проклят»; новая расстановка русских церковных властей в 1664 г. была произведена внешне законно.
Питирим становился первым претендентом на Патриарший престол, Павел должен был взять в свои руки дела управления всей Церковью периода «межпатриаршества». Их маневр был, однако, слишком очевиден, чтобы не вызвать сопротивления других желающих поиграть за кулисами церковной власти. Управляющим делами Церкви неожиданно стал митрополит Иона Ростовский, рукополагавший митрополита Питирима старец, далекий от властолюбивых помыслов.
Однако Государь и его окружение просчитались: Иона не мог выдержать прямого столкновения с Никоном – и не выдержал. Когда в ночь на 18 декабря 1664 г. Никон неожиданно объявился в Москве и, вломившись с толпой своих приверженцев в Успенский собор, взял в руку посох св. Петра митрополита, Иона в полной растерянности принял от него благословение. Вслед за митрополитом и священство кинулось под благословение Никона, а народ бурно приветствовал вернувшегося Патриарха.
Иону Никон послал к Государю с извещением о своем приходе; дворец ужаснулся. Но Павел Крутицкий твердо стал на сторону Государя и бояр, принявших решение вновь выслать Никона из столицы, а затем активнейшим образом участвовал в изгнании опального Патриарха. «Тебя я знал в попах, – кричал Никон Павлу, отказываясь отдавать посох св. Петра, – а в митрополитах не знаю! И кто поставил тебя митрополитом, того не знаю, и посоха тебе не отдам!..» Митрополит Павел по приказу Государя, внешне нимало не смущаясь, взял-таки посох и поставил в соборе на прежнем месте. Никон был изгнан, с его тайными сторонниками расправились.
Наступила очередь Ионы. Государь не принял от него благословения и лично обличил отступника; старец оправдывался «забвением» и страхом пред внезапным явлением Никона. Павел, возглавив спешно собранный собор, «укоротил» Иону в лучших церковно-административных традициях. 22 декабря 1664 г. маленький и хорошо управляемый собор постановил признать Иону виновным в том, по определению митрополита Макария, «что он, забыв свое соборное рукоподписание и будучи наместником Патриаршего престола, прежде всех принял благословение от бывшаго Патриарха Никона и тем подал худой пример прочим церковникам1065.
Только из «нисхождения к немощи своего собрата» архиереи предложили Ионе «очиститься» унизительной клятвой: «Свидетельствуюсь Богом, что я не имел никакого согласия и совета с бывшим Патриархом Никоном о пришествии его на престол; что принял от него благословение без хитрости, будучи устрашен его внезапным пришествием и одержим ужасом, и что в то время мне не пришло на ум мое соборное рукоподписание, которое сотворил я о неприятии Никона на Патриаршеский престол».
Произнесение несчастным Ионой этой клятвы должно было очистить его от всякого зазора, а митрополиту Павлу – дать возможность не учинять поспешно собор для суда над ним. Довольно было получить от каждого архиерея в отдельности ответ на разосланную уже на следующий день государеву грамоту с вопросом: «Достоит ли теперь Ионе оставаться наместником Патриаршего престола и держать начало над архиереями в соборной церкви»?
Совсем убирать Иону, без воли Патриарха рукоположившего Питирима, было неудобно. Старцу разрешили даже совершать Литургию (только не в соборе и не с архиереями), а после «очищения» обещали, что Государь будет принимать его благословение. 27 января, по получении заказных архиерейских ответов, Павел вновь собрал малый собор и сделал следующий логичный шаг. Ионе дозволили благословлять Государя (при желании последнего), но от наместничества Патриаршего престола отлучили вовсе, а на будущий Большой церковный собор поставили новый вопрос: будет ли Иона начальствовать между архиереями?
Это было принципиально для будущих выборов Патриарха, ведь Иона был не только старейшим среди архиереев главой одной из почтеннейших епархий, – он, безусловно, возвышался над Новгородским митрополитом, от Ростовского рукоположенным. Само собой, Питирим прибыл в Москву на собор 10 февраля 1665 г., лишивший Иону всех преимуществ перед ним. Мало того, решение собора было закреплено государевой грамотой, повелевавшей: «…митрополиту Ионе быть на митрополии в Ростове, а на Москве блюстителем соборной церкви быть Павлу митрополиту».
26 марта 1666 г. Питирим сделал еще один тонкий ход, поставив в протопопы кремлевского Благовещенского собора священника Андрея Савина. Значение этого мероприятия раскрывается замечанием в дворцовой записной книге: «…и по Божию благословению и царскому изволению Андрей Савин учинен духовником царским». Так позиция Новгородского митрополита была закреплена и во дворце, при «боголюбивом Государе» Алексее Михайловиче1066.
Увы, все эти затеи пошли прахом. Большой церковный собор 1666–1667 гг. был организован светской властью не только для того, чтобы с помощью административно утвержденного (и по сути ложного) авторитета восточных архиереев осудить и Никона, и староверов. С его помощью царство подавило поползновения священства отстоять хотя бы часть могущества Русской Православной Церкви, достигнутого при Никоне. Поставление в Патриархи по царской воле дряхлого архимандрита Иоасафа ярко подчеркнуло всесилие Государя и тщету разом развеявшихся надежд Питирима и Павла.
Новгородский митрополит
Питирим тихо удалился в свою епархию, где вынужден был вести борьбу с реальным влиянием Никона, которого он столь активно помогал низвергнуть. Кто знает, какие мысли одолевали Новгородского митрополита, убедившегося в полной зависимости церковной иерархии от своеволия светской власти, при виде стойкости монахов и священников, хранивших верность низвергнутому, осужденному и заточенному Никону.
Примером умонастроений паствы служит тянувшееся многие годы дело монахов и священнослужителей Крестного монастыря1067. Буквально накануне своего осуждения, 25 августа 1666 г., Никон прислал братии грамоту о помиловании священников монастырских вотчин, посмевших было взять ставленые грамоты у митрополита Питирима и за то «смиряемых монастырским смирением». Покаявшихся в своем проступке попов Никон велел отпустить по домам.
В свою очередь Питирим только 21 марта 1669 г. смог подписать грамоту о разрешении архимандриту Крестного монастыря с братией священнослужения, запрещенного «по их вине, что они нашему указу учинились непослушны» и до сих пор не представляли «к подписи к нам в Великий Новгород» настольной, ставленых и священноиноческих грамот. Построенный Никоном Крестный монастырь признал, наконец, власть Новгородского митрополита, но братия его, ободрившись, немедля поссорилась с соловчанами и между собой; споры эти разрешал 28 февраля 1672 г. митрополит, а в начале 1673 г. – уже Патриарх Питирим.
Но до возведения его на степень Патриаршества было, казалось, очень далеко. 2 июня 1672 г. Питирим еще пребывал в Новгороде, где получил царскую грамоту о рождении царевича Петра Алексеевича и разослал по этому случаю богомольные грамоты в города и веси своей епархии. Примерно к этому времени относится его духовное завещание, написанное в крайней степени разочарования и весьма сходное (как отмечено М. Г. Поповым) с духовной митрополита Сарского и Подонского Павла1068.
Больной телом и сломленный духом, вострепетал Питирим перед лицом смерти. Он писал: «…ужаснулся неготовности моей, устрашился лености и уныния, вострепетал о бедности души моей грешной… Вострепетал, яко чрез вся дни живота моего не бдел, но спал в лености, и в небрежении о спасении моем жил, как будто никогда не имея умереть… и ничтоже приплодотворих в житницу нескончаемой вечности».
Если сам Никон мучился, не исполнив меру множества своих трудов, то Питирим, поминая, в частности, «брата нашего Патриарха Никона», страдал от ощущения бессмысленности бренного своего бытия. Никон был убежден, что Питирим не знает, «почему он человек». Митрополит в «заветном своем писании» признает это: «Размышлял часто, еще будучи здрав, что человек есть и что будет по сем? И усмотрел… что человек суете уподобился, и дни его как тень проходят… ибо человек как трава, дни же его как цвет полевой отцветают… Изыдет бо дух его, и возвратится в землю свою, и в тот день погибнут все помышления его».
На грани отчаяния скорбно рассуждал Питирим, что «храм тела человеческого не имеет твердого камня, положенного в основание жизни сей, но на земле и песке основан, и того ради в буре болезней возвеявшей и в реке смерти напавшей разрушается падением великим. Душа же, обитавшая в нем, как в гостинице, тщится к Создателю своему о всем в мире этом содеянном слово воздати». Христом «поставлено людям едино умереть, по сем же – суд».
А вечная жизнь? Разве не надеждой живет человек верующий? Питирим, конечно, не отрицает ее, просто он в ужасе перед судом Божиим, он «страхом велиим объят», ибо «тогда возвратился на… покаяние, когда меня пронзил терн последнего бедствия и страха, когда болезни смертные обступили меня и все силы плоти моей не годны сделались к исполнению заповедей Божиих». Готовясь к гробу, благодарил Питирим Господа, отпустившего ему время на покаяние: ведь он, многогрешный, дел благих не сотворивший, надеяться может только на милость сказавшего: «Вера твоя спасет тебя».
«Поскольку немощью и страстями человеческого естества одержим был все дни жизни моей, – писал Питирим, – нельзя мне не сострадать людям». Митрополит кается перед всеми, всем прощает и от всех прощения желает, начиная, само собой, с Царя и его семьи – кормильцев и защитников Церкви. Увы, и в покаянии митрополит был суетен, отводя немалое место тем, «кто в чем нам позазрел, или посмеялся, или чем нас унизил, или злословил, или клеветал явно и тайно – и за оскудением ума своего не счел то грехом», не говоря уже о непокорных церковной власти: «Таковые мненноздатели, по Апостолу, огнем спасутся»!
Любопытно, что, глядя в гроб, старый и больной Питирим не забывал внимательно следить краем глаза и за событиями в Москве, где оказался под предлогом немощи и «удаления от излишних попечений» как раз к тому моменту, когда Государь надумал, наконец, поставить нового Патриарха на вакантное место после скончавшегося еще в феврале 1672 г. Иоасафа. Не исключено, что именно дряхлостью и предсмертными покаяниями Питирим так смутил и разжалобил Государя, что 7 июля 1672 г. был возведен на Патриарший престол.
Патриаршество
Воистину изумительно, куда делось покаяние, и сколь великая гордыня обнажилась в речи Питирима к Государю по поводу поставления своего в Патриархи!1069 Он незамедлительно заявил, что «сердце царя в руке… Бога», а, чтобы слушатели не сомневались в богопоставленности нового архипастыря, прямо уподобил себя Моисею и Иеремии, Григорию Богослову, Аарону и Исайе.
Гордыня Питирима просто великолепна, когда он толкует, по Давиду, свою покорность «тяжкому и превеликому ярму», возложенному на него – по повелению Бога – Государем и освященным собором. Новый Патриарх выразил надежду, что Царь не оставит без помощи кормчего «превеликаго корабля сего… во еже пасти нам, смиренным, безбедно врученный смирению нашему христиано-российский народ сей».
Благодаря Государя, Питирим из всей его многолюдной семьи называет (в отличие от своего завещания) лишь царевича Федора Алексеевича и царевну Татьяну Михайловну, явных сторонников сильной и богатой Церкви, защищать которую от напастей и бедности – важнейшая задача благочестивого Царя. «По многолетнем, однако, временном сем царствии» Патриарх желает Алексею Михайловичу сравняться в «вечном царстве» с Константином Великим и Владимиром Святым.
«Нас же, смиренных, – желает себе Питирим, – да сподобит тот же Господь Бог паству, врученную нам, добре упаствити и на путь правый наставити… Всех же православных христиан, малых и великих, всякого чина и возраста, сущих под державой вашего благочестивого Царствия – утвердит быть благопокорными и удобопослушными, как словесных овец, своему пастырю, водящему на пажити злачные, на место прохлаждения». Недавно еще Питирим не знал, как «упаствить» прямо в рай самого себя. С патриаршего места он бодро объявил, что приведет «в кровы небесные» все население Российского царства! От Государя требовалась лишь общая защита и неустанное обогащение Церкви (что после запрета на расширение церковно-монастырского землевладения в Уложении 1649 г. выглядело смелой мечтой), а от «овец» – повиновение воле Патриарха.
Проверить эффективность предложенной Питиримом системы россияне не смогли: в апреле 1672 г. Патриарх скончался, перед смертью вновь впав в трепет и страх и переписав свое исполненное ужаса перед Божьим судом завещание. Заметных деяний менее чем за год архипастырства Питирим не совершил. Однако надо признать, что с ним считались больше, чем с Иоасафом.
Неслучайно новый украинский гетман Иван Самойлович уже 12 августа 1672 г. поздравил Питирима, прося у него покровительства. Другой документ свидетельствует, что Патриарх старался навести порядок в делах Церкви1070. С. М. Соловьев весьма живо описывает, как Питирим вступился перед Царем за боярыню Федосью Морозову и сестру ее княгиню Евдокию Урусову, брошенных в заточение за «сумасбродную лютость» в защите старой веры. «Советую тебе, – говорил якобы Питирим Царю Алексею, – боярыню ту Морозову вдовицу, кабы ты изволил опять дом ей отдать и на потребу ей дворов бы сотницу крестьян дал; а княгиню тоже бы князю отдал, так бы дело то приличнее было. Женское их дело; что они много смыслят»! «Давно бы я так сделал, – мягко ответствовал Государь проявившему полное непонимание женщин Патриарху, – но не знаешь ты лютости той женщины… Если не веришь моим словам, изволь сам испытать, и сам узнаешь ее твердость… и вкусишь приятности ея». «Патриарх, – заметил Соловьев, – вкусил приятности ее и отступился»1071.
Этот случай подтверждает, что Питирим был неумен. Впрочем, это и так довольно понятно из жизни и деяний властолюбца. Хотя, конечно, власти предержащие на Руси вряд ли сочли бы сочетание гордыни от успешной карьеры и ужаса перед Божьим судом на смертном одре признаком неразумия.
И жезл Лигарида процвел1072… (Зимин С. Н.)
Бог даровал христианам два высших дара –
священство и царство, посредством которых земные дела управляются подобно Небесным.
прп. Феодор Студит
В очах Божиих нет лучшей власти,
чем власть Православного Царя.
прп. Серафим Саровский
Россия без Царя будет смердящий труп.
прп. Анатолий (Потапов) Оптинский
Нельзя не склониться перед исповедническим подвигом владыки Андрея Уфимского1073, однако невозможно согласиться с ним в оценке Святейшего Патриарха Никона. Неосторожно назвав «Декларацию»1074 митрополита Сергия (Страгородского) «настоящей квинтэссенцией никонианского цезаропапистского хамства»1075, владыка затронул вопрос принципиальный, важный, поворотный для всей русской истории. Чтобы понять, в чем здесь допущен изъян, необходимо хотя бы кратко очертить деятельность и взгляды Патриарха Никона, святительское, державное и исповедническое служение которого, безусловно, ставит его в один ряд со всем сонмом прославленных Святителей – не только русских, но и Вселенских.
Итак, все попытки воспрепятствовать возвышению православного Московского царства не принесли его врагам ожидаемых результатов: спланированная и профинансированная генуэзскими работорговцами интервенция Мамая провалилась, ересь жидовствующих при Иване III провалилась1076; боярский сепаратизм при Иоанне Васильевиче Грозном провалился. В 1589 г. стараниями его последнего царствующего сына, Царя Феодора Иоанновича, Русь обретает институт Патриаршества, который охранительно выразил себя в исповедническим подвиге Первосвятителей Московских Иова и Гермогена1077 и спас страну в критическую ее минуту. Так провалилась Смута, беззастенчиво поддержанная Ватиканом.
Благодаря «контрреволюционному» движению к освященной старине (а не к «прогрессу») консервативный русский народ сумел сохранить свою православную государственность, а Москва – право оставаться духовной наследницей Ромейского Царства. Истину, что царство не может существовать без законного, прежде всего в лице Бога, Царя, русский народ постиг во многих лишениях и бедах, обрушившихся на него в годы пережитой им Великой Смуты начала XVII в., вызванной убиением в Угличе Царевича Димитрия и саможеланным воцарением Бориса Годунова, потянувшего за собой цепь «царствующих персон», начиная от Лжедмитрия I и кончая Василием Шуйским, волею своею царствовать желающих, но отнюдь не относящихся к Царственному дому Романовых, уготованному Промыслом Божиим для хранения России.
Пережив разорение, оккупацию иноплеменниками и иноверцами, междоусобную брань и страх проклятия, произнесенного согрешившему народу первым русским Патриархом Иовом, а также покаянную радость прощения, будучи наконец искупленной крестной жертвой Патриарха Гермогена, Россия, как соборное церковное тело, отныне в полноте осознала свой грех и потому твердо решила оставить впредь опасное блудодеяние с самочинными властолюбцами, чтобы навек обручиться законным церковно-государственным браком с Царственным домом Романовых как правопреемственной ветвью Богоизбранного царского рода Рюриковичей.
Внутреннюю, сокровенную легитимность «выбора» Романовых точнее других раскрыл видный общественный деятель русского зарубежья И. Л. Солоневич: «Когда после Смутного времени был поставлен вопрос о реставрации монархии, то собственно никакого “избрания на царство” и в помине не было. Был розыск (выделено мной. – С. З.) о лицах, имеющих наибольшее наследственное право на престол, а не “избрание” более заслуженных. Никаких “заслуг” у юного Михаила Феодоровича не было и быть не могло. Но так как только наследственный принцип дает преимущество абсолютной бесспорности, то именно на нем и было основано “избрание”»1078.
Пророчество инока Филофея о славе Москвы – Третьего Рима сбылось, а, значит, и византийская теократическая идея сохраняет свою актуальность. Если ранее в церковно-иерархическом отношении Россия зависела от Константинополя, поскольку митрополитов на Московскую первосвятительскую кафедру ставил Вселенский Патриарх, то теперь Московское Царство становится самостоятельным равночестным Патриархатом и обретает возможность строить свою церковно-государственную политику на лучших греко-византийских имперских образцах православного царства, но уже без оглядки на самих греков.
Теперь, когда испытания миновали, Москва остро осознала необходимость по-новому переосмыслить себя и сформулировать собственную теократическую и политическую концепцию. Сделать это требовалось неотложно, поскольку иезуитствующее латинство и иудаизм своих целей все еще не достигли, что давало основания ожидать с этих сторон новых попыток возобладания над Россией, которые, как показали все последующие исторические события, не заставили себя долго ждать1079.
***
В 1613 г. Россия встает на путь соборного подвига, но, чтобы подвижничество ее было законным, она дает Богу Соборный обет. В чем его метафизический, духовный смысл? Россия обещает Богу быть земной иконой Неба, иконой Царствия Небесного. Это значит, во-первых, быть прежде всего Царством, а, во-вторых, быть Царством освященным. Земным же, зримым образом такого Царства и является Поместная Церковь. Иными словами, Россия обещает Богу впредь быть не просто страной и народом, как прочие страны и народы, а прежде всего и по преимуществу быть Церковью. Вот такое серьезное обещание-обет дала Россия Богу устами наших предков в 1613 г., призывая на себя благодать Святого Духа и отныне осмысляя свое земное бытие исключительно литургически: Благословенно Царство Отца и Сына и Святаго Духа, образ которого она и намерена впредь являть1080.
Итак, отныне Русь осознает себя как единое тело Христово, как Поместную Церковь, и с новыми силами и решимостью приступает к делу совершения своего соборного спасения. Русское царство, став образом, иконой Небесного Царства, соответственно приступает к иконовписанию себя в Божью Книгу Жизни. Но цель эта требует не только устроения всех сторон общественного бытия на началах любви, веры и благочестия – она требует и обязательного «симфонического» единства священства и царства – Царя и Патриарха, сложения их благодатных даров и сил, что как некий духовный камертон идеально воплотилось в первом после Смуты царствовании Михаила Федоровича Романова вкупе с первосвятительским служением Патриарха Московского Филарета1081. За ними державу и царское служение ей воспринимает их сын и внук – Алексей Михайлович, наметивший себе в соработники от священства Никона и фактически своей волей предуготовивший поставление его на Московскую первосвятительскую кафедру1082.
***
Принятие греками Флорентийской унии в 1439 г. лишило их того прежде непререкаемого духовного авторитета, который они имели на всей крещеной Руси. Признание Византией главенства над собой Римского Папы как «наместника Христова на земле» вызвало в Православной Руси настоящий шок: именно с этой уступкой Ватикану своего духовного «первородства» связали русские последовавшее вслед за этим сокрушение некогда могущественной Византии измаильтянами1083. Отныне Московское царство само становится покровителем Константинопольского, Александрийского, Антиохийского и Иерусалимского Патриархатов.
Еще совсем недавно считавшие Русь далеким северным захолустьем, навек задвинутым на задворки мировых событий, теперь Восточные Патриархи, оказавшись в бедственном положении под властью агарян, вынуждены были сами приезжать на Русь за милостыней, которую Москва им охотно и щедро подает, но при этом нередко ощущает и с чувством обиды терпит плохо скрываемое греками чванство. Принимая подаяние, они все-таки не без туги сердечной признают за Москвой ее политическое и духовное первенство.
Восточные Патриархи не привыкли видеть Москву первенствующей среди поместных Православных Церквей, а потому с неостывшей ревностью относятся к столь быстрому ее возвышению1084. Москву в свою очередь перестают удовлетворять многие заимствования, некогда вынужденно сделанные ею у греков: теперь она остро ощущает необходимость собственной цельной идеологии и системы обрядового строя, применимых к Москве как третьему Риму Ромейского царства, идеологии, которой ни враги с Запада, ни ревнивые друзья с Востока не могли бы ничего противопоставить или возразить1085.
Острее и глубже своих современников эту необходимость чувствует Патриарх Никон. Он ясно осознает, что Русь, приняв от Византии духовное первородство и взяв на себя серьезнейшие обязательства, отныне должна не только встать во главе христианских народов, но и явить им державный образец в деле спасения. Страстный приверженец и поборник теократической идеи, глубокий знаток каноники и церковного права, Святейший Никон ревностно принимается за дело: государству как сакральному телу, как единой соборной плоти он стремится придать максимально возможное державное величие и внешний блеск. Образец для него – православная древность, Ромейское царство – имперская Византия, но не более, чем образец, форма. Россия лежит в другой земле, у нее иная история, иное назначение и иная судьба…1086
Целью и причиной унификации церковно-общественной обрядности, богослужебных чинов и верификации церковных книг по греческим и южнославянским образцам было вовсе не реформирование воспринятой Русью имперско-византийской религиозной концепции, поскольку упраздненной ее никто не считал и тем более никто не собирался подвергать ее пересмотру. Целью Патриарха Никона были обретение Московским Царством новых величественных державно-экклесиологических форм и придание ему самобытно-русского блеска, укорененного в святоотеческой традиции.
Осознав свое новое достоинство, Русь не хотела донашивать за греками их старые, хотя и пышные, но все-таки не по ее плечу сшитые, да к тому же и немало обветшавшие, ризы. Москва желала явиться перед всем миром в новом торжественном облачении, которое не просто отвечало бы ее национальному вкусу, но главное – уведомляло бы Вселенную, что пресуществление мессианских задач отныне перешло к ней, «о чем извещаются все народы». Это устремление всецело разделял и Царь Алексей Михайлович1087.
Торжественность церемониала, внешний блеск царского двора и пышность патриарших выходов были скорее вторичны, а роскошные и продолжительные богослужения в Кремлевских соборах являлись лишь необходимым внешним атрибутом церковной и державной мощи1088. Кроме того, все это не только составляло неотъемлемую часть общей церковной культуры того времени, но и часть дворцово-протокольной традиции. В том внимании, которое Святейший Патриарх уделял внешней стороне обряда, трудно усмотреть личную приверженность Никона роскоши, его жизнеописание свидетельствует об обратном.
Главная суть и духовно-содержательный корень Никоновских идей заключались в другом: если Московское царство – образец благочестия, то спастись должны все. Патриарх практически пытается поднять общественную жизнь всех сословий Московского царства на такую нравственную и духовную высоту, чтобы спасался и достигал Царствия Небесного весь православный народ без остатка. Если человек крещен в Православие, значит дело его спасения должно быть не гадательным, а утвердительным; гарантом же общественного благочестия здесь выступает государство. Являясь видимым учреждением на земле, Церковь вправе притязать на защиту христианского государства1089.
Россия, по мысли Святейшего Никона, должна явить себя как подножие Престола Божия, как предпоследнюю ступень к Царствию Небесному, с которой нужно лишь шагнуть на следующую – в самое Царствие. Вот такую задачу ставил Святейший Никон перед современниками, вот на таком уровне хотел он отстроить общестенное благочестие Руси. Он видел Россию монастырем, во главе которого стоит настоятель – царь, а себя понимал в нем духовником, на котором лежит обязанность блюдения за духовным строем народной жизни и ее нравственным состоянием. Ни до, ни после Никона никто из русских Святителей не дерзнул дотянуться до таких целей и задач, а Никон не только заявил о них, но и принялся практически их осуществлять, справедливо надеясь на полное единомыслие и столь же ревностное сотрудничество с Царем1090. «Внутреннее содержание русской жизни было создано киевскими, московскими и всея Руси митрополитами, которые брали пример с великих греческих иерархов, были ревностнейшими пастырями, никогда не споря из-за первенства власти, но всегда проповедуя правду без страха. Последним и самым великим из этих богатырей духа и был Патриарх Никон. После него у нас на столичных кафедрах бывали преимущественно иерархи-вельможи, искушенные в политике и тонкостях придворной жизни. Они должны были действовать больше хитростью, нежели правдой Божией, которая все больше и больше тускнела на русской земле, пока, наконец, вся не покрылась непроходимой тьмой», – пишет митрополит Антоний (Храповицкий)1091.
Патриарх Никон поставил перед обществом столь высокие религиозно-нравственные задачи, что они оказались не только недосягаемыми для растлившегося чужеземщиной боярства, которое окружало Царя, но и неудобозримыми для части епископата и клира1092. Требовательность Никона раздражала всех, особенно священноначалие, которому Патриарх прививал ту мысль, что в первую голову именно оно, яко «соль» и «закваска» миру1093, будет держать ответ пред Богом за все беды и грехи народа.
Величие замыслов Патриарха (которое проглядели благонамеренные его критики) было невыносимым для преисподней и ее служителей. К тому же Святейший Никон постоянно требовал от боярства духовных подвигов и многих жертв, несения ратных трудов и терпения неудобств, например, идти воевать Малороссию ради защиты единоверцев от агарян и латинян. Его убеждение твердо и неколебимо: именно власти, как духовные, так и светские, обязаны являть народу благой пример и не вправе уклоняться от этого. Выполнить все это олигархическая боярская верхушка не хотела и не могла, в большинстве своем она никогда и не помышляла о сотрудничестве и соработничестве Царю и Патриарху1094.
Следует отметить, что монархизм родовой аристократии исконно носил специфический характер – ей удобнее был не Царь-самодержец, а слабый и зависимый временщик, который потакал бы частным шкурно-сепаратистским интересам русской шляхты, политическим образцом для которой была Польша с ее Сеймом и зависимым от него Королем. Церковно-государственные цели были, как правило, чужды русскому олигархическому боярству. Концепция же Патриарха Никона цельна и канонична, он твердо помнит, кто и зачем ставит над народами царей и патриархов. Отсюда вытекает и его постоянное памятование о высоком назначении Святой Руси перед Богом. Никон – твердый исповедник Православной веры, строгий поборник и охранитель самодержавной монархии: как никто другой, он осознает важность царского служения не как личной прерогативы, но как Богозаданности, как осуществления дара Царства, сам при этом видя обязанности Патриарха в строгом осуществлении дара Священства, без которого само дело соборного спасения невозможно.
Святейший Патриарх Никон является не только благовестителем «симфонии» Священства и Царства в ее идеальной модели (теоретической), он успешно подхватывает и развивает практику православной государственности предыдущего царствования1095. В этом, собственно, и кроется тонкость, крайне важная для понимания многих дальнейших событий: в видении и осознании задач Царь и Патриарх единомысленны, но по ревности, по энергии, по темпераменту Патриарх шире и размашистее Царя, и вместить саму эту масштабность Никона Алексей Михайлович не может – он попросту не поспевает за своим Патриархом ни умом, ни размахом деяний. Идейно, инициативно Никон постоянно оказывается как бы впереди Алексея Михайловича, и это в глубине души раздражает Царя. До времени он терпит, но раздражение в его душе понемногу копится. Вот этой чуть заметной душевной трещинкой Алексея Михайловича и воспользуются недруги Церкви и Державы.
Как со временем выяснится, новую атаку на Православие на этот раз планировалось осуществить изнутри. Католический Запад и стоящие за его спиной талмудисты активно внедряли в Россию своих новых делателей: прежде всего это московский «дипкорпус» на Кукуе, а фактически резидентура, опирающаяся на «туземную» агентуру – московскую аристократию прозападной ориентации. Однако до времени эти силы не заявляли о себе явно, они готовились, искали и вербовали потенциальных сторонников, вели скрытую борьбу за кадры в дворцовом окружении, нащупывали нити влияния и понемногу прибирали их к рукам1096.
С середины 1657 г. в отношениях между Алексеем Михайловичем и Патриархом Никоном уже заметно некоторое охлаждение, становятся все реже, а затем и вовсе прекращаются их прежде частые и долгие беседы, Царь все реже обращается к «собинному другу» за советом. Оба страдают от этого отчуждения, но словно какая-то невидимая сила продолжает разводить их, отдалять друг от друга. Кто же встал между Царем и Патриархом? Это часть идеологически растлившегося тайнокозненного боярства, корешки отступничества которого уходят в не до конца искорененную Великим Князем Московским Иоанном III ересь жидовствующих (не послушал предупреждения Иосифа Волоцкого: они никогда не каются, покаяние их суть аспидово, а слезы их крокодильи – жги их беспощадно), с которой так и не разделались вполне ни Василий III, ни Иоанн Васильевич Грозный. Вот на этом-то основании – на зависти, искусном и льстивом возбуждении чувства ревности, соперничества – враги улавливают Алексея Михайловича и раскалывают его дружбу и союз с Патриархом. Главное ложное обвинение, которое по расчету врагов Никона непременно должно было ранить сердце Царя и возбудить в нем гнев на Патриарха, состояло в том, что, дескать, Никон желает власть царскую подчинить власти церковной и через это лично себя поставить над Царем1097.
Да, безусловно, в классической византийской версии государственная власть, действительно, выражала свою подчиненность вере, идеалам и интересам Церкви, но заметим: в Ромейском царстве власть подчинялась Церкви всецело, во всей совокупности своих институтов, т.е. всего административного аппарата, но это вовсе не подразумевало личную зависимость Царя от Патриарха. Святейшего же Никона фактически обвинили в злоупотреблении византийской моделью государственного устроения, воздвигнув клевету в том, что «византинизм» Никона – лишь идеологическая платформа, средство, чтобы поставить себя над Царем. В этом принял участие не только Паисий Лигарид1098, но и ранее его засланный Ватиканом в Россию Юрий Крижанич (Сербянин)1099, сумевший не только приблизиться к Царю, но и весьма долгое время насаждать при дворе антигреческие настроения. Все это не проходило бесследно для Алексея Михайловича и не могло не влиять на его сознание. В конце концов Царь поддался, нашлись и повод, и «вины», и сместил Святителя с Патриаршей кафедры. (После он хватился, понял, что натворил, да уже было поздно – партия Матвеева, Нарышкиных и Лигарида взяла верх.) Уловив Алексея Михайловича на уду мнимого Никоновского «папоцезаризма», враги должны были лишь найти повод и дождаться удобного момента, чтобы разорвать державного Двуглавого Орла надвое. Так был подготовлен и совершен раскол «симфонии», раскол между Царем и Патриархом. Вот где проходит подлинная линия раскола, а не между приверженцами и противниками изменений церковно-обрядового характера и новоисправленных книг1100.
Протекция западников-бояр и содействие Кукуя – вот причина столь странного на первый взгляд успеха в Москве, подосланного Ватиканом Газского лжемитрополита Паисия Лигарида, обласканного боярами и с их подачи Царем (как выяснилось позже, ставленнические грамоты Лигарида оказались поддельными)1101. Быстро отыскались доброхоты-изменники и из среды местных «туземцев»: Артамон Матвеев, Нарышкины, славный «воевода» князь Василий Голицын, некогда возвышенный Патриархом Никоном Иоаким, будущий Патриарх и заклятый враг своего собрата-Первопрестольника, и др.
Патриарх Никон осужден, низложен и сослан, но по природной открытости и мягкости своего характера Царь не может утаить от окружающих мучащего его ощущения неправды, совершенной в отношении Патриарха. Тайные низлагатели «алтарей и тронов» осознают, что настроение Царя легко может качнуться и в обратную сторону, и тогда неправо осужденный Святитель вернется, а посему даже в узилище Никон представляет для них смертельную опасность. И в ссылке не оставляют они Святейшего узника своей «заботой»: всякое неосторожное слово, сказанное Никоном среди тюремных стен в сердечной муке, «редактируется» недругами, чтобы возбудить царский гнев на Святителя новыми клеветами (среди прочих была и та, что Никон, дескать, сговаривается со Стенькой Разиным бунтовать против Государя)1102.
Царь подавлен, страдает, мятется душой, но решимости изменить положение и вернуть Никона из ссылки в себе так и не находит – слишком далеко зашло совершенное в отношении Святейшего Патриарха беззаконие. Так, страшась потерять в боярах давно прогнившую и оттого мнимую опору, Царь из Самодержца понемногу соделывается их данником. Не имея нравственного покоя, он пытается смягчить участь безвинного узника: посылает низложенному Патриарху еду, одежду, желая хотя бы дарами заглушить мучащие его укоры совести. Алексей Михайлович просил Никона простить его, на что Святейший ответил: «Как человека я тебя прощаю, нисходя к твоей человеческой немощи, но как с Царем я, Патриарх, буду судиться с тобою на Страшном Суде, потому что ты согрешаешь не против меня лично, а против Церкви и Бога, ты ослабляешь вверенное тебе Богом Царство и тем самым предаешь его в руки лукавым врагам, которые ищут не Божьего, а своего. Наш долг в симфоническом единстве упасти вверенный нам народ Божий ко спасению. И если я вижу уклонение от этого служения, то я, как Патриарх, обязан говорить тебе – Царю – об этом, пусть даже нелицеприятно для тебя – Царя, потому что я – духовный для тебя отец, священник над тобою – Царем. Помни о своей главной задаче, о своем высоком Божьем назначении»1103 …
С удалением Святейшего Никона и над Царем, и над самим Царством нависает смертельная угроза. Патриарх это видит и понимает, а вот благодушный Царь – нет. Удалив Святейшего, Алексей Михайлович фактически подписал смертный приговор себе, своей первой царственной супруге Марии Ильиничне Милославской и всем своим детям, нажитым с ней в долгом и счастливом браке. Никон чувствует, что замыслило против Царя ближнее окружение, и он оказался прав – вот корень его страдания: он душой болеет и за Царя, и за Россию как за Церковь, а Царь беспечно обнимается со своими врагами. Прозорливый Никон предвидит надвигающуюся катастрофу, но не может из заточения донести до Царя свое предостережение и оградить его от гибели. Царь не слышит своего Патриарха – вот где мука Никона-патриота, Никона-печальника за Отечество!
Патриарх Никон был верным ангелом-хранителем Алексея Михайловича и всего Царского дома. Беспечно позволив своим врагам отогнать от себя этого ангела, Царь лишился защиты его мощных и твердых крыл и вскоре пал жертвой тайны беззакония вместе со своими чадами. Останься Никон, «муж зело премудрый и благоискусный», на Патриаршем престоле, никогда бы не допустил он до столь диких и разнузданных форм противостояния между сторонниками старого и справленного обрядов, того чудовищного зверства, которое спровоцировали и намеренно заострили враги Православия1104, придав ему в дальнейшем столь страшный размах.
Несмотря на все добрые плоды, принесенные благим, но кратким царствованием Царя Феодора Алексеевича, недолгое его житие протекало словно под топором, нависшим над «семенем жены» – всеми детьми Алексея Михайловича, рожденными ему Царицей Марией Ильиничной Милославской. В тайне своего жестокого и неблагодарного сердца Патриарх Иоаким не благоволил к молодому и рано осиротевшему Царю Феодору – Никоновому крестнику. Посох железный избрал он для пасомого им вертограда Христова, не явив даже тени христианской любви и терпеливой милости к сторонникам церковной старины. Жесточайшими их преследованиями Иоаким сыграл наруку лишь врагам России и Русской Церкви, драконовскими мерами против обрядоверов «стоглавого толка» он сделал взаимную ненависть необратимой1105.
На фоне полного отсутствия любви и братолюбия со стороны так называемой официальной Церкви по отношению к староверам-раскольникам их страдальчество, бесспорно, давало им ощущение нравственного превосходства над гонителями. Народ же в массе, хотя и не мог понимать всех богословских тонкостей и канонических деталей происходящего, сердцем верно почуял подлинную суть и причину раскола, а потому (и это удивительно!) сочувствовал и старообрядцам, и Святейшему Патриарху Никону. Печальника за народ и Отечество Никона, как и его мужественных сторонников, ошельмовав, сослали. Но сослали и Аввакума, предав его анафеме вместе с его гордой «правдой»1106.
***
Если и есть на земле убежденный монархист, монархист до мозга костей, то в первую очередь это Святейший Никон. В конфликт с Патриархом вступил не Царь, а бояре, а вот орудием своим против Никона они сумели сделать тишайшего Алексея Михайловича. Именно из этой трагедии и пророс ядовитый корень дальнейшей катастрофы России. Не оттого ли имя Никона оказалось под спудом многовековой клеветы, которую зараженные мировоззренческим либерализмом потомки, не разобравшись в деле и не осознав зловещей сути разъединения Царя и Патриарха, продолжали умножать. Так с тех пор над Патриархом Никоном и тяготеет сатанинская ложь – ведь он покусился уберечь от ада свою паству полностью, без изъятий. Как либеральная ученость увидела в этой высочайшей нравственной и церковно-государственной позиции Патриарха Никона «папоцезаризм» и горделивое самовозвеличение – ведомо лишь ей одной.
Воцаренный прокукуевской партией Артамона Матвеева и Нарышкиных (при содействии Патриарха Иоакима) сын второбрачной Наталии Нарышкиной Петр1107 нанес традиционно-кафоличной России неисцелимые раны. Этот «царь-плотник» рубанул своим топором и по Православию, и по Самодержавию, и по народности. Став слепым орудием в руках извечных врагов Святой Руси – Московско-Ромейского Царства, жесточайшими гонениями староверов-стоглавцев он не только углубил и сделал необратимым церковный раскол, но и добавил к нему раскол едва ли не более страшный – гражданский, фактически превратив Русь в рабовладельческую республику. Соблазнив дворянство этим нравственным беззаконием (введением рабства)1108, Петр превратил его в сословие нехристианское по духу, по творимому греху. Вот причина, по которой в массе своей дворянство начало естественным образом деградировать и вырождаться в «лишних» и далеко не всегда безвредных людей – Салтычих, Пестелей, Онегиных, Маниловых, Обломовых, Самгиных, Керенских, Ульяновых-Лениных.
Никакие стихи-романсы и этюды, сочиненные и написанные в «дворянских гнездах» возле живописных прудов, никакие томные воздыхания трепетных тургеневских барышень не могли покрыть и тысячной доли издержек той чудовищной неправды, которую Петр бросил как семя разврата в жизнь все-таки Святой до его воцарения Руси. Так на помощь одному врагу Самодержавия – потомственной аристократии – подоспел другой, еще более опасный и многочисленный, – медленно растлевающееся дворянство. Кстати, оба эти сословия явились и основным поставщиком архиерейских кадров для Церкви, неся в себе зародыш той антимонархической тли, который перерос в «измену, трусость и обман»1109. Так под основание русской православной государственности была заложена смертоносная мина взаимной ненависти сословий, запал от которой оказался в руках масонства, которому все тот же Петр I открыл столбовую дорогу в Россию и поставил на служение весь авторитет своей царской власти.
Оставалось лишь привести весь этот смертоносный механизм в действие, что и было сделано Петром III, – он отменил обязанность дворян служить, и начался процесс распада. Все законные Русские Цари, начиная с Павла I, видели и ясно осознавали ту убийственную нравственную неправду, которую породил Петр I, и пытались обезвредить эту взрывоопасную систему замедленного действия, но механизм ее оказался столь мудрено устроен, что сделать этого не удалось даже Государю Александру II, который, отменив крепостное право как юридическую норму, был не в силах отменить тех катастрофических последствий, которое оно породило.
Если кратко подвести итоги петровского царствования, то они таковы: а) обрушена православная государственность; б) Московское царство брошено на попрание Западу; в) обезглавлена и фактически разгромлена Русская Поместная Церковь; г) уничтожена правовая система престолонаследия; д) учреждением кощунственного «Всепьянейшего собора» власть дала народу образец нравственного бесчиния и разврата; е) уничтожена третья часть населения страны, а уцелевший народ разорен дотла; ж) во главе государства и Церкви поставлена кухарка Марта Шмульевна1110.
После Петра I идея Третьего Рима перестала быть религиозно-общественной доминантой для Руси, а норма временного действия, которой является местоблюстительство1111, приобрела статус постоянной практики, что также всецело принадлежит гению1112 Петра. Ничто не мешало ему найти себе столь кроткого и послушного Патриарха, каким был Адриан, но ультрарадикал Петр не пошел по этому мягкому и для себя, и для Церкви пути – среди многообразных инструментов церковной политики он, естественно, избрал топор и рубанул им по самому институту Патриаршества1113.
От всех «художеств», совершенных Петром I, ни Русское государство, ни Русская Церковь в полной мере так никогда и не оправились. Именно Петр I и есть тот «камень», налетев на который, державный корабль России получил пробоину и медленно стал тонуть. Окончательно же он скрылся в темных водах мира сего 2 марта 1917 г. – в день отречения Царя Николая II от Престола. Теперь этот корабль через «междоусобные брани» захвачен «нашествием иноплеменников»1114, которые кормятся и обогреваются добытыми из его трюмов царскими богатствами.
***
Если в начале XVIII в. Петр I по наущению своих заморских советников отстранил иерархию Русской Церкви от государственной жизни и управления, то к концу XVIII в. иерархия к такому отстраненному состоянию понемногу привыкла, а за тихий и в целом безмятежный для нее век XIX она столь комфортно в этом отстранении обжилась, что приобрела привычку не только мягко уклоняться1115 от обязанности сотрудничать с Царями, но и хранить Самодержавие не за страх, а за совесть. Законным Русским православным Царям никаких «деклараций» никто не принес: дескать ваши, царские скорби – это скорби и наши, архиерейские, а вот в устроении «симфонии» с Львовым и Керенским1116 вдруг явилась невиданная ревность. Дабы не быть голословными, вспомним текст обращения Святейшего Синода по поводу отречения Государя Николая II, который смело можно рассматривать как своего рода черновик Декларации 1927 г.:
«Свершилась воля Божия. Россия вступила на путь новой государственной жизни. Да благословит Господь нашу великую Родину счастьем и славой на ее новом пути. Возлюбленные чада Святой Православной Церкви! Временное Правительство вступило в управление страной в тяжкую историческую минуту… Ради счастья Родины оставьте в это великое историческое время всякие распри и несогласия, объединитесь в братской любви на благо России, доверьтесь Временному Правительству; все вместе и каждый в отдельности приложите усилия, чтобы трудами и подвигами, молитвою и повиновением облегчить ему великое дело водворения новых начал государственной жизни и общим разумом вывести Россию на путь истинной свободы, счастья и славы. Святейший Синод усердно молит Всемогущего Господа, да благословит Он труды и начинания Временного Российского Правительства, да даст ему силу, крепость и мудрость, а подчиненных ему сынов Великой Российской Державы да управит на путь братской любви, славной защиты Родины от врага и безмятежного мирного ее устроения»1117.
Что это, как не измена Царю, всему Богоизбранному Царственному роду Романовых и Соборной клятве 1613 г.?
***
В святоотеческом понимании православное государство – это не власть, а именное имущество, которое Бог вверил тому Государю, которого Сам же избрал, поставил и осенил Своей благодатью при Помазании на Царство. Имущество Царя состоит из Земли Русской и населяющего ее народа – крещеного (собранного в Поместную Церковь) и некрещеного (прочие народы). А в сочинениях Ленина государство есть продукт классовых противоречий, который должен отмереть в процессе классовой пролетарской революции. Подчеркнем: у Ленина государство (царство. – С. З.) – не Богоданное имущество, а продукт. Это значит следующее: когда «пролетарии» всех «буржуев» зарежут, тогда противоречия разрешатся, а «государство» (в ленинском смысле) отомрет как их продукт1118. На разборе таких большевистских тезисов, как «религия – опиум для народа» и «Бог – выдумка попов», мы останавливаться не будем.
День отречения Государя Николая II от престола явился той временнуй точкой, с которой Россия вступила в некую новую физическую среду, где существование «цезарей» и «пап» прекратилось даже в петровско-феофановской квазиверсии. Воцарившийся над страной большевистский каганат государством (в святоотеческом понимании) не является. Он является типом власти2 и как таковой немедленно взялся конструировать собственную систему управления в соответствии с теми теоретическими положениями, которые разработал Ленин, сам же во главе этой власти и оказавшийся. Чем же оснастила себя новая система власти в первую очередь? Как и предполагалось в теории, мощным и эффективным инструментом «классовой борьбы», известным под именем Всероссийской чрезвычайной комиссии – ВЧК1119.
Не успев перевести дух после совершенного 25 октября 1917 г. государственного переворота, уже 20 января 1918 г. Совет Народных Комиссаров издает Декрет об отделении Церкви от государства и школы от Церкви1120, отделяя этим документом Русскую Поместную Церковь от «продукта классовых противоречий» и тотчас начав ее широкомасштабный и планомерный погром. Церковь Христова отвечает массовым исповедничеством.
Потерпев поражение в лобовой атаке на Церковь и осознав, что простое истязание верующих, клира и епископата вызывает только яростную волну народного возмущения, в мае 1922 г. богоборческая власть предпринимает первую попытку сконструировать под эгидой ОГПУ муляж Церкви – религиозно-общественную организацию нужного ей типа под названием «Живая церковь»1121 – своего рода «троянского коня», чтобы въехать на нем в церковное соборное тело, а затем разложить и поразить его изнутри. Как известно, эта попытка провалилась.
Совет Народных Комиссаров динамично анализирует свои первые поражения. Наравне с укреплением ведущей борьбу на внешних фронтах РККА1122, куда активно привлекаются кадровые офицеры упраздненной Российской армии, оперативно укрепляется и фронт внутренний – «церковный». В 1926 г. предпринимается вторая попытка создать «муляж» Церкви, однако теперь к этой операции привлечены более авторитетные архиерейские кадры. Ее успех обеспечит митрополит Сергий (Страгородский), который согласится встать во главе такой Церкви1123. В то время, когда части, соединения, партизанские отряды и отдельные бойцы армии, именуемой Воинством Христовым, будут вести и духовную, и кровавую брань с силами тьмы не на жизнь, а на смерть, митрополит Сергий (Страгородский) от имени Церкви воинствующей подпишет акт о ее капитуляции1124.
Где во всем вышеописанном присутствуют отношения, которые хотя бы отдаленно можно было бы назвать отношениями церковно-государственными, – понять невозможно.
***
Никакой «папистской» структуры, даже скудного намека на нее сергианство не устанавливало и установить не могло по той простой причине, что товарищ Сталин сам был и «папой», и «мамой», и «отцом народов». Он хотя и по-своему, по драконьи, однако же понимал, что Третий Рим – это Москва, а никакой не Берлин, и pontifix-maximus’ом этого Третьего Рима, т.е. его верховным жрецом, Сталин видел прежде всего себя самого. Не для того самый верный и последовательный ленинец товарищ Сталин втаптывал в лагерную пыль иерархов Русской Церкви, чтобы «уготовить стези» одному из них и поставить над собой «Московским Папой».
Ни Церковь, ни Патриарх Сталину были не нужны, у него уже была «Церковь» – Всероссийская Коммунистическая Партия (большевиков), – патриархом которой был лично он. Сталину был необходим благоукрашенный экспортно-импортный отдел Агитпропа, иными словами, лишь похожий на Церковь «Всешутейший собор» с соответствующим ручным «патриархом» во главе по подобию Никиты Зотова. Именно для этого ночью 4 сентября 1943 г. и был вызван уже зарекомендовавший себя перед богоборческой властью митрополит1125.
Митрополит Сергий (Страгородский) не распознал диавольского замысла Сталина: ему бы отдернуть руку от подаваемого ему Лигаридова жезла, ему бы умалиться, совлечься золотых одежд и, взяв простую клюку, удалиться прочь, как некогда сделал великий Никон, или объявить себя сумасшедшим, или, на худой конец, просто бежать куда глаза глядят… Но большевистский «текущий момент», замерещившись ему звездным часом святительской славы, так ослепил его, что не позволил разглядеть змеи, которую предтеча антихриста влагал ему в руку вместо посоха святого Петра, митрополита Московского, и принял губительный дар. Так недоразумение между самочинным властителем и самочинным иерархом, легшее кривым краеугольным камнем в основание религиозного учреждения, задуманного еще Лениным и воплощенного на практике Сталиным, с каждым днем все более и более перекашивает его набок, грозя вот-вот опрокинуть.
Все девятнадцать веков своего существования Новозаветная Церковь, образно говоря, только слышала об антихристе: да, она знала о нем из Откровения Иоанна Богослова, из апостольских Посланий, из творений и толкований Святых Отец, но не видела его воочию, когда же поместные Церкви столкнулись с ним непосредственно, то институционально не устояли1126. Так не устояла Византийская Церковь в XV в., не устояла и Российская Церковь в начале ХХ. Их громоздко-окостенелые административные конструкции, благополучно существовавшие в среде православных царей, христов-помазанников, к среде нецарей оказались организационно неприспособленными и потому рухнули. Спасти их могло одно – возвращение к древнему доконстантиновскому положению. Так поступили греки, таким же образом поступил прозорливый и богомудрый Святейший Патриарх Тихон: 7/20 ноября 1920 г. он издает приказ «по армии» за № 362, суть которого проста – Церкви воинствующей перейти на партизанское положение.
Те, кто этот приказ выполнил, погибли, но спасли Русскую Церковь. Митрополит Сергий приказа не исполнил и потому подлежал самому суровому наказанию по бескомпромиссным нормам военного времени: будучи окончательным и обжалованию не подлежащим, приговор и был приведен в исполнение лично Председателем Совета Народных Комиссаров, Маршалом Советского Союза товарищем И. В. Сталиным – ночью 4 сентября 1943 г. он собственноручно подал митрополиту цикуту с ядом от жезлов волхвов египетских1127. Сталин назначил Страгородского Патриархом.
Большевики атеистического толка рисуют Сталина атеистом. Исповедники лубянского «православия» согревают свои сердца мифом о том, как темными московскими ночами товарищ Сталин в скромном черном «воронке» мчался за духовным советом и наставлением к старцам. Однако, как бы там ни было, атеистом он не был, и тому есть доказательства1128.
***
Если всякое слово, шаг, поступок или деяние Патриарха Никона канонически выверены, то митрополит Сергий самочинен во всей своей сути: поставление себя Первосвященником или Царем должно иметь причиной повреждение уникально глубокое (это – не проступок, не падение, это – сатанинское обдержание души, как печать Денницы). Если условным1129 прообразом отношений Сталина и Сергия Страгородского еще возможно допустить отношения Петра I и Феофана Прокоповича, автора «Правды воли монаршей», духом которой пронизана знаменитая «Декларация» митрополита Сергия, то ставить Патриарха Никона и митрополита Сергия в один ряд, как это делает епископ Андрей Уфимский, есть очевидная нелепость, недоразумение.
Назвав «Декларацию» «настоящей квинтэссенцией никонианского цезаропапистского хамства», епископ Андрей Уфимский невольно явил еще один печальный пример того, как силы тьмы способны разделить даже исповедников одной Церкви. Впрочем, и это объяснимо: подвиг прозорливого Патриарха Никона «запечатан от иудей» столь долго, что сознанию эти «паучины» крайне трудно разорвать. Староверы-стоглавцы называют Русскую Церковь «никонианской», а Русская Поместная Церковь Патриарха Никона не только не прославила, но, по сути, предала забвению, а то и имя его хулится. Даже гадаринский бесноватый сразу узнал Христа (Мк.5:1–20; Мф.8:2–39; Лк.8:26–39), мы же, напротив, крепко поревновав жителям страны гадаринской, вот уже более трехсот лет говорим Святейшему Никону: «Удались от нас, нам невыносима твоя святость и высота твоих задач, оставь нас с нашими свиньями». Вероятно, слышать такое – есть удел всех Святых и Пророков «в своем отечестве»1130.
Однако хотя бы на этом рубеже заявим: против слова «хамство» никаких возражений нет и быть не может, а в отношении слова «никонианское» согласиться с владыкой Андреем невозможно. Паки и паки склоняясь перед его исповедническим подвигом, все-таки повторим: в оценках Патриарха Никона и его деяний владыка ошибся, и ошибся не случайно. Пребывание в ложной системе координат доказывает его отклик на события 2 марта 1917 г.: «Самодержавие русских царей выродилось сначала в самовластие, а потом в явное своевластие, превосходившее все вероятия… и вот рухнула власть, отвернувшаяся от Церкви. Свершился суд Божий… Освободилась от гнета государства Христова соборная Церковь»1131.
Чтобы полнее осветить «гнет государства», приведем свидетельство князя Н. Д. Жевахова: «…скоро весь вагон наполнился представителями Таганрогского духовенства… Благочинный заявил мне, что Преосвященный Иоанн ожидает меня и не ляжет спать, пока я не приеду… Однако, привезя меня туда, они мгновенно куда-то скрылись и оставили меня и обер-секретаря Ростовского в огромной приемной архиерейского дома. Не сразу показался и Преосвященный Иоанн. Я недоумевал, что бы это означало… Вскоре, однако, мое недоумение объяснилось. Владыка заказал своему повару такой ужин, что бедняга никак не мог с ним справиться… Прошло не менее часа прежде, чем меня позвали в столовую, где стол буквально ломился под тяжестью расставленных на нем блюд. Я никогда не видал такого подавляющего количества яств и питей и был уверен, что стол не выдержит тяжести и рухнет. Это было нечто совершенно невообразимое и ни с чем несообразное… Даже самому хозяину, епископу-монаху, было зазорно глядеть на эту картину…»1132.
Вот таким образом «православное государство угнетало соборную Церковь». Свидетельств подобного «угнетения» можно привести такое множество, что стол «не выдержит тяжести и рухнет»… Как это ни прискорбно, но подобное выраженному епископом Андреем (Ухтомским) отношение к русскому Самодержавию возможно объяснить следующим: до 2 марта 1917 г. по причине привычно хорошей жизни при Царях большинству иерархов, вероятно, мечталось, что столь же хорошая жизнь будет и без Царей. Вероятно, осознание своей причастности к священству и всякие выгоды, от этого проистекающие, были столь сладостными и приятными, что за всем этим как-то незаметно прогляделась благодатность царства, хотя именно этим царством они охранялись, грелись, трапезовали в нем и от благих трудов почивали. А когда опочили и отверзли очи ясные, то вместо архиерейских покоев и пригожих иподиаконов увидали сырые подвалы чрезвычайки и «фельдшеров» с наганами, которых Небесный Врач душ и телес послал, чтобы от этих мечтаний лечить. Тут, наверное, только и вспомнили, почему Царей и Князей благоверных на иконах с мечом в руке пишут, да поздно было – проспали Христа своего земного – царя Николая II, а без него защитить их было некому. Вот тогда и началось – сперва прозрение, а за ним и исповедничество.
Но дивно не это – дивно другое: никаких выводов и уроков из тех событий и доныне не сделано. Не собран Собор и не задан вопрос: «Отцы всечестные, как случилось, что Церковь, будучи при Царях Православных господствующей, охраняемая воинством оружным, вдруг в этом самом Бутове оказалась, отчего крещеные красноармейцы священников на расстрел повели, кто недоглядел, когда Белинские и Чернышевские целый век народ из церковной ограды выводили»? Но не собрались и вопросом не задались, а, значит, «есть еще время до срока» … (Дан.11:35) и суждено будет врачеваться где-нибудь в Гуантанамо или по месту жительства – в Бутово-2, например…
***
Если спросить современного человека, как выглядит стрекоза, всякий скажет, что стрекоза – это крупное насекомое с длинным членистым туловищем, с четырьмя крыльями, с большими глазами, которое, когда летит, похоже на вертолет. А вот во времена И. А. Крылова под словом «стрекоза» в его знаменитой басне «Стрекоза и муравей» понималось совершенно иное насекомое – зеленый кузнечик, который живет в луговой траве и громко стрекочет. Это классический пример, как лексика может менять семантику – слово остается прежним, в то время как смысл его давным-давно изменился.
Как только Государь Император Николай II поставил 2 марта 1917 г. свою подпись под Манифестом об отречении, одномоментно упразднился и содержательный аспект таких лексем, как «Церковь» и «государство» (царство), поскольку в тот же миг их дольняя сущность утратила связь со своим горним первообразом – Царством Небесным. Теперь эти слова лежат как бездыханные покойники на полке истории – в ожидании воскресения России.
Так нынешнее расхристанное сознание, отринув обязательную богоизбранность Царского рода как важнейшее условие небесной легитимности власти, закономерно осмысляет и описывает современную действительность в словах и категориях, которые уже почти целый век никакого отношения к этой действительности не имеют. В таком понятийном тумане1133 призрак «папоцезаризма» может соткаться не только из «Декларации» митрополита Сергия, но и из чего угодно другого. Подобным же образом в прозвище сказочного шарманщика Папы Карло за словом «папа» можно разглядеть ложный образ Римского понтифика, а имя Карло (король) принять за признак его Богопомазанности. Далее исторический анализ уступит место медицинскому диагнозу, поскольку из области духовного трезвения ум сам собой перенесется в некий призрачный мир гомункулусов1134, где вокруг святого трона Царей Московских закружатся в стеклянных ретортах «цезари» и «папы» от ВКП(б). Именно к такому «стрекозлиному» непониманию действительности и приводит механическое, некритичное перенесение лексики, некогда служившей описанию церковно-государственных отношений в условиях православного самодержавия, в среду победившего социализма, где эти отношения отсутствуют по причине отсутствия самих субъектов.
В большевистской картине мира и парадигме его осмысления Бога нет, Он отсутствует1135. Потому большевики и называли себя атеистами, и не просто атеистами, но воинствующими. И вдруг воинствующие атеисты затеяли «церковь» учредить! Логичен вопрос: а для чего безбожникам «Церковь»? Не случайно кто-то из катакомбников весьма точно назвал ее – «Церковь-ловушка». Распятая большевиками, расстрелянная в чекистских подвалах, замученная в концлагерях исповедническая поместная Российская Церковь и Сергианская «Церковь» – это совершенно разные Церкви.
Тогдашнее, ленинско-сталинское, поколение большевиков стояло на платформе вульгарного материализма, а потому, как и всякие материалисты, они плохо понимали, на каком основании зиждется Церковь. Как это ни парадоксально, но именно их отрицание Христа и не позволило им добить Церковь до конца. Отрицая Спасителя и Бескровную Жертву, Евхаристию, они нанесли свой удар отчасти мимо – не столько по Таинствам, сколько по институциональным основам Церкви и по ее пастве. Гонимые и преследуемые, священники хранили антиминсы и втайне совершали литургическое чинопоследование вне храмов, а затем причащали верующих Святыми запáсными Дáрами. Есть свидетельства, что служили и в ссылках, и даже в концлагерях1136.
Поскольку нынешние большевики – люди «просвещенные» (многие учились в духовных академиях и богословских институтах), легко угадать и грядущие формы разорения Церкви, о чем предупреждали святые отцы – удар будет нанесен по Таинствам, по Литургии – будет сделана попытка упразднить саму Бескровную Жертву1137.
Современность уже демонстрирует признаки того, что Церковь существует лишь литургически, богослужебно, тайнообразно, т.е. в каком-то смысле катакомбно. В соборном же понимании ее нет – большинство крещеного населения России осталось вне ее. А литургически Церковь не потому сохранилась, что ее митрополит Сергий «спас», в чем уверяют его духовные чада и наследники, а потому, что «гражданины-начальники» из ОГПУ-НКВД не успели разорить ее до конца – просто не в их это оказалось власти: Церковь – Божья и сохранение ее – это обетование Бога: «Созижду церковь Мою, юже не одолеют врата адовы» (Мф.16:18).
С упразднением института царства1138 воплощение Божьего замысла о Святой Руси невозможно в принципе. Все силы неотмирной Церкви, оставшейся без царской защиты от мира, стремящегося ее упразднить, уйдут на то, чтобы сохранить хотя бы таинственную часть своего служения. Об учительном служении не может идти и речи – миру не нужен ни Спаситель-Христос, ни проповедь Его Благовестия. В лучшем случае мир соглашается лишь презрительно терпеть Церковь как декорацию, взамен принуждая ее иерархов благословлять мирские похоти и беззакония.
Будучи разделенными, дары Священства и Царства уже не могут прелагаться в «тихое и безмятежное житие во всяком благочестии и чистоте», для которого, собственно, и даны они Богом человечеству. Ведь не случайно русский народ столько веков воспитывался в таких понятиях, как «царь-отец» и «Церковь-мать». А когда отец-защитник убит, неужели не ясно, что убийцы будут разорять отчий дом и насиловать мать. Священство и царство могут плодоносить только в «симфоническом» единстве – любой из этих даров сам по себе, в одиночестве, не будучи восполнен и подкреплен другим, стремительно истончается. Так, Петр I разгромил Церковь – и три четверти столетия империя пролежала словно в обмороке. И обратный пример: лишившись 2 марта 1917 г. земного царя-защитника, Русская Поместная Церковь через семь лет утратила и законного Патриарха, а, утратив его, начала разваливаться на такие клоны, как «обновленцы», «сергиане», «иосифляне», МПРПЦ, РПЦЗ (теперь с «В» и «Л»), «евлогиане», РИПЦ, РосИПЦ, ЦИПХ, УПЦМП, УПЦКП, УАПЦ и прочее, к взаимным отношениям которых (в любых произвольно взятых сочетаниях) такое понятие, как братолюбие, совершенно неприложимо1139.
Схожую участь разделили также Албанская, Болгарская, Греческая, Румынская, Сербская Церкви, в той ли иной степени почти все православные Церкви-сестры1140. Как получилось, что православные иерархи Румынской и Болгарской Церквей фактически благословили свою паству воевать против православных русских единоверцев на стороне Гитлера? Почему никак этому не воспрепятствовали и гласа своего против такого богопротивного дела не возвысили? Ответ на эти вопросы один – разрушение «симфонического» единства между всякой поместной Церковью и собственной национальной самодержавной монархией влечет за собой одинаковые апостасийные процессы, жертвами которых всегда становятся пасомые народы, а всеобщим уделом – «струпья и гноище» (Иов.7:5). Словно друзья многострадального Иова стоят вышеназванные иерархи поодаль как безучастные статисты и, указуя перстом в небо, подают народу малопригодные советы1141. Но хорошо бы вспомнить и слова, которые изнес Господь друзьям Иова: «…пойдите к рабу Моему Иову и принесите за себя жертву; и раб Мой Иов помолится за вас, ибо только лице его Я приму, дабы не отвергнуть вас…» (Иов.42:8).
Есть общая черта, присущая всем институтам, поименованным клонами, – неучастие в служении царству как дару Божию; все они с одинаковым равнодушием и беспечностью от этого дара отреклись, предали его забвению. Минуло почти столетие, но ни один из этих осколков некогда единой Церкви1142 так и не указал своей пастве спасительного направления движения к православно-государственному строительству. Ни один из этих институтов так и не напомнил своей пастве о Соборной клятве 1613 г., определявшей собственно смысл существования России в течение последних 300 лет ее существования как царства, никто не призвал свою окормляемую паству к исполнению соборного долга, к осознанию необходимости восстановления Престола Царей Московских.
По идее Соборной клятвы 1613 г. и по тождественной ей мысли Патриарха Никона, Православное Царство – это, пусть земной и несовершенный, но все-таки «рай», т.е. «место, огражденное Богом» (а на земле Его помазанником – царем), и войти в Царствие Небесное можно только из Царствия земного. Иными словами, переход из плотского тела в Жизнь Вечную можно совершить лишь в пределах единого Царства, единого Литургического пространства Церкви – из ее воинствующей ипостаси в Торжествующую. К такому устроению была направлена практика сперва Византийского, а за ним Московского Царства, когда соборное тело Церкви земной находится внутри церковно-государственной ограды, и потому похищение из нее человека максимально затруднено для врага спасения – столь сильны сложенные вкупе харизматические дары Царя и Патриарха.
По учению же «соли обуявшей», которая однажды уже была «выброшена на попрание» (Мф.5:13), но выводов из того не сделавшая, православный царь-защитник не нужен, поскольку дело защиты Церкви предано ею в надежные руки «мироправителей тьмы века сего» (Еф.6:12). Но не ведают воеводы духовные, что, отрекшись царя земного, отреклись и Царя Небесного1143. Поставление Царей суть тайна Божественного промысла о мире. Дело же земное – свидетельствовать об истине, напомнить народу о данной им Богу клятве и призвать к ее исполнению: это и есть непосредственная учительная обязанность Церкви, а далее – дело всеблагости Божьей. Однако тот факт, что пастыри, словно сговорившись, данную обязанность дружно с себя сложили, свидетельствует об их стремительном движении от соборной формы бытия к форме иной, более напоминающей профсоюз священнослужителей, совершающих таинства и исполняющих требы.
«Несть бо власть, аще не от Бога» (Рим.13:1), – учит Новозаветную Церковь святой апостол Павел. Однако слово «аще», как правило, опускается, но означает оно условие, и условие крайне важное – «если». Если же это «аще» не опускать, то истинный смысл апостольского учения предстанет таковым: если власть не от Бога, то власти нет. Это означает, что нет ее вообще – никакой! Отсутствует она, сколь ни ищи – «несть бо». Вместо нее царит анархия, демоноправление снизу, экстрагированное мироправителями с «благословения Анны и Каиафы» из безумной воли массового «Малха»1144, извергнутой в избирательные урны. Незачем Анне с Каиафой Соборная клятва 1613 г., как незачем и Пресвятая Живоначальная Троица, от Которой они сами себя в веках отлучили1145. Потому и слуга охранительный меч напрасно носит, но им же ежегодно посекая русский народ в количествах, сопоставимых с потерями в масштабной войне1146.
«Спаси мя, Господи, яко оскуде преподобный» (Пс.11:2), – восклицает святой Царь и Пророк Давид. Не оттого ли не вошел народ крещеный в сплетенную оскудевшим митрополитом ограду, что сплетена она из ветвей от осины иудиной. Не оттого ли отказался от трапезы Христовой, что, не увидев Церкви Воинствующей, ведущей брань «с духами злобы поднебесной» (Еф.6:12), помыслил в сердце своем: ежели не воюем, так и нечего военный Драгоценный Царский Харч зря тратить.
Отнятая от России 2 марта 1917 г. вместе с Богопомазанным Царем соборная благодать Святаго Духа вновь осенит Россию, надо полагать, при одном условии – если мы вернемся на путь исполнения того неотменяемого Соборного обетования, которое в 1613 г. наши отцы дали Богоизбранному Царственному дому Романовых, в самом имени которых (Roma – Рим, nov – новый) заключено Божие указание на грядущий новый Рим – третий! Только благодать православного Царя защитит наше Отечество от антихриста и его печати, только она, действуя через Царя в союзе с Патриархом, воскресит и преобразит Россию. Вот когда «омертвевшая» ныне Россия, подобно четверодневному Лазарю, воскреснет не в болезнь, а в преображение, воссияв в великой славе, вот когда, по слову прп. Серафима Саровского, «посреди лета запоют Пасху» и воскликнет народ, ликовствуя «Христос воскресе!», знаменуя этим торжественным возгласом обретение Христа – Божия помазанника Царя. «Славяне же любимы Богом за то, что до конца сохраняют истинную веру в Господа Иисуса Христа. Во времена антихриста они совершенно отвергнут и не признают его Мессией и за то удостоятся великого благодеяния Божия: будет всемогущественный язык на земле, и другого царства, более всемогущественного русско-славянского, не будет на земле», – сказал прп. Серафим с твердостью1147. Из этого обетования и должно черпать силы, чтобы вновь стать освященным Царством, а не унылой толпой дезертиров, обреченно бредущих в снедь машиаху.
«Пойте Господеви, живущему в Сионе»: богословие, философия, искусство
Патриарх Никон: наследие русской истории, культуры и мысли. (Шмидт В. В.)
I. Церковно-общественное служение Патриарха Никона – II. Святоотеческие основы богословских воззрений Патриарха Никона – III. Экклезиологические воззрения Патриарха Никона – IV. Церковно-канонические убеждения Патриарха Никона – V. Антропологические и нравоучительные воззрения Патриарха Никона – VI. Просветительские и миссионерские воззрения Патриарха Никона – VII. Богослужение Патриарха Никона – Заключение
I. Церковно-общественное служение Патриарха Никона
Никон стал Первосвятителем Русской Православной Церкви в тот период, когда уже была сформулирована и развита идея «Москва – Третий Рим», когда были переработаны и пережиты основные споры, ярчайшими представителями которых являлись Иосиф Волоцкий и Нил Сорский1148, когда набирали силу процессы государственной централизации, когда активно трудились ревнители благочестия1149, когда все общество с ужасом ожидало пришествия антихриста.
Духовно умудренный Патриарх видел в апостасии знаки наступления антихристова царства и грядущую гибель отечества, поэтому он предпринимает активнейшие начинания во всех областях жизни, борясь с церковно-общественными, гражданско-государствнными недугами разными средствами – мольбами, протестами, своим удалением с кафедры, отряхиванием праха от ног своих, анафемой на правонарушителей, грозными пророчествами, непреклонной стойкостью в посылаемых на него гонениях и т.д.1150
Выход Святейший Никон видел в освящении, оцерковлении всей полноты жизни – не только личной, но и, что куда более важно, общественной: вся жизнь должна быть проникнута соборным духом, так как в этом индивидуально-соборном делании произойдет стяжание Духа и будет достигнута святость Руси, в этом будет спасение. К Святой Руси, небесному Иерусалиму, горнему Сиону – к этим образам тянулась душа Никона, а их дух был определяющим во всем миропредставлении и деятельности сперва Никиты, а затем и Никона, сперва священника, а затем и архимандрита, и митрополита, и Патриарха. Эти же образы предлагал стяжать Первосвятитель и своей соборной пастве – всему православному Московскому царству.
Особенности церковной и мировоззренческой жизни русского народа в XVII в., возникшие в результате долгой изоляции русских от Вселенского Православия, усугублялись также и спецификой социально-политических, церковно-государственных взаимоотношений, сложившихся в Московской Руси1151. Происходило постепенное замещение содержания формой; живая, трепетная вера умерщвлялась правилом, обрядом, буквой. Низкий уровень образованности и развития, невербализованный объем высшего теоретического круга христианских знаний – все это не давало возможности понять необходимое и отличить вероучение от обряда, существенное и главное в самом обряде от несущественного и неважного или безразличного для веры и благочестия; все это не способствовало осознанию, что истинное и совершенное благочестие выражается в степени усвоения христианских истин и осуществления их в жизни и деятельности; что обряд не может заменить нравственной деятельности человека, ибо он дает выражение другим стремлениям души; что изменение того или иного обряда не есть изменение самой веры.
Обряд является школой религиозных истин, его методология отлична от методологии научного знания. Обряд опирается непосредственно на чувства, душевные переживания, возникающие от соприкосновения со святыней, а не на казуистические способности рассудка. Обряд, таким образом, естественно выступал на первый план в христианской жизни русских: не от вероучения они переходили к обряду, а начинали с обряда и уже через обряд переходили к усвоению и пониманию самого учения. Таким образом, русских учил и воспитывал прежде всего обряд, форма, вне которой они не могли ни представить себе, ни мыслить христианства и своей жизни. Изменить обряд было то же, что изменить вероучение: иной обряд указывал и на иное учение, а не только на иную форму. Поэтому всякий держащийся иного обряда представлялся иноверцем. В этом аспекте становится понятным, как восприняли русские после падения Константинополя задачу для себя: хранить неизменно, без всяких перемен, правую веру, ничего не изменять в ней, ничего не утерять из нее1152.
В связи с общим контекстом разворачивавшихся социально-культурных процессов (в том числе церковно-общественной, обрядово-семиотической, включая филологическую, справ1153) Патриарх Никон был убежденным проповедником древнерусского православия – православия старой России с унаследованной церковной культурой, лежавшей в основе и государственного строительства в той форме, в которую облекла его теория «симфонии властей». Церковный идеал жизни, завершаемый аскетическим идеалом иночества, определял всю жизнь, и в этом отношении Патриарх Никон был продолжателем древней России, которую он стремился сделать более святой. У него не было преклонения перед стариной только потому, что она старина. Из этой старины он почитал лишь то, что проходило через испытание критической оценки и согласовывалось со святоотеческим преданием. Будучи исповедником каппадокийства, он бесконечно опередил своих современников, и потому содержание, которое Никон привносил в прежнее строительство, было несколько иным, чем то, которое могли воспринять. Эта особенность видна не только в той борьбе, которую он вел против цезарепапизма во имя святоотеческого понимания взаимодействия властей, в отношении его к просвещению, образованию, но и в осуществлении идеи обрядовой унификации как средства достижения полного единства Православных Церквей в масштабе Вселенского Православия.
Патриарх Никон в «Возражении…» (вопросы-ответы 20–22)1154 выразил православные взгляды в области политического строительства: он излагает понимание христианства, распространяющегося на сферу политическую в смысле признания религиозно-нравственной обязанности государственной власти иметь перед собой руководящим идеалом идеал Церкви. Необходимость и наличие сознания доминирующего значения греха в жизни личной и общественной как причины несчастий, следуемых за уклонением от воли Божией по испорченности природы человеческой; жизнь с ощущением Бога как праведного Судьи, отмщающего людям и их поколениям каждое преступление, всякую неправду, всякий грех; стремление выправить жизнь по канону церковному как средство отрешения от личной испорченности грехом воли человека и стяжание вспомосуществующей благодати Святого Духа – вот основная направленность Никоновского учения.
Государство представляет собой менее высокий порядок, чем Церковь, по причинам большей примитивности целей, являющихся лишь предварительным условием для деятельности Церкви, и большей грубости средств, однако оно имеет с Церковью объединяющую конечную цель, основывающуюся на одной истине – спасение людей. Эта единая истина-цель и является основой того согласия Церкви и государства, которое возвещается Церковью и принимается государством как принцип своей деятельности в том случае, когда государство желает быть христианским. Основанием союза, или «симфонии», Церкви и государства является, таким образом, не взаимная польза, но самостоятельная истина, поддерживающая этот союз.
По самому понятию «симфония» требует подчинения идей государственных идеям церковным, но никак не их слияния и тем более отождествления, что было бы способно привести к замещению или порабощению Церкви в ее институциональном выражении.
Государство призывается усовершенствовать свой принцип справедливости, руководствуясь принципом любви, которым живет Церковь; государство призывается приобщаться к тому духу, который есть в Церкви и которым она, Церковь, движется и существует.
«Симфония» устанавливает, что государство и церковная организация не только не враждебны друг другу по существу, но идейно связаны конечной целью, к которой каждый стремится разными средствами, присущими природе каждого. Поэтому государство и Церковь призываются к взаимной поддержке, приобретению в этой поддержке того, чего каждому недостает1155.
Патриарх Никон, воспринявший идею Третьего Рима как созидание Святой Руси, единого исторической полнотой Ромейского царства, видит Московский Патриархат хранителем Вселенского Православия, а не православия, преломленного исторической средой и условиями XVI – начала XVII в., где русский церковный обряд занял равное место с догматом веры, утратив различие между вещами главными и второстепенными, о которых напоминал Никону Константинопольский Патриарх Паисий1156.
Переосмыслив значимость целей ревнителей благочестия, Патриарх по-иному понимает идею «симфонии» как церковного сознания, с изменениями, приспособленными к новым историческим условиям, и проводит ее с учетом верховного руководящего принципа, определяющего задание Церкви по христианизации всех социальных отношений: все сферы жизни должны были организоваться в одну гармоническую систему по указанию христианских идей под сверхприродным руководством Церкви. Таким образом, принцип «симфонии» выдвигается на степень общехристианского церковного правосознания, определение и углубление которого потребовались ввиду новых идей, выношенных «собинными друзьями» и способных стать новой эпохой Православной Вселенной.
В масштабной совокупности целей и задач, выдвигаемых цивилизацонным взаимодействием в исторической перспективе, ответственности за судьбы Вселенной и Ромейского наследия Патриарх сознавал значимость сугубо внутрицерковного процесса «возвращения к правде и неповрежденности», который выходил за пределы Церкви, захватывая собственно всю Вселенную. Он также хорошо знал намерения и стремления Царя, перед чьим взором вставали Украина, Балканские государства, а за ними Константинополь с престолом древних благочестивых греческих Царей, преемником и законным наследником которых считал себя Алексей Михайлович1157.
Миссия была святой, а потому и начала осуществляться с поразительным успехом. Московское государство расширялось, устремляясь взором до краев Эйкумены. Вместе с этим процессом шел и другой – ассимиляция присоединенных территорий и народов, унификация культур и традиций1158. Патриарх активно переселял насельников из одного монастыря в другой, нарочито населяя монастыри разноплеменной братией, заимствовал культурно-технические достижения и наследие западных народов, распространяя и утверждая их в столице и в собственных монастырях, которые призывались стать духовными, культурными, просветительскими центрами действительно нового Израиля – Святой Руси.
В этот же период начинают активно организовываться школы, выписываются ученые, переводчики, разных искусных дел мастера, устраиваются типографии и печатается множество книг, развивается архивно-библиотечное дело. Вся эта деятельность носит необычный, нетрадиционный и даже несколько реформаторский, но исключительно кафолический характер. Всякое нововведение, способное привнести упрощенность и индивидуалистско-партикулярный характер восприятия и исповедания истин веры, строго изгоняется. Ярким примером этого явилась борьба с иконами и мастерами, несущими в себе характеры франкские, что стимулировало разрушение соборности и утверждение индивидуалистско-персоналистических тенденций, чуждых православной традиции, мировосприятию и миропониманию.
Патриарх Никон напоминает, что Православная Церковь не может быть Церковью самодовлеющей, что она есть лишь часть Вселенской Церкви, что между частями этой Церкви должно быть каноническое общение и согласие, и восстает не только против заместительства престола Древнего Рима, но даже против самостоятельного, без совета и благословения Вселенских Патриархов, принятия ответственных, важных решений, способных привести к нарушению канонического единства во Вселенской Церкви. Так же последовательно Патриарх Никон выступает и за полную самостоятельность Церкви (об этом масштабно и во весь голос заговорят лишь в начале ХХ в.)1159.
Проблема национально-исторических, культурных идеалов, на которые Святейший Патриарх Никон указывал русскому самосознанию в раскрытии образа Святой Руси и созидании третьего Рима, была недоступна для понимания многих его соотечественников. Святейший не отождествлял Православия с обрядностью и церковного общества с политическим: общество церковное было для него шире политического и призывалось служить вехами для последнего с целью его улучшения, освящения и преображения.
Никон имел прогрессивную ретроспективность взгляда «вечность – в будущем», нацеленную на осуществление дольнего мира во образ Горнего, в отличие от регрессивного, узконационального, партикулярного восприятия жизни и будущего «вечность – в прошлом» как сохраняемого и оберегаемого великого прошлого великой святой Церкви, осколком которой осталась лишь «ветхая» Русь. Аввакум1160 называл греческих и малоросских риторов-философов песьими сынами, а Никон заводил библиотеки с сочинениями греческих, античных и иных классиков, насаждал школы, типографии, выписывал киевских, афонских ученых мужей, устраивал иконописные мастерские, заводил новые ремесленные производства и т.д.1161.
Патриарх Никон стремился создавать и создавал просвещенную православную культуру и учился ей у Православного Востока, хорошо усвоив богословские традиции и мировоззрение каппадокийское1162, что было практически непонятно его окружению и несвойственно характеру времени (как, впрочем, и ныне).
II. Святоотеческие основы богословских воззрений Патриарха Никона
Говоря о великих заслугах Святейшего Патриарха Никона перед народом, обществом, Церковью и государством, в кратком изложении представим систему богословия и религиозно-философских взглядов Святейшего, которую реконструируем, опираясь на: «Возражение или Разорение…», «Духовные наставления христианину», «Духовное завещание», «Слова…»; зодческую деятельность; образ личного служении Церкви, государству и народу1163.
Особенным и, пожалуй, самым важным для понимания сути и глубины мировоззрения Патриарха Никона являются его величественные монастыри, выражающие не только непревосходимую надмирность христианских идей, но и задаваемую этими идеями-логосами торжествующую и довлеющую дольнему миру грандиозность. Созданные Патриархом монастыри – Крестный, Иверский и Воскресенский Нового Иерусалима1164 – свидетельствуют о жизни и земном подвиге воплотившегося Слова (Логоса) и призваны не только своей метафизической мощью, но и реальностью воздействовать на созерцающих величие Тайн Божиих с целью преображения и освящения всей полноты жизни для истинного прославления Творца. Важнейшим здесь является то, что своим посвящением эти монастыри, и в особенности Воскресенский, воссоздавая Святые места Палестины, прославляют Имена Божии, продолжают звучание Слова, продолжают Богослужение, продолжают почитание и свидетельство величия Горнего мира.
В Ветхом Завете Бог «положил» Имя Свое на единственной скинии, на единственном храме, но он употребил также Имя Свое для всего народа, называя его Израилем. В Новом Завете Бог полагает Имя Свое на каждом обращающемся к Нему («крестяще во Имя Отца и Сына и Святаго Духа») и во имя Иисуса Христа («проповедатися покаянию и отпущению грехов во всех языцех», и «даде им область чадом Божиим быти, верующим во Имя Его») и осуждает не принимающих возложение сего имени Его и отвергающих веру в истину Имени Его: «не веруяй уже осужден есть, яко не верова во Имя Единороднаго Сына Божия». Наконец, дал имя Свое как Божественную силу, как власть Его в творение всяких знамений и обещал, что об Имени Его будут совершаться все священнодейственные прошения1165.
Развитию этих идей Патриарх Никон посвящает в своем «Возражении…» разорение 13-го и 14-го вопросов. Патриарх Никон разъясняет не только суть действия Имен, но и посредством созерцания Их в созданных образах, в частности в образе монастыря Нового Иерусалима, возможность постижения метафизической сути Имени Божьего и как следствие подчинения всей жизни духовному закону.
Личная жизнь Патриарха Никона стала образцом величайшего служения, засвидетельствованного примерами исповедания действенности Имени Божия в таинствах и существенности исповедания Его в тайне благочестия, утверждающего спасение (л. 129об.)1166. Заключена эта тайна в Богообщении и Боговселении и, таким образом, суть ее – в исповедании Отца и Сына и Святого Духа. Для человека начало этой тайне полагается в таинстве крещения, далее тайна проходит через всю жизнь христианина исповеданием Имен Божиих в церковных таинствах; частное молитвенное усердие приводит к Богообщению, совершенство которого достигается степенью Боговселения (л. 323об., 576об., 577–580).
«Тайна благочестия» и «утверждение спасения» не суть синонимы. Святейший говорит в своем «Духовном завещании»:… прежде всего понудимся, братие, сами собою и положим себе сей святый и правый закон и заповедь добротворительную: воеже бы всегда поспешатися нам и прежде всех прилежно потщатися в соборе обретатися в божественнем и песнопетном деле, и со многоусердным тщатием притецати на душевную пищу. Точию да положим начало, и точию да начнем творити. И тако не оставит нас Господь Бог и дарствует нам милость Свою и послет всесилную помощь с высоты святыя Своея пренебесныя… (л. 489) Якоже брашно сладко на трапезе и злато поверженое на распутии, и аще кто прежде приидет, той прежде и насытится, или преизобильно обогатеет в божественней церкви…. Невозможно убо есть спастися нам … не боящимся страшнаго прещения Божия (л. 490) и праведнаго гнева. Страшно бо, еже впасти в руце Бога жива, се бо есть, испытает сердца, истязует утробы и умное парение.
Значимость, сила христианства – в приобщении к Святым таинствам, в которых с предложением символически употребляемых предметов (объектов) подается благодать Божия силой призывания Имени (Имен) Божия (Божиих) и осуществляется «тайна благочестия», состоящая собственно в «исповедании Имен»; использование разных символов – икон, крестного знамения и т.д. (л. 130–132об.) – есть укрепление, стимулирование, охранение «благ душевных», так как символы возбуждают памятование о Божественных истинах – аксиологической онтологии человека – существа логосного:… Всяк рожденый от Бога греха не творит, яко семя Его в нем пребывает, и не может согрешати, яко от Бога родися. Сего ради явлена суть чада Божии и чада диаволска (л. 302об.).
В наследии Патриарха Никона довольно часто встречаются сугубо богословские вопросы1167. Одной из основных является тема непостижимости Божией. Утверждение о непостижимости Божией, по сути, есть отправная точка богословия Святейшего. Бог непостижим по Своей сущности, хотя мы знаем о Его существовании из восприятия тварного мира, его истории1168, истории Церкви: движение… Церкви есть обнажение Божественыя благодати, (л. 203об.) им же обнажением и волнений и смятений от духов лукавствия и пособствующих им лукавых человек. Непостижимость Бога в богословской мысли Патриарха Никона тесно связана с учением о христоцентричности, обожении человека и его соборной сущности: Той есть прежде всех, и всяческая о Нем состоятся. И Той глава телу Церкви, иже есть Начаток, перворожден из мертвых, яко да будет во всех Той первенствуя, яко в Нем благоизволили все исполнение (л. 208) вселитися и тем примирити всяческая к Себе, умирив кровию Креста Своего Собою, аще земная, аще небесная; Вы же есте тело Христово и уды от части. Не тело бо токмо, рече, но и уды есмы… многих воедино собирая и показуя всех едино нечто по телеси образу бывших и едино сие многими составляемо, и во многих сущее (т.е. бытие и общественная жизнь. – В. Ш.), многая от сего содержащияся и могущая быти (л. 127об.)… сего ради… сиречь яко церковь яже в вас, часть есть повсюду лежащия Церкве и тела всяческими состоящимися церквами… Наше бо житие на небесех есть, и живот наш тамо сокровен со Христом в Бозе, и почести тамо (л. 365) и течение о сущих тамо венцех, ниже бо разоряется по скончании сей живот, но тогда сияет болшее.
Патриарх Никон в своих рассуждениях схож с Григорием Богословом и Симеоном Новым Богословом, когда говорит, что между человеком и Богом разделение – риза (растленная грехами плоть): (л. 275)… Риза бо и покров души плоть есть – и может быть преодолена покаянием1169; Аще кто плоти своея не разстелет, сиречь не смирит о Христе, еже суть Путь и Живот, и в Нем присно не пребывает, уклоняяся от всякаго беззакония и неправды, и не восходит нань Господь. Тем не менее, несмотря на непостижимость Божию, человек не оставлен в полной тьме и неведении. Напротив, человеку даны указания, образы, о Боге необходимо постоянно свидетельствовать всей своей жизнью, делами.
Вместе с тем Бог непостижимо постижим для человеческого ума: Он Тот, кто показывает нам то, что выше нас. Степень нашего знания о Боге пропорциональна степени нашей веры, исполнения заповедей Его (л. 165об., 167: Божия наречемся и есмы. Возлюблении, ныне чада Божия есмы, не дивися, что будем, вемы же, яко аще явится, подобни Ему будем и узрим Его, якоже есть). В Боге есть нечто доступное нашему разуму – наш собственный опыт исповедания любви:… всяк любяй от Бога рожден есть и разумеет Бога, а не любяй, не позна Бога, яко Бог любы есть… (л. 168) … Бога никто же нигде же виде, аще любим друг, Бог в нас пребывает и любы Его совершенна есть в нас. Бог любы есть, и пребываяй в любви, в Бозе пребывает, и Бог в нем пребывает. Бог непостижим в Своей сущности, но может быть постигнут в Своих энергиях, действующей благодати, восхищающей любви.
Патриарх Никон понимает и проводит различие между тем, что в Боге совершенно непостижимо, т.е. Его «природой», или «сущностью», и тем, что человек может постичь, – таинственными и поистине невыразимыми созерцаниями славы Сына и воплотившегося Слова Божия посредством ниспосылаемой благодати Святого Духа.
Нужно особо заметить, что терминологически воззрения Святейшего Патриарха не столь системны и разработаны, как у отцов-каппадокийцев, но близость взглядов очевидна – здесь ощутим синтез святоотеческого учения о непостижимости и непознаваемости Бога. Хотя Бог есть величайшая непостижимая тайна, тем не менее она может быть приоткрыта тем, кто достиг обожения, и, хотя все равно остается далеко за пределами человеческой способности к постижению этой тайны, стремится постичь ее (л. 216об.).
Для Патриарха Никона исповедь Христа всем своим существом есть как задача личного спасения, так и пример, образ, призыв к спасению и иных, ради которых он и призван к высокому служению, а поэтому он и свидетельствует делом1170, мыслью о Боге, «ознайменовывает» Имя Его. В связи с этим всякому по нем грядущему настоятелю в своем «Духовном завещании» Патриарх говорит: (л. 487) Прежде всего подобает самому настоятелю и всей братии его многое тщание и попечение, и подвиг прилежныя о сем показа, яко дався, иже [есть] во обители его благообразна и по чину духовному да бывает изряднее же чин святый церковный и вся [прочия] службы монастырския, якоже повелевают нам Божественная писания святая; (л. 491)… ты не оставляй врачевания, любимиче, аще бо ти днесь и враг бывает, но утре и друг прелюбезный будет ти. Ащели же он и утре враг ти будет, но сам Бог друг тебе будет. Понеже сице творяще, братию спасаем и себе милость от Бога о согрешениих наших приобрящем и премногое дерзновение, или рещи, надеяние величайшее имам ко Богу, и вящшу мзду восприимем паче и молящагося… (см. также: л. 490об.).
Через подобное Патриарх Никон свидетельствует, что Имя Божие есть тот луч Истины, в котором видна вся Полнота. Всякое имя, каким человечество всуе именует Бога, есть слово (знак), протяженное и бессодержательное до тех пор, пока не отнесено к Богу, но, когда эта обыкновенная идея, согласно Божественному Откровению, употребляется для именования Бога, то перестает быть пустой идеей и становится истиной о Боге, с которой согласуются-соединяются все иные богооткровенные истины; таким образом, все, что человек помышляет о Боге, есть совокупность Его Имен, и вне Его Имен нет никакой чистой мысли о Боге. Поэтому Имена Божии, через которые и посредством которых человек, созерцая образное и предметное, прославляет Бога, не суть идейные символы, не тождественные мысли о Боге, а суть сами истины о Боге: Имя Божие есть Истина о триипостасной Истине, и, когда происходит именование Его по какому-либо Его Имени, мыслятся-зрятся все прочие Истины, выражаемые иными Именами: (л. 125)… Со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа не Он сице, но сице, но имя Господне на всяком месте, тех же и нашем1171.
Понимание Имени Божия в чудесах, священных предметах, священнодействиях как силы, содействуемой силой Святого Духа, основывается на понимании Имени Божия как Глагола Божия, как вербальной деятельности (энергии) Божией. Если Глаголы Иисуса Христа и имя Его во время земной жизни и повторении их апостолами были действующей силой, то таковыми по существу они являются и ныне при прочтении Евангелия, так как Дух Святой «взял» эти слова от Сына и «возвестил» нам (Ин.16:13–14) «по воле Отца» (Ин.16:15), а об Имени Отца Господь говорит, что Он не только сказал это Имя апостолам, но и скажет (см.: Ин.17:26), т.е. Глагол будет вечно глаголать Имя Божье; и об Имени Иисуса Христа сказано, что «никто же может рещи Господа, точию Духом Святым» (1Кор.12:3, 5). Таким образом, в Именах Отца и Сына и Святого Духа и других действует и Отец, и Сын, и Святой Дух, а не один Святой Дух, так как и они суть глагол Сына, «без Него же ничего же бысть еже бысть и суть», словесное действие Его, о котором говорится: «нося же всяческая глаголом силы Своея». Таковы же и действенность молитвенных слов в священнодействиях, и символическое раскрытие образа, которые тоже суть реальность, и действие как глагол ипостасного Слова, возвещенный Церкви Духом Святым, в котором пребывает Отец благоволением Своим и Дух Святой силой Своей1172.
Такое созерцание Бога в Богооткровенных свойствах Его, называемых Именами Божьими, вера во имя Божие как в Самого Бога, страх перед Именем Божьим как перед Самим Богом, сознание неотделимого присутствия Бога – все это задавалось многоуровневой системой символических рядов как внутри, так и вне храмов, особенно Воскресенского монастыря Нового Иерусалима. Подтверждалось это и первой заповедью: «Аз есмь Господь Бог твой, да не будет тебе бози иныи разве Мене». Здесь заключено и повеление, и запрещение. В Катехизисе, который, правда, был составлен позднее, определяется: «Сими словами Бог как бы указует на Самого Себя человеку, и, следственно, повелевает познавать Господа Бога», а из повеления познавать Бога можно вывести, что «должно учиться Богопознанию как важнейшему из всех знаний»1173. В этом заключается и мысль о том, что познание – важнейший элемент всей вероучительной системы Православия1174, которая открывается человеку прежде всего Евангелием, деяниями Апостольскими, святым Преданием Церкви: так вновь напоминается и утверждается посредством уже описанной образно-символьной системы примат аксиолого-аскетического принципа познания богозданной реальности с соответствующими общественными процессами, а для познания последних предполагается традиционная методология соборной верификации.
Любовью к Священному Писанию (великолепное его знание, постоянное свидетельство о Боге словом Писания, напоминание о смыслах и поиск скрытых смыслов со ссылками на литургическую жизнь слушающих, молящихся, посредством чего передавался духовный опыт, устанавливалась прямая связь между Писанием и духовной жизнью, открывающей познание Бога) были организованы вся жизнь и служение Патриарха Никона. Патриарх завещает своей братии: Божественная и всеспасительная словеса сладчайшая послушником прилежным паче меда и сота, и паче тысящ злата и сребра, по святому Давиду. Аще кто прежде приидет, той прежде и благодати святыя насладится. А иже ленив и небрежлив, таковый спасительныя благодати чюжд есть, и яко лукавый и ленивый раб осужден будет (л. 489).
Польза и значимость чтения и знания Священного Писания очевидны, о чем Патриарх неоднократно напоминал, особенно Царю и ближайшему окружению, а в их лице и всем христианам [см. в ч. III настоящего трехтомника «Духовные наставления христианину» (по ркп.: л. 305, 307, 311, 313, 314, 316–318, 320, 355, 356, 361, 364)]. Полезно прочтение, но важнее исполнение, при котором необходимо вглядываться в себя, изучая свою душу, и через это происходит осуществление написанного на практике – открываются Божественные тайны.
III. Экклезиологические воззрения Патриарха Никона
При анализе восточной патристической мысли становится очевидным, что никто из Отцов не дал четкого догматического определения Церкви, не сделали этого и Вселенские Соборы. Лишь отдельные экклезиологические идеи получали развитие – их совокупность и составляет так называемую святоотеческую экклезиологию1175, заключающую в себе: принцип «вне Церкви нет спасения»; свойства Церкви согласно Символу веры – «Единая, Святая, Соборная и Апостольская»; образность и метафоричность определений: «тело Христово», «невеста Христова», «Матерь верных», «рай», «храм», «виноградник» и т.д.; учение о Церкви земной, «странствующей», и «небесной, Града Небесного». Все эти аспекты традиционной святоотеческой экклезиологии присутствуют в значительном объеме в трудах Патриарха Никона.
Как любой богослов, Патриарх Никон много занимался экклезиологической и эсхатологической проблематикой – все его богословие экклезиологично. Он также традиционно сводит и отождествляет Церковь Небесную с эсхатологическим Царством, единственным местом спасения, но в то же время старается выработать некоторые принципы преобразования этого мира, придав ему экклезиологические свойства, черты. В связи с этим у Патриарха Никона много внимания уделяется каноническим вопросам, которые выступают основой для построения и позитивного осуществления «симфонии» властей и такого же «симфонического» существования иерократических систем – церковной и государственной1176.
Патриарх Никон указывает на свойства Церкви – святость, единство, соборность, вселенскость и апостольность (л. 124об.–125об.). Основываясь на святоотеческой традиции и используя богатый язык образов, Святейший строит экклезиологическую концепцию: доминирующим является образ Церкви как тела, восходящий еще к апостолу Павлу и получивший значительное развитие в Предании: (л. 207об.)… глава есть Христос… яко о Нем создана всяческая на небеси, яже и на земли видимая и невидимая. Аще престоли, аще господствия, аще начала, аще власти всяческая тем и о Нем создашася. И Той есть прежде всех, и всяческая о Нем состоятся. И Той глава телу Церкви, иже есть Начаток, перворожден из мертвых, яко да будет во всех той первенствуя, яко в Нем благоизволили все исполнение (л. 208) вселитися и тем примирити всяческая к Себе, умирив кровию Креста Своего Собою, аще земная, аще небесная… Якоже тело едино есть и уды имать многия, вся же уды тела многия сущия, едино есть тело, тако и Христос. Достояще, рещи, тако и Церковь, сие бо бе последователно. То убо не глаголет вместо оноя Христа полагает, на высоту возводя Слово и множае посрамляя слышателя, а еже глаголет, сие есть тако и Христово тело, еже есть (л. 127) Церковь. Якоже и тело и глава един есть человек, тако и Церковь и Христос едино быти глаголет. Тем же и Христа вместо Церкве положи и тело Его тако именуя, якоже убо рече, едино нечто есть наше тело, аще и от многих Та слагается. Тако и в Церкви едино нечто вси есмы, аще бо и от многих Та слагается удов, но многия сия едино бывает тело… (л. 128) Церковь нарицается, собирая всех воедино и связуя, ни бо будет Церковь едина раздравшимися иже в ней и друг на друга восставшем1177.
При этом Патриарх Никон указывает, что все сотворенное – яко о Нем создана всяческая на небеси, яже и на земли видимая и невидимая – сотворено о Христе, так как все исполнение вселитися (т.е. Боговоплощение. – В. Ш.) и тем примирити всяческая к Себе, умирив кровию Креста Своего Собою, аще земная, аще небесная, и в Нем заключено в восстановлении Богочеловечества. Христос есть глава Церкви и Бог, так Он сам есть и Церковь, которая прекрасна в красоте своей невыразимой. Поскольку Церковь есть единство небесное и земное, то и: (л. 331об.)… яко небесная, такожде подобает и земная украшати в славу Божию… Но паче земнаго царства саном и славою и честию и силою Ея украшати подобает.
Представление же о Церкви как невесте, жене Христовой, восходит к апостолу Павлу и вполне традиционно для Отцов. Убеждения Патриарха Никона также эсхатологичны: Церковь вынуждена скитаться в мире зла, она ждет своего исполнения в будущем веке, когда будет «устроена по образу» Сына Божия (см.: л. 204–204об.).
Хорошо зная и помня о времени и признаках Второго пришествия Иисуса Христа, Патриарх Никон указывает на окончательное распространение Евангелия во всем мире и полноту приятия его в языческом и иудейском мире: это не значит, что все примут Евангелие, но оно будет проповедано всем, произойдет «исполнение язычников»1178, которые восполнят Церковь по числу своему (имеется в виду вся полнота Церкви), Израиль примет Христа Спасителя; усилением зла в мире, прежде всего в виде безбожия и антихристианства в различных формах, усилятся общественные бедствия (л. 48, 103, 103об.–104). Здесь же особое внимание отводится и антихристову действию, особенно в приложении к идее и образу монастыря Нового Иерусалима.
Патриарх Никон строго отстаивал традиционно-исторические и канонические взгляды на место и роль Московской Патриархии среди Церквей-сестер1179. Опираясь на пророчества, Святейший понуждает понимать Воскресенский монастырь действительно как образ, как икону, но никак не претензию, тщательно продуманную и якобы соответствующую его, Никона, папоцезаристским установкам на первенство как Московской Патриархии, так и его самого среди Вселенских Патриархов.
Особое значение видит Патриарх Никон в церковной жизни, исполнении духовных законов и исповедании веры, как это прообразовали апостолы, которые есть основание дольней Церкви: Церковь же, глаголю, не место точию, но нрав, не стены церковныя, но законы церковныя (л. 198). Церковь бо не стены и покров есть, но вера и житие. Како (помета: 1Кор.6) же ли не одолеша врата адова Церкви, како ли всегда с нами Христос, не бо аще не был с нами, одолена бы Церковь. Како Евангелие простреся всюду по Вселенней от святых апостол, яко (помета: Апок.23:12) основателем церковном Евангельскаго словесе сеятелем, воистину же суть и основания Церкви апостоли. И (помета: Апок.23:14) стена града, имущая 12 оснований и на них 12 имен 12 апостолов Агнчих. Основания же стены, якоже глаголет, блаженнии суть апостоли, на них же Христова Церковь основана бысть, их же имена аки в предписании, и дщицы на сих написана быша ко удобному навыкновению и научению чтущим, (л. 198об.) стена же велия церковная, высокая же и хранителная сущим во Святем Граде Христос есть и Глава той же есть.
С данной темой тесно связана и тема предназначения. У апостола Павла и мужей апостольских встречается мысль о том, что Церковь «предызбрана» и «предназначена от века» волей Божьей. Впоследствии эти темы получили развитие и была выражена мысль, что спасение зависит не столько от усилий человека, сколько от Божьей воли и милости. Вместе с тем подчеркивается большое значение свободной воли как источника добра и зла и, следовательно, как средства спасения или возмездия.
Основываясь на святоотеческой традиции и делая различия между «промыслом» и «предопределением», Святейший Патриарх Никон говорит о Церкви, которая составляется верующими и исповедующими Христа: Церковь, на востание любящим Христа и почитающим (л. 133) святыя Его Страсти, а на падение всем ненавидящим, иже Христос усечет выя их усечением вечных мук, соответственно и Наше бо житие на небесех есть, и живот наш тамо сокровен со Христом в Бозе, и почести тамо (л. 365) и течение о сущих тамо венцех, ниже бо разоряется по скончании сей живот, но тогда сияет болшее. Поэтому все живущие во Христе, в Церкви, призваны ко спасению через покаяние и приобщение таинств. Спасение, как и отцы-каппадокийцы, Патриарх Никон видит возможным только посредством Христа и Его Церкви: все призваны и предопределены к Нему, но от самого человека зависит волеизъявление к выбору и следованию этим путем.
Богоустановленность иерархии
Утверждая свое правомыслие в святоотеческой и канонической традиции, Патриарх Никон с особой ревностью относится к охранению богоустановленной церковной иерар хии, власти, полномочиям и ответственности: (л. 91)… Едина Глава Христос есть и Который нарицается и златая Глава, архиереи толко суть глаза и уста, а мирстии людие составы церковнаго тела, всевластию суд 12 апостол наследителие, истинныя каково и всякия священников 72 учеников. И помянутым глагол по воскресении от смертных Христос всем апостолом: Приимите Духа Святаго вязати и решити. Для чего и самаго того приславнаго началу имеют сию же совершенную власть… (л. 211)… Ини уставы царствия и ини уставы священничества, но сие есть более онаго.
Нисхождение Святого Духа на 12 апостолов, а от них далее устанавливает-определяет принцип иерократии в Церкви: немногие являются апостолами, а остальные получают от них спасительную благодать (л. 199об., 83, 73–73об., 79–80). С возрастанием Церкви в ней устанавливаются структурная иерархия и соответственные строго соблюдаемые обязанности, говорит Патриарх Никон: (л. 203)… Подобает каждому своя мера знати, а не совосхищатися не сущая своя, ниже се строение Церкви, но паче гонение… Праведно есть и нам всякую церковных ограждений новину потребляти или разоряти, видящим новины всегда виновны бывати церковнаго смятения и разлучения, но Уставом последовати Святых отец и яже наученая невредимо без приложения коего любо и отъятия приемлющим, по 1 Вселенскаго 7-го Собора правилу сице имущу… (л. 75)… От единаго бо вси Святаго Духа озарени бывше, повелеша яже на ползу. И их же проклятию предаша, и мы проклинаем, и их же извержению, и мы извергаем, и их же запрещению, и мы запрещаем, и их же отлучению, и мы отлучаем.
Патриарх занимает особое положение в церковной иерархии, так как Патриарх есть образ жив (л. 97) Христов и одушевлен делесы и словесы в себе живописуя истину…
К экклезиологическим воззрениям Патриарха Никона тесно примыкают его канонические взгляды: иногда, взаимопереплетаясь, они поясняют и расширяют толкование друг друга, давая основание для строительства иных, уже государственных, законов с целью утверждения государственной иероавтократии (самодержавности) без цезарепапистских амбиций для формирования посредством «симфонии» властей (светской и духовной) государства, образом которого было Царство Небесное, довлеющее Святой Руси, частью которой выступает Святейший Патриарх.
IV. Церковно-канонические убеждения Патриарха Никона
Церковь имеет основания как сакрально-мистические, так и социальные, поэтому и обладает в этом мире законной духовной властью над людьми и, являясь неотмирной, имеет конечную свою цель в мире Горнем; благоустроение в мире дольнем – непосредственная цель государства. Соответственно в богословском и социально-философском, аксиологическом аспектах две эти власти – как две медные колонны, поддерживающие портик храма (3Цар.8:15; Иер.3:21) – служат одному Создателю и управляют одними и теми же людьми, обязанными воздавать каждой власти принадлежащее (Мф.22:21). Эти власти разделены, но они должны быть соединены, как две ветви одного ствола. Хотя одна из них имеет ближайшей целью земное, а не небесное счастье, последняя цель обеих одна – Божья слава и счастье человечества. Как замечал Г. В. Лейбниц, отними религию – и ты не найдешь подданного, который бы подчинялся приговору об имуществе и жизни за отечество, за общественное дело, за правое и справедливое.
Союз, «симфония» двух властей диктуется общей целью и скрепляется взаимной нуждой. Правительства нуждаются в епископе, говорил Папа Геласий (V в.), для духовных дел, чтобы приобрести добродетели, которые должны открывать небесные врата, а епископ нуждается в правительстве светском, чтобы распространять среди людей ревность к дому Божию, дела любви и христианской справедливости.
Принцип согласного действия государства и Церкви не есть только принцип исторического права, вытекающего из контрактов и законов, которые могут меняться в зависимости от эпох, – это принцип, вытекающий из святоотеческого учения о Церкви и государстве, это задание, поставленное человеческому обществу свыше для его блага.
Сфера Церкви – вся Вселенная; как дерево, посаженное рукой Божьей (горчичное зерно. – Мф.13:31), Церковь должна объять всю землю, все народы должны получить защиту от ее ветвей; ее закон должен царствовать над всеми народами (Мф.16:15). Государство имеет партикуляристские основания, выражаемые в законах социального и политического порядка. В отличие от множественности государств с соответствующими устройствами Церковь в основе своей едина и неизменна; если бы государство не ставило в качестве конечной цели стремление к вечному счастью человека (общества) и не имело в планах стремления к Истине (Божественной Премудрости), то государство и Церковь были бы полностью изолированы друг от друга.
Эта изоляция может преодолеваться только в отношении к человеку и через попечение о человеке как венце творения Бога. В руках государства – меч, поражающий физически, у Церкви – меч Божественного слова, «проникающий» до разделения духа и тела, ибо слово Божие живо и действенно и острее всякого меча обоюдоостро: оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные (Евр.4:12). Таким образом, понятие цели дает общие вехи распределения полномочий во взаимодействии государства и Церкви.
Государство призывается содействовать Церкви в ее заботе о том, чтобы знание не сходило с основ веры и нравственности. Церковь призывается не только хранить истину, но и освящать мир людской и человека посредством таинств в отправлении культовых действ. Это право Церкви, основанное на ее Божественном полномочии, и потому она не может зависеть от согласия и одобрения государства. Эти права Церковь строго охраняла и каноническому нигилизму цезарепапистской теории противопоставляла учение о Божественной основе своих прав, которое разработано в трудах русских канонистов1180: епископа Иоанна Смоленского, митрополита Филарета, Т. Барсова, Н. Остроумова и других, конечно же, и Патриарха Никона, явившегося, если и не канонистом-систематиком, то прекрасным знатоком, ревностным защитником канонов, устраивающим всю жизнь в соответствии с их духом и буквой1181.
Христианское государство принимает Церковь Христову со всем ее вероучением и нравоучением как обязательный принцип. Отстаивая права и обосновывая их, Святейший Патриарх Никон посвящает экклезиологическим, церковно-государственным вопросам (в том числе с учетом эсхатологических, сотериологических, апостасийных аспектов) большую часть своего «Возражения…» (см., в частности, л. 450–1039 и др.), всячески подчеркивая, что властвование этатистских элементов должно быть служением на пользу Церкви, основываясь на догматической и святоотеческой экклезиологической традиции: ина убо власть царю и ина архиерею, но едина другой преболе, архиерейство, глаголю, царства, якоже небо земли болши и честнейши есть, яко выше в молитвах поставления явлено есть. Архиерей убо подобник Божий и на престоле Божии седит. Царь ни в чтецы, ни в поддиаконы, ни во диаконы, ни во презвитеры, ни во архиереи не ставлен есть, но на царьство мира сего помазан есть. И еже дарова ему власть Бог чрез архиерейское благословение, послушай. Поставляемому царю преклоншу главу и Патриарх возложит на верх главы его руку (л. 374) и глаголет молитву во услышание всем.
Сообразно различным природам – духовной и мирской – устанавливаются и власть, обладателями которой являются священствующие во главе с Предстоятелем, и власть государственная во главе с царствующим; соответственно этому определяются их права и обязанности, которые в самой общей части своей относятся к независимости, схожи и не противостоят друг другу: Ведати подобает, яко не вредит закон царьский ни в чем закону духовному, понеже в вещех духовных воля царская не имать быти выше закона духовнаго, ниже что пристойнаго в Церкви царь того проуставляти или властелствовати имать. Такожде разумети должно и о архиереох и о правилех духовных, (л. 393) яже повелевают содержати и предстрегати законов царьских, ибо един единаго законы подтверждают, никто же имать правилам церковным и законом царьским и отец святых учению противитися или отвещати что. От сего разумети можеши, яко в коегождо от них уразумети, но и паче что яко душевному избавлению в вещех духовных належащих, в сих архиерей великий вышши царя.
Два меча (л. 386об.) владычествовати, иже есть духовный и мирский во представителство людей своих Господь Христос в Церкви утвердил, от них же архиерей духовный, царь же мирский… Аще которые архиереови не хощут быти послушны от царя, в послушание имут быти принуждени, такожде убо от архиерея, которыя бы царя послушати не восхотели, идеже употребление будет, а сия меча суть владычества и суды двоякия, духовныя и мирския, убо яко мечем мирским казнь имут злодеи. Такожде духовным мечем души грешныя бывают удержани, ту бы кто могл промышляти, аще владычества духовное и мирское теми двема (л. 387) мечами содержится, который убо от них выщий и достойнейший. Едини разумевают тако, иже бы царь выщи был, неже архиерей, тыя сумнения своего тако подкрепляют. Первее. Яко господьство ни от кого инаго не походит, токмо от Господа Бога. Второе. Егда бы архиерей имел быти выщи, нежели царь, тогда бы и начатки шли от него до архиереа, чего не бывает. Над сими же царь во время дар победы от церкви емлет, а не архиерей. До сего и то прииде, яко цареви дан есть меч предстателство закона, правды, вдов и сирот, им же и судити всякия вещи может, чего архиереови не благоизволено. Якоже слышим о святем Петре, ему же Избавитель рек: (л. 387об.) Вложи меч твой в место его, хотяще всем показати, дабы со властию мира сего не общался и сим помышления своего тощно ограждают. Противу сего суть нецыи тако утверждают, яко архиерей выщи есть, неже царь. И тое убо толкуют сице, яко Господь Бог архиерею великому даде обое владычество и мира сего и духовную судитися в том, яко Господь Иисус Христос святым апостолом рек: аще кого свяжете на земли, будет связан на небесех. И сие восхоте распространити на вси тыя наместники. И глаголаша же, яко архиереови дана есть власть на небеси, яже есть достойнейша, нежели мира сего. Се уже известнейше архиерей вышшим имать быти (л. 388) над сими же, яко архиерей во время и меча и суда мирских потребует, может то творити, что царь обыкл творити, творит бо законы православными. Еще же к тому сице, еже царя архиерей поставляет и мощен его и вязати по заповедем Божиим, аще бо священницы, им же царие исповедуют греси своя и наричют их отцем духовным, могут и вязати, колми паче архиерей великий, иже над священником, царевым отцем духовным, власть имея, должне есть царя вязати и решити. Царь убо при помазании на царьство должен есть исповедатися, правду разпространяти, неправду же сокрушати, но отложити сопротивление, со обою страну служащее, буди ведати, како тое (л. 388об.) противное совопрошение разрешити, иже в вещех духовных во славу Божию подлежащих, архиерей есть вышши нежели царь. Тако бо суд духовный содержит, но в тех, яже в заступлении мира сего належат, не менее до службы Божией прилежат, между же собою противления не имут. Обаче архиерей в суде мирском пристяжание имать для лучшаго исправления и в пристойных вещех. Царь же не к тому в церковных и священных правлениих, якоже выше есть писано, ибо естли царь не творит ему пристойнаго в Божественных законех, такожде и архиерею возможно быти противу его запрещати, не яко противу царя, но яко противу изступленнаго от закона.
Архиереи и священники, призванные хранить закон духовный и оберегать его, обладают и соответствующими правами, данными от Бога, – вести ко спасению верующих во Христа людей, в связи с чем кийждо человек православный Патриарху в послушание повинен, понеже он есть отец наш в вере православней, ему же вверена Православная Церковь… (л. 393об.), принимая от священника прещения за свои грехи для скорейшего исцеления, совершенствования и наследования Небесного Царства. Проявляя истинное человеколюбие и душепопечение, священник помогает очиститься от греха, за который при нераскаянии в здешнем мире человек понесет суровое наказание от Судии мира.
Помогая людям врачеваниями духовными в деле спасения, пастырь и сам угождает Богу, а нерадивый и ленивый осуждается, говорит в своем «Духовном завещании» Святейший на л. 486 (см. в ч. III наст. трехтомника).
***
Если не краеугольным камнем, то важным вопросом во взаимоотношениях государства и Церкви является имущественный вопрос1182. Патриарх Никон подробно останавливается на нем, он рассматривает понятие о церковных имуществах и доказывает неотъемлемость имуществ от Церкви, прибегая к примерам и свидетельствам и Священного Писания, и пpeдaния, и истории. Обращаясь к примеру боголюбцев, Патриарх Никон находит достойные подражания образцы в лице Константина Великого, Юстиниана, Владимира Великого и более близкий пример Филарета Никитича и Михаила Феодоровича и в заключение говорит: Такожде и христолюбивыя их Царицы и благоверныя Княгини усердне в похвалу свою лапотную утварь и всякую нарочитую казнь и светлыя ризы, злато же и камение драгое, и великий жемчуг и святыя иконы и Евангелия, и царьскими сосуды престолы украсивше, обогатили паче тех, от кого сия прияли суть, внимающе писанию апостолских правил.
Так смотрит на это и сама Церковь: она во многих правилах оберегает церковное имущество как неотъемлемое. Много доказательств приводит Патриарх Никон в подтверждение такого взгляда, особенно обращает внимание на правило VI Вселенского собора, которое гласит: Яже суть к монастырю имения, да будут неотъемлема без вины. Сама цель и назначение церковных имуществ так высоки, что ни у кого не должны были бы подниматься руки на отъятие их: Церковное богатство нищих и убогих есть богатство, еже сим издовляти весь освященный чин и вся причетники церковныя и возраста ради сирот, и в старости пришедшим, и в немощи, и в недуги впадших, нищим в прекормление и многоубогия чады, и странным в прилежание, и убогим сиротам в промышление, вдовицам же пocoбиe, девицам потребы, обидимым заступление, пленным искупление, во гладе прекормление, церквам пустым и монастырем подъятие, живым прибежище и утешение, а мертвым память. Поэтому и сам Бог жестоко отмщает всякое поползновение завладеть имуществами.
Кем же являлся Патриарх во взаимоотношениях со светской властью?
Патриарх Никон был весьма высокого мнения о миссии духовенства вообще: Священник да будет по священному слову свет миpy, соль земли, око слепых, врач больных, заблудившихся обращаяй и стоящих утверждаяй. Патриарх по самой высоте своего сана должен быть таким по преимуществу. Поэтому все бедные, угнетенные, приниженные и несчастные находятся под его покровительством, помогать всем им – его прямая обязанность. Царствуй истины ради и кротости…. помогая немощным и безсилным … а что о правде говорили, – пишет он в грамоте Патриарху Дионисию, – и бедных от бед избавляли, и то мы архиереи на сие поставляемся.
В этой области Патриарх по необходимости сталкивается со светской властью, так как нередко несчастья происходят от несправедливости, недосмотра ее органов. Его обязанность – бороться против всякой неправды, против злоупотребления властью: Препояши оружие твое по бедре твоей, сильне, сиречь меч твой по бедре твоей, и борися с мучителем. Это завет самого Христа: Нам же Христос Бог наш Собою узаконоположи… обличати, – пишет Патриарх Никон. Святейший может обличать за неправду даже самого Царя: Досаждати Цареви, или князю всем возбранено есть, а не apxиepeoм, обличати же по достоянию несть возбранено, аще и обличения словеса люта зело… по правде кто обличает Царя несть муки достоин. Даже больше: глаголати о видениях Божиих пред Царем, не стыдяся, – прямая обязанность Патриарха. И Царь не должен на это гневаться, а должен смотреть на это как на прямую обязанность Патриарха, его долг: О истине кто еще к Царю глаголет, не подобает ему гневатися или отмщати самому себе, или обидети.
Стремясь вполне прочно утвердить это право за Патриархом, Святейший Никон признавал личность Патриарха неприкосновенной, не подлежащей суду Царя ни при каких обстоятельствах, поэтому он с такой силой протестовал против царского приказания провести в его палатах обыск: Дивлюсь, как ты скоро дошел до такого дерзновения? – писал он Царю. – Прежде ты боялся произнести суд над простым причетником, а теперь захотел видети гpеxи и тайны того, кто был пастырем всего миpa, и не только сам видети, но и мирским объявити. Вскую наше ныне судится от неправедных, а не от святых.
Таковы должны быть взаимные отношения власти Царя и Патpиapxa. Так как всякого рода попытка нарушить эти отношения есть «презорство», «насильство», «лихоимство», «любодейство», «гонение» против Церкви, Царства Божия, то величайшие наказания ожидают виновных в том. Для отмщения таких действий есть свыше Царь царем и Господь господем, иже oбещался всякую неправду неправедником и насилующим отмстити вскоре, якоже и прежде гордящим и превозносящимся над Божиим достоянием и наследием множицею мстил есть Бог, якоже Фараону, Моаву, Гевалу, Аммону в потоце Киссове и Ассуру, Мадиаму и Cacapе и Авиму, и Амалику, и Ориву, Изиву, Изевею и Салмону, Дафану и Авирону, Навуходоносору, царю Вавилонскому, неправедне судившему Даниила пророка и трех отроков, и Валтасару, глумящемуся в святых сосудех, и Саулу, пожирателю скверн, и Озии, не преподобне кадящему, и Ахаву пророкоубийце и гонителю, Ироду, Понтийскому Пилату, архиереом и старцом жидовским и прочим святых пророков и святых апостол и всех святых неправосудцам, гонителем и убийцам – Максентию, Юлиану законопреступнику, Валенту. Участь всех этих презорцев ожидает теперь всякого поступающего подобно им, всякого осмеливающегося поднять руку на права Церкви и ее достояние. Bсe таковые каким же судом судят, тем и осудятся. Их ожидает участь «горше паче Содомлян и Гоморрян».
Таковы взгляды Святейшего Патриарха Никона на значение патриаршей власти1183.
V. Антропологические и нравоучительные воззрения Патриарха Никона
Создание человека по образу Божьему является фундаментальным положением православной антропологии1184. Православное сознание всегда сохраняло убежденность в неуничтожимости образа Божия в человеке, его реальности и действительности даже в падшей человеческой природе.
Антропологическая керигма отцов Церкви говорит о том, что образ – это вовсе не регулирующая, или не инструментальная, идея, но определяющий принцип человеческого существа1185. В связи с этим весьма важной является тема образа и подобия в святоотеческой литературе1186. В Предании существуют различные понимания образа Божия в человеке: образ Божий в человеческой душе, точнее, в уме, в свободной воле человека. Проводится различие между образом и подобием: образ – то, что было дано человеку в самый момент его сотворения, подобие есть уподобление Богу, которого должен достичь человек в результате нравственного совершенствования и доброделания; в особом высшем положении, которое занимает человек среди творений во вселенной; в бессмертии человека; в его творческой силе. Святоотеческие антропологические взгляды емко выражает Иоанн Дамаскин1187.
Существует также идея, не имеющая корней в эллинистической традиции, – понятие о человеческой личности как образе Божественной Троицы. Эту мысль развивал Григорий Нисский, усматривая три аспекта тринитарной интерпретации образа Божия: первая человеческая семья – Адам, Ева и их сын – есть образ Отца, Духа и Сына; духовная часть человека состоит из души, слова и ума, что соответствует трем ипостасям Пресвятой Троицы; три силы души (разумная, желательная и раздражительная) символизируют Святую Троицу1188.
Патриарх Никон, базируясь на святоотеческой традиции, в своих антропологических взглядах основывается на принципах христоцентризма и экклезиологии: Вы же есте тело Христово и уды от части. Не тело бо токмо, рече, но и уды есмы… многих воедино собирая и показуя всех едино нечто по телеси образу бывших и едино сие многими составляемо, и во многих сущее, многая от сего содержащияся и могущая быти (л. 127об.) сиречь яко церковь яже в вас, часть есть повсюду лежащия церкве и тела всяческими состоящимися церквами. Тем же не токмо с собою, но и со всею сущею по Вселенней Церковию мир имейте, да бысте были праведни, аще есте уды всего тела.
Но наиболее важным для Патриарха Никона является исповедание Христа в любви. Так как Бог проявляет Себя человеку в любви, жертвуя Собой ради спасения через любовь, так и все должны уподобиться Ему, совершенствуясь, становясь человеколюбивыми, чтобы быть «образом Божиим» и, наконец, обожиться: (л. 167)… Составляет же свою любовь в нас Бог, яко и еще грешником сущем нам, Христос о нас умре. Бывайте же подобни Богу яко чада Божия, и ходите в любви, якоже и Христос возлюби нас и Себе предаст за ны, приношение и жертву Богови.
Нужно особо отметить, что тема любви, Божественной любви, стремление к уподоблению Богу в любви со стороны человека есть одна из самых важных тем в рассуждениях Патриарха Никона. Любовь есть то основание, на котором осуществляется связь человека и Бога, человека и человека в видении Божественного образа и почитании Его, в проявлении, исповедании любви человека и группы (Церкви как собора людей), а в ней и вселенской полноты, т.е. Церкви. Вот это последнее – вселенское проявление и свидетельство любви – есть не что иное, как Христос, который есть и глава Церкви, и сама Церковь в единстве ее членов, которые есть образы и Церкви, и Христа в любви о распятом и воскресшем Христе: Любовь не весть достояния лиц разсуждати, ибо воистину любовь подобна есть солнечному просвещению во вся концы земли достизающу: любви начало, бытие и конец Христово пришествие.
Такие высказывания Патриарха Никона сближают его учение с традиционными взглядами восточных Отцов. Согласно Дионисию Ареопагиту, «обожение есть, насколько возможно, уподобление Богу и единение с Ним». Скорее всего, что Патриарх Никон близок к отождествлению подобия Божия в человеке с обожением – мистическим единением человека и Бога:… Всяк рожденный от Бога греха не творит, яко семя1189 Его в нем пребывает, и не может согрешати, яко от Бога родися. Сего ради явлена суть чада Божии и чада диаволска… Возлюблении, возлюбим (л. 168) друг друга, яко любы от Бога есть. И всяк любяй от Бога рожден есть и разумеет Бога, а не любяй, не позна Бога, яко Бог любы есть. Возлюбленнии, аще сице возлюбил есть нас Бог, и мы должни есмы друг друга любити. Бога никто же нигде же виде, аще любим друг, Бог в нас пребывает и любы Его совершенна есть в нас. Бог любы есть, и пребываяй в любви, в Бозе пребывает, и Бог в нем пребывает (также см. в «Возражении или Разорении…» л. 266, 302об.).
Образ Божий в человеке есть некоторый залог, данный в момент сотворения, который необходимо не только сохранить, но раскрыть, проявив всю полноту этого образа в исповедании, стяжании любви, которая есть и свидетельство обожения.
С антропологической темой тесно связаны нравственно-аскетические и мистические воззрения Святейшего Патриарха Никона1190.
Преображение тварного мира начинается с преображения человеческой личности. Последнее же возможно в случае осознания человеком своего греха, принесения покаяния в нем и стремления избавиться от него: (л. 299) Яко подобает веровавшим Богови первее каятися по проповеди Иоаннове и самаго Господа нашего Иисуса Христа, горше бо от иже прежде благовестия осужденных иже ныне не кающийся (Мф.8:42; Лк.70; 1Кор.144)1191; (л. 169)… Ныне же вместо послушания преслушание и отметание и досаду творят. И вместо повиновения и покорения неповиновение и укорение и изгнание, и вместо правды неправду, вместо братолюбия ненавидение… (л. 177об.)… аще не покаетеся, вси такожде погибнете. Или о богатстве благости Его и пождании и долготерпении не радиши, не ведый, яко благость Божия на покаяние тя ведет. По жесточеству же твоему и по непокаянному сердцу, щадиши себе гнев в день гнева и откровения праведнаго суда Божия, иже воздаст коемуждо по делом его, что будет свидетельствоваться совершением добрых дел и постоянным хранением мысли и обращения к Богу.
Свои мысли Патриарх Никон подтверждает цитированием Священного Писания: (л. 316) Яко делание греха отчуждает от Бога и присвояет диаволу (Ин.31:32)… (л. 313) Яко кончина греху – смерть (Ин.11; Рим.93)… (л. 314) Яко кончина заповеди Божия – жизнь вечная (Ин.33:43; Рим.93)1192; (л. 164) Кто чинит добрыя дела, не боится никогда, без страха великаго, чтоб боятися закона, но кто злое дело делает, трепещет и страшится велми оправдания праведнаго… (л. 165)… и ныне в мори жития сего плавающии, аще не призовем Христа, окормителя душ наших любовию и единением духа, по писаному: Возлюбим друг друга, да единомыслием исповемы. Тишины духа и спасеныя жизни никако же получим1193.
Вся ветхозаветная история свидетельствует, что причина несчастий заключена в грехах человеческих.
Согрешения же Каинова седмь. Первое – зависть, еже позавиде брату своему Авелю в добродетелех, зане принесе Богу дары от первородных своих овец, Каин же от других, доброе же себе, а не Богу. Еже и ныне беззаконный закон, его беззаконницы держат, хуждшее Богу приносят, а лучшее себе употребляют. Тем же священник молится, глаголя: Твоя от твоих Тебе приносяще о всех и за вся. Ныне же не глаголют, еже Твоя от твоих Тебе приносим, но мое Тебе приношу, и о сем (л. 422) раскаиваются. Второе – лесть, с нею же веща брату рек, изыдеве на поле. Сице и ныне благотворящих прелщают и отводят от себе. Третие – убийство, прилог злобе, еже и ныне закон убийства держится, оттоле поченшися. Четвертое – яко братоубийца. Господу свидетелствующу: Предаст брат брата на смерть. Пятое – яко первый убийца и лукавству показатель всем живущим на земли, еже и доднесь от такова лукавства не престает человеческий род. Шестое – яко родителем плач сотвори. И оттоле мнози и ныне родители плачют, чад своих лишаеми (л. 422об.) от неправедных убийц. Седмое – яко Богу солга. Вопрошен бысть, где есть брат твой Авель, и рече, не вем. Тако и ныне, в них же согрешают человецы в божественных и глаголют, не ведая, но Бог тех ведущих множае имать мучити, не ведущих же не толико, но и те без муки не будут. Сия убо седмь согрешений от Каина прозябшии и доныне в роде сем лукавнем и грешнем пребывают в человецех.
А яже седмь мук Каиновых, сия суть. Первое – проклята земля от Тебе. Второе – делати землю. Третие – и не приложит дати тебе крепость Свою. Четвертое – (л. 423) стенание. Пятое – трясновение, и будеши, рече, трясыйся на земли. Шестое – юже сам Каин открыв, рек: аще отженеши мя ныне от Тебе, и от лица Твоего скрыюся. Тяжчайшая мука, еже от Бога разлучение. Седмое – еже не укрытися мучения, но знамение проявлено всем проповедати стонания ради и трепета.
И сих ради двоих вин жертвы неправедныя и зависти вся злая вниде в мир даже и доднесь. Коея ради неправды первый мир погибе потопом и коих ради добродетелей Ной сам есмь спасеся, аще не дары и приношенми лучшими и не раскаяйными. И первый от Бога завет прият, (л. 423об.) на небеси знамение дугу поставлену, еже к тому не быти потопу, и по первем праотцы Адаме вторый всему человеческому роду отец наречеся. Такожде и Авраам, праотец наш, не дароношения ли ради угоди Богу, обетование прият и сына своего Исаака единороднаго возлюбленнаго вознесе Господеви на всеплодие. И не усумнеся и вместо единаго яко звезды небесныя и яко песок морский умножи сыны тому Бог. Древнему же писанию, глаголющу: всяк обет, иже обещавает человек Господу от всего, елико ему есть. От человека и до скота, и от нив одержания его, и не отдаст, ниже (л. 424) искупит всякаго обета, святая бо святых, рече, будет Господу и от всякаго обета, иже обещавает человек, смертию да умрет. И паки: Аще обещаеши обещание Господу Богу твоему, да не умедлиши воздати его, яко взыща взыщет его Господь Бог твой от Тебе, и будет на тебе грех. Исходящая от уст твоих снабди и сотвори, им же обещася Господу Богу твоему дар, еже еси глаголал устнама твоима. Не приемли бо, рече, имени Господа Бога твоего всуе, не очистит бо Господь прилагающих имя Его втуне. И паки: яко аще обещаваеши обет Богу, не умедли его отдати, яко несть (л. 424об.) хотение твое безумно, ты бо елико обещався, отдаждь. Благо, еже не обещатися, нежели обещатися, не отдати. Не дай же устен своих согрешити плоти своей, да не речеши пред лицем Божиим, яко невидима суть, да не прогневается Господь о глаголе твоем и погубит дело рук твоих, и обрящешися лжа перед Господем Богом твоим. Видели… коль страшно, и что бысть Ахару сыну Хармиеву, еже взят от возложенных Богу мало нечто, на весь Израиль гнев Божий бысть. Отпустил фараон царь Египецкий (л. 425) люди Божия Израиля, паки хотя возвратити, в мори потоплен бысть со всем воинством. Восхоте Амалик Израилю противу стати, в пустыни поражен бысть. Взыде Сусаким царь Египецкий на Иерусалим взяти сокровища святыя церкви, и порази его Господь. Взыде Сенахирим царь Асирийский взяти святая, и поругася святому Сиону, и порази ангел 185 тысящ. Взят Навуходоносор царь Вавилонский сосуды от святыя церкви, от царства изгнася и со зверми седмь лет пасяся. Взят Валтасар царь Вавилонский святыя сосуды в свою потребу, в ту нощь смертию умре, и царство Вавилонское скончася. (л. 425об.) Взыде Антиох царь на Иерусалим взяти церковное богатство, лютою смертию скончася, сам о себе свидетелствова, яко того ради умре. Взят Ахаз царь казну церковную и отдаде Асирийскому царю, и не бысть во благо, но паче гнев Божий умножи на ся. Сказа Финикийский воевода Асирийскому царю о богатстве церковнем, лютою язвою поражен. Дерзну Менелай церковное богатство взяти, жив червми снеден, умре. Филопатор царь Антиохийский вниде в церковь, люто поражен, скончася. Господу глаголющу: аще убо принесеши дар свой ко олтарю (л. 426).
Покаяние же отвращает гнев Божий как от одного человека, так и от целого народа.
По мнению Патриарха Никона, гнев Божий и наказания, посылаемые за грехи, соответствуют мере людской греховности. Причина всех нестроений и бед – грехи, различные по степени тяжести, качеству, поэтому необходимо делать нравственные выводы, обращаясь внутрь себя, и вспоминать о своих грехах: Ты же которыя от сих плоды в себе носиши? Не все ли противныя, по писаному: или сотвориши древо добро, и плод его добр, или сотвориши древо зло, и плод его зол. Тако и твое дело явлено есть, от дел и глагол уст твоих. Святый Бог да возмерит в день судный противу твоих беззаконных смыслов и (л. 198об.)… не бывайте несмыслени, но разумевающе, что есть воля Божия. И паки: в премудрости ходите ко внешним время искупующе. И паки: молю, (помета: к Рим.108) убо вы, братие, щедротами Божиими представите телеса ваша, жертву живу, святу, благоугодну Богови. Словесное служение ваше и не сообразуйтеся веку сему, но преобразуйтеся обновлением ума вашего, воеже искушати вам, что есть воля Божия благая и угодная и совершенная1194.
Греховность душевная напрямую связана с греховностью плотской, которая есть самое мерзкое и низкое, которая уподобляет человека скоту, вводит его в скотское состояние: Но и паче вслед плотския похоти сквернения ходящии и о Господе не радящыя, продерзателие, себе угодныя, славы не трепещут, хуляще, идеже ангели крепостию и силою болши суще, не терпят на ся укоризнен суд. Сии же, яко скоти животни естеством бывше, погибель и тлю, в них же не разумеют хуляще, во истлении своем истлеют. Приемлюще мзду неправедну, сласть мняще вседневное насыщение, сквернители и порочницы, питающеся лестми своими, очи имуще исполнь блудодеяния (л. 268об.) и непрестаемаго греха: прелщающе души неутверждены, сердце научено лихоимству имуще, клятвы чада, оставлши правый путь заблудиша, последоваша пути Валаамову Восорова, иже мзду неправедну возлюби, обличение же име своего беззакония. Подъяремник безгласен, человеческим глаголом провещавшим, возбрани пророка безумие. Сии суть источницы безводни, облацы и мглы, от ветр преносимы. Им же мрак темный во веки блюдется. Прегордыя, суеты вещающе, прелщают в скверны похоти плотския, отбегающе их отнюд, живущих во лсти, свободу обещавающе, сами раби суще тления, (л. 269) им же бо кто побежден бывает, сему и работен есть1195.
Противоположное состояние у тех, которые повергают свой грех. Святейший Патриарх Никон их сравнивает с царями – людьми, способными подчинять, повелевать и управлять: Цари (помета: Апокалип. гл.5) тогда бываем, егда владеем страстми телес наших, когда приносим вся чювствия наша. Убо Епикур безумно (л. 275об.) отрядил, что человек не может терпения поносить и временныя помешки. Наипаче же философ тогда есть, когда терпение понесет и не подобает архиереем такия снасти мучителныя имети. А ино делаючи, услышат Христово прещение: возврати меч свой в недра своя. Вси бо, которыя приимаются за меч, от меча погибают. Мирскому князю дано препоясатися мечем, а не человеку священному. Таким образом, все творящие заповеди Иисуса Христа истинно исповедуют Его в добродетелях, являются светом в дольнем мире.
Говоря о покаянии, Патриарх Никон упоминает и о том, что необходимо творить и достойные, праведные дела: Творяй правду праведник есть, якоже он праведен есть. Творяй грех от неприязни есть, яко от исперва (л. 302об.) неприязнь согрешает. Сего ради явися Сын Божий да разрушит дела неприязненна. Всяк рожденный от Бога греха не творит, яко семя Его в нем пребывает, и не может согрешати, яко от Бога родися. Сего ради явлена суть чада Божия и чада диаволска… О сем разумеваем дух истинный и дух лстеч, которые выражаются и в милосердии по отношению к ближним:… колми паче сущия под ними причетники миловати и даяти им потребная должни суть. Сего же (л. 216) не творящии да отлучатся, пребывающии же неисправлени да извергнутся, понеже сами быша братоубийцы, ибо, не имея потребных на составление живота, умирает, аще убо и не умре он, отинуду Божественому промышлению, даровавшему ему потребная животу1196.
Патриарх Никон уделяет много внимания и добродетелям: плод (помета: Мф.22; Ефес.224) бо духовный есть во всякой благостыни и правде и истине, искушающе, (л. 283об.) что есть благоугодно Богови. И паки: Плод (помета: Ефес.229) духовный есть любы, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. И по мале. Аще живем духом, духом и да ходим. Не бываим тщеславни, друг друга раздражающе, друг друга завидяще. Именно эти добродетели, духовное трезвение и любовь друг ко другу необходимо постоянно в себе взогревать, чтобы не стать богопротивниками.
Важны также темы проповедничества, учительства, осмысленности всякого духовного явления и действия, которое должно быть всегда правоправно, истинно, согласовано с духом закона1197. Сообразно данному важной является и мера ответственности творящих беззаконие1198. Суд и осуждение – удел Божий, а не любого человека1199, который и подобным дерзновением уже нарушает заповедь Его. Основание этого действия, как и влечения ко греху, Патриарх Никон видит в страсти самолюбия и гордости: Страшно есть страсть самолюбства и проклята гордость та притчею и родит такие дела, ими же убо, чево сам изыскивал и терпи хотя. (л. 160) Да которое самолюбство, еже вся злая терпети заповеди ради Божия. Тако (Лк.25) есть писано: хотящему судитися с тобою и ризу твою взяти от Тебе, не возбрани ему и срачицу. Имеет (Кор.134) ли кто вещь, имея ко иному судитися от неправедных, а не от святых. Се убо срам вам есть, яко тяжбы имате между собою, почто не паче обидими есте, почто не паче лишени бываете. Рабу же Господню не подобает сваритися, но тиху быти ко всем. Аще (Гал.212) ли друг друга хаплете и снедаете, блюдитеся, да не друг от друга снедени будете. Но (Рим.114) се судите паче, не полагати претыкания брату в соблазн.
Рассматривая систему нравственного учения Святейшего Патриарха Никона1200 как составную часть святоотеческой традиции, вслед за ним выделим основные его мысли, разделяя на добродетели по отношению:
к Богу:
(л. 307)… почитати и славити Бога, иже волю Его делаяй. Обезчещает же преступаяй Того закон (Ин.56; Мф.11; Фил.236);
(л. 308) аще и мнит кто исповедати Господа и слышати слово Его, не покоряет же ся заповедем Его, осудися, аще и в дарованиих духовных некоего строения ради будет прощаем (Мф.23; Лк.28; Тит.301; Як.53);
(л. 310) иже о малых не веруяй Богови явлен есть много первее о лучших не веровав (Ин.8; Лк.81);
(л. 311) не подобает небрещи влагающих разум со вниманием Господняя словеса слышащему внимати и творити хотения Его (Мф.61:51; Мк.29; Ефес.229; Лк.68);
(л. 334) подобает христианину не боятися и подвизатися во обстоянии, ниже возвышатися о еже на Бога уповании, дерзати ж, яко Господу предстоящу и яже о нем устрояющу и Святому Духу учащу и, даже до ответа еже к сопротивным (Мф.37; Лк.64; Мк.18; Деян.14; 2Кор.168);
(л. 303) не достоит преданиом человеческим последовати и отметати заповеди Божия; (л. 389) подобает учительство заповедей Господних сице приимати, яко живот вечный и Царствие Небесное, и усердно делати тыя, аще и болезнь быти мнится (Ин.45; Деян.35); (л. 348) подобает врученным проповеди евангелстей с молением и молитвою приседети, аще диаконом, аще пресвитером, неповинным и искушенным перваго жития (Мф.34; Лк.23:50; Деян.1:2; 1Тим.283; Тит.300);
Слышели, коликая дарования архиереи имут от благодати Святаго Духа, яже священное слово показа, яко архиереи подобники Божия. (л. 361)… Иже чтит иерея, чтит вышняго Бога, понеже иерейская честь на Бога восходит. Да аще убо тако к простым иереом завещание и повиновение подобает соблюдати, колми паче ко превозходящим честию, наипаче же сему ныне святопомазанному превысокому Патриарху, отцем отцу и крайнему святителю. Его же сан святительства не точию зде, но и в самом небеси мощен есть по божественному Спасову речению: иже бо аще свяжете, рече, на земли, связан будет на небеси, а иже разрешите на земли, на небеси разрешено будет. (л. 361об.) И да никто же, речет, яко ко апостолом единем сия речена суть, но и ко всем, хотящим быти преемником сих, иже убо от апостол и доныне хранимо и соблюдаемо ненаветно в православных, ему же милостивый Христе буди и соблюдатися и хранитися и до втораго Твоего и страшнаго пришествия, паче же и молю соблюдатися сему непременно и до скончания века1201. В связи с этим Патриарх обращает особое внимание на то, что, когда вера Евангельская начала сиять, тогда и архиерейство почиталось, и мир украшался и величием созидался. Утрата же веры, забвение ее основ ведет к истощению величия и славы народной, восстановление же возможно… И вновь подчеркивает: архиерейство превыше царства есть…
к самому себе и ближним
(л. 322) не достоит первее себе исправляти якоже любаго согрешения и потом обличати или судити (Мф.20; Ин.28; Лк.27; Рим.81);
(л. 326) достоит вовремя удалятися наветующих, попустивый бо впасти во искушение извод сотворити, иже волю Божию молитвою просити (Мф.9, 8, 10, 35, 37; Лк.14; Ин.8; 1Кор.145, 194; Деян.17, 22, 29, 38, 33:18. 1Тим.287:295);
(л. 331) не подобает себе смиряти во искушения прежде времене от Бога прощенаго, но молитися не внити во искушение (Мф.17; Ин.25; Лк.109);
(л. 333) подобает христианину во искушениих от коегождо наводимых ему поминати, иже в богодухновеннем Писании к предлежащему реченое, сице неискушена себе блюсти и сопротивныя упражняти;
(л. 335об.) подобает радоватися всякому спострадающему даже до смерти имени ради Божия и заповеди Его (2Кор.168; Мф.10; Лк.24; Деян.15; 1Кор.251);
(л. 337) не достоит оставляти о благочестии подвизающияся (Ин.55; 2Тим.291, 299; Мф.61, 106:10; Лк.25:107; Рим.81, 111, 110; 1Кор.134, 256, 288; 2Кор.196, 181, 197; Ефес.227, 224; Кол.257; 1Тим.279, 283, 287; 2Тим.295; Тит.302, 301, 202; Гал.213; Фил.239, 247; Евр.333);
(л. 351) не достоит у рукоположенних благоудобном быти, ниже непокровенне на та приходити, не бо безбедно есть неискусное, водящаго же ся о нечесом явлевати, да ниже той причастится греху, ниже прочии отсечени будут, но паче боятися навыкнут (1Тим.287:286);
(л. 354об.) не достоит инаго учити (Ин.36);
(л. 355) подобает вся предвчиненная от Бога в Евангелии и от апостол учити веровавшая и елика сим последующая (Мф.116);
(л. 388) иже не покаряются иже от Господа посланным, но досаждают, не даже до сего стают, но возводят на пославшаго их и суд себе горший паче содомлян и гоморян содевают (Мф.35; Лк.51);
(л. 390) подобает обличение и запрещение сице приимати, яко лечбу чистителну страстем и здравие соделовающу. Отнюду ж яве иже страстию человекоугодия доволне одержимии и не обличающе согрешающих, всячески оттщетеваются и в самую истинную жизнь наветуют (Мф.75; 1Кор.132; 2Кор.183)1202;
к государству и властям
От вышняго дарована человеколюбия Божия, священничество же и царство, ово убо божественным служа, се же человеческими владея и пекийся. От единаго же и тоегожде начала обоя происходят, человеческое украшающе житие. Якоже ничто же тако бывает поспешнее царству сего ради, якоже святительская честь, о обоих самех тех присно Богови молятся. Аще бо они непорочни будут во всем и к Богу имут дерзновение и праведней подобно украшати начнут (л. 281об.) преданыя им грады и сущая под ними, будет согласие некое благо все, еже добро человечестей даруя жизни. Сему быти веруем, аще священных правил блюдение сохранится. Их же праведно похваляемии и покланяемии самовидцы Божию слову предаша апостоли и святии отцы сохраниша и заповедаша.
Видели царьское правыя души произношение непорочных святых догмат лобзание и священства предпочитание и веры несуменныя глагол, все, еже рече, добро человечестей даруя жизни, сему быти веруем. И прочая.
Да на что болши войны кому царев гнев понести по святому Григорию Богослову… (л. 149об.) колик подвиг, колико тщание показует от великаго гнева… (л. 181об.) Царево (Притч.19:16, 24) прещение подобно рыканию лвову. И паки. Ярость царева посол есть смерти. Меч есть язык царев, а не плотян, иже аще предан будет, сокрушится. Аще раздражится ярость его с жилами, человеки губит и кости человеческия поядает и сожигает яко пламень. В долготерпении благоучение царево, язык же мягок сокрушает кости1203.
В двух последних разделах нравственные и социальные темы у Патриарха Никона довольно тесно переплетаются, поскольку нравственность каждого отдельного человека отражается в социальной жизни1204.
Весьма интересен перечень обязанностей, которые должен исполнять Царь – и как человек, и как правитель.
И ты, господине и сыну, боговенчанный православный Царь и Великий Князь Алексий Михайлович всеа России самодержец, имей страх Божий в сердцы и сохрани веру христианскую греческаго закона (л. 380об.) чисту и непоколебиму, и соблюди Царство свое чисто и непорочно, якоже ныне приял еси от Бога, и люби правду и милость и суд правый и к послушным милостивное. Ко святей же соборней Церкви и ко всем святым церквам имей веру и страх Божий и воздавай честь, понеже в ней, Царю, второе положен еси от святыя купели духовным своим порождением, и ко святым честным монастырем велию веру держи по данней ти от Бога царстей власти. К нашему же смирению и ко всем своим богомолцем о Святем Дусе царское свое духовное повиновение по Христову евангелскому словеси, ко святым Своим учеником и апостолом глаголющу: слушаяй вас, (л. 381) Мене слушает, а отметаяйся вас, Мене отметается, отметаяй Мене, отметается пославшаго Мя. И сего ради ведяще и се, елико кто честь воздает святителю, и та честь самому Христу восходит, от Него же и мзды приимут сторицею. Братию же свою по плоти, о благочестивый и боголюбивый Царю, люби и почитай по царскому своему союзу, по божественному апостолу: любяй бо, рече, брата своего, в Бозе пребывает и Бог в нем. Боляр же своих и велмож жалуй и береги по отечеству их, ко всем же князем и княжатам и детем боярским и ко всему христолюбивому воинству буди приступен и милостив и приветен (л. 381об.) по царскому своему сану и чину. Всех же православных християн блюди и жалуй и попечение имей о них от всего сердца. За обидимых же стой царски и мужески, не попускай и не давай обидети не по суду и не по правде. Се бо, о Царю, приял еси от Бога скифетро правити хоругви великаго царства Росиийскаго и разсудити и управити люди твоя в правду. Блюди и храни бодренно от дивиих волков губящих е, да не растлят стада Христовых словесных овец, от Бога данаго ти и врученаго содержати скифетро, по воли Его стой и по вашему исконному царскому жребию и отечеству того великаго Российскаго царства. (л. 382) И паки глаголю ти, боголюбивый Царь, блюди с Богом и храни, елика твоя царьская власть и сила содержит, покрываем Вышняго десницею и храним благодатию Святаго Духа от всех врагов твоих видимых и невидимых. Глаголет бо Господь пророком: Аз воздвигох тя, царя, с правдою и приях тя за руку и укрепих тя. Сего ради слышите, царие и князи, и разумейте, яко от Бога дана бысть держава вам и сила от Вышняго. И сего ради подобает приемше от Вышняго повеления правление человеческаго рода православным царем, не токмо о своих пещися и свое житие точию правити, но и все обладаемое от треволнения спасати и соблю(л. 382об.)дати стадо его от волков невредимо, и боятися серпа небеснаго, и не давати воли злотворящим человеком, иже душю с телом погубляющих, якоже бо солнцу на земле не сущу, темно суть все и не разсудно. Сице и наказанием души не сущи, размешено все, едина бо точию добродетель от стяжания безсмертна суть. И паки ти глаголю, о боговенчанный Царю, цело имей мудрование православным догматом, почитай излише Матере твою Церковь, яже о Святем Дусе тя воздои, да и сам будеши от нея, и священника стыдися, яко отца духовнаго, ходатая к Богу, честь бо священническая на Бога восходит, (л. 383) тако, иже на них безчестие, множае паче Бога прогневает. Языка же льстива и слуха суетна не приемли, Царю, ниже оболгателя слушай, ни злым человеком веры емли. Смотряй в себе, о боговенчанный Царю, яко всем человеком мудрость честнейши есть и всем тщателнейшим, вси бо ту яко благу похваляют. И любомудру ти быти подобает, или мудрым последовати, на них же воистину, яко на престоле, Бог почивает. Не тако красная мира вся, якоже добродетель красит царя, но зри доброту духовную и раздавай саны туне, а не дарех продавай власти, еже бо ценою купивый власть, (л. 383об.) множае паче обладаемыя купует, яко мздовозданию надеяся, ко мздоприятию без боязни зрит. Аще бо и неприступен еси Царю нижняго ради царства, но удобь приступен буди горняя ради власти, но имаши и сам Царя, иже на Небесех. Аще убо Он всеми печется яко Бог, сице потребно есть тебе, Царю, ничто же презирати. Тщися, о боговенчанный Царю, не точию сия царства исправити нравы благими, но и Небесная наследовати добродетелными благодеянми. И аще хощеши милостива имети себе Небеснаго Царя и Бога, милостив буди и ты, Царю, ко всем, да и зде добре и благо поживеши (л. 384) и царствуеши во веки веком добрым царским слухом зде, а тамо славою со ангелы Божиими прежде воскресения и страшнаго суда силою Творца и премудростию Искупителя и Духа Святаго благодатию. Возмогай, о благочестивый Царю, о Христе и паки возмогай, да и наследник будеши Небеснаго Царствия со всеми святыми православными цари, да возможеши со дерзновением рещи во второе пришествие Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа: се аз, Господи, и людие Твои, их же ми еси дал великаго Твоего царства Российскаго. И тогда, о благочестивый и боговенчанный Царю, и сам услыши сладкий он глас Небеснаго Царя и Бога: благий рабе, добрый и верный, (л. 384об.) Российстий Царю и Великий Князь Алексий Михайлович всеа России, мале Ми бысть верен, над многими тя поставлю. Вниди в радость Господа своего и тогда, Царю, внидеши во Царство Небесное со всеми святыми и приимеши неувядаемый славы венец, по божественному апостолу: их же око не виде и ухо не слыша, и на сердце человеку не взыде, яже уготова Бог любящим Его. И тогда, боговенчанный Царю, против своих царских подвиг и трудов приимеши от Бога мзду сторицею и начнеши царствовати со Христом в Небеснем Царствии, со ангелы и всеми святыми славити Бога, в Троицы певаемаго, и веселитися с ними в без(л. 385)конечныя веки. Буди же с тобою, боговенчанным и православным Царем, и нам получити Царство Небесное, благодатию и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с ним же Отцу купно и Святому Духу честь и поклонение ныне и присно и в веки веком. Аминь1205.
В данном аспекте весьма интересным становится завещание, которое оставляет после себя грядущему Царю и Великому Князю Царь Алексей Михайлович1206.
Проблемы, возникающие в обществе, часто коренятся в нравственности его членов: несовершенство любого гражданского общежития, общественного института и государственной системы в целом обусловлено общим духовно-нравственным и социокультурным состоянием человека и его противлению жизни по законам любви, сострадания, справедливости, доверия, гармонии1207.
Обращаясь к своей братии, всем последующим, Святейший завещает оберегаться: …
Яко да и сущии с вами по моем отшествии начнут хранитися… Якоже глаголет святый Ефрем, егда видим мирския человеки живших с женами и детьми и с ними пекущихся Царствию Небесному сподобивших; мы ж (л. 486об.) оставивше вся, сиречь, отца и матерь, жену и чада, и други любовныя, и весь мир, и яже в нем красная и славная, в скорбех и бедах пребывающа и с телесными страстьми, яко со львом и со змием борющеся день и нощь, и малаго ради нашего небрежения, и слабости, и преслушания, со блудники и с мытари, и с грешники, осуждени будем. Се же все страждем от многаго неразумия нашего, ибо оставихом великая и преславная, худейшими, и ничесоже мнительнейшими прельщаемся и сих ради отпадаем любве всяческих Царя Христа и Бога. И того ради, в страшный час смертный люте истязани будем, яко нерадиви и лениви… И во всякой отраде, и покои, и безпечалии живуще; готова суть вся имуще: пищу же и питие, и одежду, и обущу, и всякия вещи, ихже требуем; и о единой души своей не хощем попещися. Ине токмо памяти не имеем, како и что ради мира сего отрекохомся и Христу обещахомся терпети благодарно и доброрадостно всякую прилучающуся, и приходящу нам скорбь и тесноту велию иноческаго нашего жития, и смирения, и послушания, и Христоподобную нищету во всем имети. Но ниже о малем своем правиле попечение имамы, иже в церкви святей, и в келии нашей; и якоже подобает ниже о трапезном и о монастырском благочинии; и ниже о пищи и о питии; и ниже о одеждах, и обущах; ниже о вещех, яже имамы в келии своей без благословения, но просто живуще, якоже мирстии… Имуще печали о спасении нашем, но велико се непщуем, точию еже… мира словом единым, делом же ни мало и не боящася (л. 487) ниже будущия муки, ниже страшнаго часа смертнаго, ниже сего яко помале умрети имамы. Яко ж, отцы наши и братия, и предстати имамы нелицемерному судищу Христову и слово воздати хощем о нашем монашеском житии, о делех же и о словесех, и о помышлениих наших, воистину имамы страшен и немилостив суд прияти, иже хощет быти нерадивым и ленивым. Аще бо праведник едва спасется, нечестивый же и грешный где явится. Сего ради отнюдь попечемся о Евангелских святых заповедех и о отеческих преданиях, и писаниях, и о еже зде, во завещании сем написанных преданий по свидетельству Божественых писаний, яже суть сия… прежде всего понудимся, братие, сами собою и положим себе сей святый и правый закон и заповедь добротворительную: воеже бы всегда поспешатися нам и прежде всех прилежно потщатися в соборе обретатися в божественнем и песнопетном деле, и со многоусердным тщатием притецати на душевную пищу. Точию да положим начало, и точию да начнем творити. И тако не оставит нас Господь Бог и дарствует нам милость Свою и послет всесильную помощь с высоты святыя Своея пренебесныя: любит бо ны зело и хощет всем спастися и ищет спасения нам. И се всякий ведый буди, яко кто трезвяйся [есть], той прибыток пользы своея всеспасительныя обрящет, а леняйся, таковый люте отщитится. (л. 489) Якоже брашно сладко на трапезе и злато поверженое на распутии, и аще кто прежде приидет, той прежде и насытится, или преизобилно обогатеет в божественной церкви, завершая свое послание словами: (л. 493об.) Еже убо к вам дух зде слова моего и спасение: препрошу и молю всех о Христе Иисусе. Ему же слава во веки. Аминь1208.
VI. Просветительские и миссионерские воззрения Патриарха Никона
Святейший Патриарх Никон хорошо понимал значение наук и образования, просвещения. Сразу по вступлении на Патриарший престол он организовал греко-латинское училище, которое располагалось в Печатном приказе, затем переместилось в Заиконо-спасский монастырь, где летом 1665 г. было сооружено отдельное «хоромное строение»1209. «В настоящее время, к немалому удивлению, русское юношество по распоряжениям Патриарха и Великого Князя начинают обучаться греческому и латинскому языкам; для этого близ Патриаршего двора учреждена уже латинская и греческая школа, которою заведывает и управляет один грек по имени Арсений… Чтобы учиться, у русских в добрых головах недостатка нет: между ними встречаются такие способные люди, одаренные ясным умом и хорошей памятью», – писал немецкий путешественник А. Олеарий. Сам Патриарх Никон, по свидетельствам Павла Алеппского, «очень любил греческий язык и старался ему научиться»1210.
Начатое при Патриархе дело устроения духовного образования, хоть и медленно, с большими трудностями, но все же продолжалось. Одним из первых зданий у стен монастыря Нового Иерусалима, кроме служебных и ремесленных, была школа, в которой обучались начальной грамоте и основам ремесла дети бельцов, монастырских трудников, приписных к монастырю крестьян. К середине XVIII в. почти во всех епархиях были основаны семинарии, а в крупных городах – и духовные академии. Из среды монашествующих начинает выделяться «ученое монашество», пользующееся определенными льготами и составляющее привилегированный слой. С 1766 г. образованным монашествующим даже в общежительных монастырях позволялось иметь частную собственность и распоряжаться ею посредством духовных завещаний. Кроме содержания от монастырей, ученые монахи получали и жалованье от духовных школ, в которых состояли преподавателями1211.
Увлеченность Святейшего теоретическим знанием подтверждает его библиотека, в которой находились: письменные книги – Номоканон греческий, харатейный, с толкованиями; девять Служебников греческих, харатейных; три церковных Устава греческих; три книги Григория Богослова греческих, харатейных; творения знаменитых Отцов Церкви на греческом и латинском языках – Дионисия Ареопагита, Иустина Философа, Григория Чудотворца, Климента Александрийского, Киприана, Кирилла Александрийского, Афанасия Великого, Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста, Григория Нисского, Кирилла Иерусалимского и многих других; церковно-исторические книги – акты Соборов Вселенских и Поместных, «История» Евсевия Кесарийского, Никифора Каллиста, История Флорентийского Собора и т.д.; сочинения античных философов – Демосфена, Плутарха, Геродота, Страбона, Аристотеля и т.д.1212.
По отшествии Патриарха Никона с престола в Воскресенский монастырь по приказу Царя туда были отосланы не только все купленные на его деньги в Новгороде старцем Арсением Греком книги на иностранных языках, но и все многочисленные греческие книги, письменные и печатные, приобретенные на Востоке Арсением Сухановым на государеву казну1213.
Патриарх занимался и литературным трудом: он составил Сказание о создании Иверского монастыря и о перенесении в него мощей св. Иакова Боровичского, которое напечатали в Иверском монастыре1214 к концу октября 1658 г.; написал Духовные наставления христианину (адресованы изначально Царю), Духовное завещание1215, а также большой труд, заключающий в себе систему религиозно-философских, социально-политических, государственно-канонических идей и взглядов – Возражение или Разорение смиренаго Никона, Божией милостию Патриарха, противо вопросов боярина Симеона Стрешнева, еже написа Газскому митрополиту Паисию Ликаридиусу, и на ответы Паисеовы1216. Митрополит Филарет (Гумилевский) считает, что Никоном написана и Летопись, известная в исторической науке под названием Никоновская, изданная в 1820–1821 гг. и содержащая: хронограф Еллинской редакции на 584 страницах; Родословие князей русских на 85 листах; О разных зверях, птицах, рыбах и насекомых; Сказание о пленении Иерусалима Титом; Временник Софийский и Несторовой летописи с продолжением по 1584 г.1217 Вся эта широкая собирательская и попечительско-просветительская деятельность Святейшего Патриарха способствовала созданию свода документов, легших в основу русской православной философской системы1218.
Развивая традиции, заложенные Святейшим Патриархом Никоном в истории русской духовной культуры, монастырь Нового Иерусалима стал особенно известен своим ученым монашеством: богословами, духовными писателями, проповедниками1219. В 1685 г. после освящения Воскресенского собора архимандрит Никифор написал Сказание об освящении соборной церкви, вслед за ним архимандрит Никанор написал Летопись Воскресенской обители, Сказание о чудотворной иконе Троеручице, предисловие к Уставу монастыря, эпитафию-акростих на могилу архимандрита Германа, который составил стихотворный гимн о Патриархе Никоне, высеченный на камне у его гробницы. Все это закладывало особую поэтико-гимнографическую традицию – Новоиерусалимскую (Никоновскую) школу песенной поэзии1220.
Новоиерусалимская библиотека1221 в этот период формируется в основном за счет вкладов Царя Федора Алексеевича, великой княжны Татьяны Михайловны, купцов, крестьян, монашествующих1222, выдающегося переводчика и богослова архимандрита Амвросия (Зертис-Каменский, с 1748 – настоятель, с 1753 – преосвященный, с 1768 – архиепископ Московский)1223, епископа Сильвестра1224. Все эти наместники были не только достойными последователями Патриарха Никона в устроении и развитии Новоиерусалимского монастыря, но и занимали четкую позицию против секуляризации, за преодоление раскола в Церкви, страдая, как и Святейший, за свои убеждения1225.
С середины XVIII в. монастырь находится под управлением выдающихся людей своего времени, внесших огромный вклад в развитие как собственно богословской, так и светской науки, влиявших на характер церковно-государственных взаимоотношений.
Монастырь также активно закупал новоизданные творения Иоанна Златоуста, Василия Великого, Ефрема Сирина, Макария Великого, пятитомное «Добротолюбие» (1-е изд. – 1798), архимандрита Симеона «Повесть о святом граде Иерусалиме и прочих окрестных святых местах» (СПб., 1753) и многие другие.
Таким образом, развивая миссионерско-проповедническую, археолого-экспозиционную, просветительскую деятельность, монастырь Нового Иерусалима стал крупнейшим религиозным, культурным центром Российского государства. Традиции и достижения монастыря оказывали существенное влияние на интеллектуальную и культурную жизнь общества в целом.
VII. Богослужение Патриарха Никона
Анализ воззрений и богословской мысли Патриарха Никона был бы неполным без указания на огромное значение богослужения для его жизни и духовности.
В монашеской традиции, с самого ее зарождения, слова апостола Павла «непрестанно молитесь» (1Фес.5:17) понимались буквально. В соответствии с ними устанавливается и по сей день ритм монашеской жизни: участие в храмовом богослужении, личная келейная молитва и физический труд, во время которого не следует прерывать внутреннее молитвенное предстояние Богу1226. Для исихастской традиции молитва и богословие неразделимы: «… если ты богослов, то будешь молиться истинно, если истинно молишься, то ты – богослов», – говорит авва Еваргий1227. В исихастской традиции делание богослова соотносится со священноделанием иерарха-литурга1228.
Обратим внимание на особое значение, которое в жизни Патриарха Никона имела молитва: (л. 110)… Мы же от Спасителя Христа научившеся молитися, еже не внити в напасть, протяженне и прилежне… помолимся. Немощь свою познавше, избавитися прорекованных искуса, и ниже видети антихристово пришествие, ниже предглаголанных язык движение, ниже беду смертную, от спасителныя веры отступити насилующую. Но свидетелство совести по силе соблюдающе, невредимо, неуязвлено, ко Искупившему нас честною Своею кровию Христу Богу распалением любве делы (л. 110об.) благими показующе, вечных благ сподобимся – которой было проникнуто всякое его действие. О роли же соборной молитвы в понимании Святейшего можно сделать вывод из таких его слов: Мы же плодоприяти нечто велие благо и зело веруем, яко вся исправим, аще восхотим вси единодушно руце прострети к Богу (л. 294об.) о всех наших сетованных. Такова (4Цар.19) ополчаемся на враги молитвами и молбами, аще бо с вооружеными ополчахуся древнии, колми паче ныне подобает. Тако (Быт.14) Авраам победи Холодогомора с прочими четырми цари. Тако (2Моис.14) Моисей фараона потопи со всем воинством его. Тако победи Амалика в Рафиде со всем воинством его. Тако (4Моис.21) Ханаана победи. Тако Сиона царя Амморейска победи. Тако и Ога царя Васанска и вся царствия Ханаанска победи. Тако (Иис.Нав.6) Иисус Наввин Ерихон взят. Тако Гай взят и цари поби 31 и вся землю взят Иисус, якоже заповеда Господь (л. 295) Моисею, и даде ю в причастие Израилю. Тако (1Судии1) Июда Ханаана и Ферезея поби. Тако Гедеон с трема сты 120 000 поби и князи Орива и Зива, и Зевея, и Салмона цари Мадиамли и прочии судии, Варак, Самсон, Иеффаи и Самоил вси молитвою и верою победиша царствия. Содеявше правду, получиша обетование. Тако и Саул, донележе не согрешив во всесожжениих и жертвах, и священства сана не восхити. Тако и Давид победи враги своя. Тако и Соломон, Иезекия и Иозия, донележе в своих уставох пребывал и священства не преобидел. Тако и Константин царь Великий и (л. 295об.) первый христианской Максентия победи и прочия враги своя. Тако и вси православнии царие, аще идеже оружия требоваху и ополчения и рати, оружие оставлше, на молитву прибегаху.
В общежительных монастырях храмовые службы являются основой ежедневной молитвы. С момента зарождения монастырская жизнь выработала ряд традиций. Египетская: две основные ежедневные – утренняя и вечерняя – службы, заключавшиеся пением 12 псалмов. За пределами Египта, особенно в городских монастырях, устанавливалось соборное богослужение, в частности, последования утрени, вечерни, часов и повечерия. Палестинская и антиохийская традиции предполагают семь служб: полунощница, утреня, службы 3-го, 6-го, 9-го часов, вечерня, повечерие. Установившаяся литургическая традиция на Руси включала в себя богослужебные элементы древних монастырских чинов, элементы соборного чина, а также поэтическое наследие православных византийских гимнографов1229. Структура ежедневного богослужения соответствовала Студийскому уставу, который определял круг богослужений, отправляемых в Великой Церкви в Константинополе, и был заимствован еще при Крещении Руси.
Патриарх Никон за основу богослужебного устава Воскресенского монастыря взял Иерусалимский устав1230, кроме этого, ввел и особые чины, так как монастырь Нового Иерусалима создавался по подобию храма Гроба Господня и святых мест Палестины.
В первых девяти главах Устава излагался порядок совершения богослужения: вечерни, повечерии, утрени, Божественной литургии, великой вечерни, всенощного бдения и на Великие праздники. В десятой главе излагались особые чины и правила: в Великий четверг – «умовение ногам»1231; в Великий Пяток – спуск плащаницы с Голгофы на камень помазания, перенесение ее по заалтарному обходу мимо трех приделов в ротонду к кувуклии и положение ее на Гроб Господень, запечатание дверей кувуклии до воскресного Пасхального богослужения; в Великую субботу – напоминание о нисхождении благодатного огня на Гроб1232, архимандрит возжигает свечи от кадила в часовне Гроба и раздает их богомольцам1233 и т.д.
По установленному Патриархом обычаю приходивших паломников в монастыре кормили в монастырской трапезной первые три дня безвозмездно, одаривали иконами. Приходивших на богомолье Великих Государей встречали и провожали по особому чину1234.
Богослужение Патриарха отличалось необычайной торжественностью. Поражал Никон и великолепием одежд, в каких совершал богослужение, что также органично отражало суть его взглядов.
Возражение 3-му вопросу–ответу «яко не леть есть (л. 29) архиереем украшатися в Божественной службе» Патриарха Никона: Сыном Аароновым да сотвориши ризы и поясы и клобуки, да сотвориши им в честь и славу. Облецы же в ня Аарона, брата твоего, и сыны его с ним и помажеши я, и исполни руце их, и освятиши я, да Ми жертвуют. Аарона же и оба сына его приведеши я пред дверми храму свидения и измыеши я водою, и взем ризы святыя и облечеши Аарона, брата твоего, до земли ризою, и ризу утреннюю и слово совокупиши ему, слово ко утренней ризе. И по мале. И да возмеши от елея помазаннаго, и да возлиеши на главу его мажеши и.
Важнейшим руководством в соблюдении обрядов для Патриарха Никона послужил «Вен Константина», опубликованный в дополнениях к Кормчей, где говорится о пожаловании Папе Римскому Сильвестру (в его лице и всей Церкви) привилегий и преимуществ, в том числе и священных одежд: «…Якоже диадима есть венец главы нашея, подобне же и фригион еже есть покрывало, еже митрою нарицают: и не токмо той, но и еполион, еже есть препоясание, еже обычно есть царской мышце облагатися рекше омофор. И еще багряна одежда: и червленая риза и вся царская одеяния. Но и царскаго председания достоинство, и царских коней утварение, и царские скипетры, и вся знамения. Еще же есть и колесницы, и различныя царския утвари. И вся же в происхождение их царскаго верха, и славы, и силы» (Кормчая. М., 1653. Л. 7об.–8).
Во взглядах Патриарха Никона такая приверженность роскошным облачениям была сознательным продолжением византийских придворных традиций, а пожалование и поднесение саккосов – одна из центральных придворных церемоний, внесенных в «Книгу записную облачениям и действу» и «Патриаршие выходы», – символ заслуг; такими поднесениями (саккосами) отмечались, награждались многие митрополиты, архиепископы1235.
Святейшему обычно сослужили некоторые из архиереев и священства, которых насчитывалось до 30, до 54, а бывало и до 751236. Во времена присутствия Вселенских Патриархов первенствовал Патриарх Никон по их благословению. Патриархов поражали в богослужении Никона не только торжественность, но и продолжительность, и благочиние: «Мы были поражены изумительною правильностью и порядком всех этих церемоний и священнодействий. Несмотря на то, что мы чувствовали сильный холод и великую усталость вследствие долгого стояния без движения, мы забывали об этом от душевного восхищения, созерцая такое торжество Православия… Мы вошли в церковь, когда колокол ударил три, а вышли из нее не ранее десяти… И Патриарх не удовольствовался еще только службою и прочтением длинного синаксаря, но присоединил и длинное поучение. Боже, даруй ему умеренность. Как сердце его не чувствовало сострадания ни к Царю, ни к малым детям? О, если бы Господу угодно было послать нам такое терпение и крепость»1237.
Таким образом, совокупное восприятие благолепия монастыря, образа Патриарха, священнослужителей, круга годового, ежедневного богослужения –все являлось школой молитвы и духовной жизни для всякого пребывающего там и уносящего это с собой после паломничества. Каждый ощущал освящение реальности: Божественная литургия – центральное событие богослужебных суток, воскресный день – главный день седмицы, праздник Пасхи (Воскресения, чему и посвящен Воскресенский собор и его главный престол, в целом монастырь) – центр всего годового богослужебного цикла. Праздники (престолов – 45) задавали ритм всему распорядку монастырской жизни на целый год: «Вчера мы восхваляли святого Златоуста; сегодня восхваляем приснопамятного Ефрема, а завтра будем восхвалять другого святого» [Малое оглашение, 42 (поучение на 28 января)].
Церковные праздники, как отмечает Патриарх, предназначены не для насыщения и не для отдыха, но для пользы души и вдохновения к добродетели; каждый праздник дается для возможности пережить стоящую за ним реальность: воспоминая некоторое событие, радуемся, поскольку просвещаемся, созерцая таинство, в честь которого установлен праздник, и сами преображаемся, поддерживаемые благодатью, даруемой свыше, и укрепляя свои добродетели: Всем на Страшной недели ради спасительныя страсти Избавителю нашему все есмы кручинны и слезны, (л. 226) показующе явныи лицем внутреннюю печаль, сопротивно во Святое Воскресение во светлыя ризы облачимся и веселимся. И кто на тот день не возвеселился Церковию Божиею, того сущим христианином не почитаем для того, что не радуется с Невестою Христовою, которая изнову увидела возлюбленнаго Мужа своего Христа. Для того наша вся кручина есть, для вдовства и разлучения Церкви Божии. Радость бы наша была вся, есть ли бы сложила платье печали Церковь Божия, Матка наша, и облеклась в светлое и белое платье…1238.
Для Патриарха Никона существует неразрывная связь между богослужением и духовной (мистической) жизнью: последняя невозможна без первого, как и первое без последней. Таким образом, богослужение составляет неотъемлемую часть духовности Святейшего Патриарха Никона, является важной частью его богословия, которое можно определить как литургическое, поскольку оно глубоко укоренено в опыте, приобретенном Никоном в богослужении. У Патриарха Никона проявляется взаимозависимость между богословием и богослужением, а также и храмосозиданием (свойство, ни у кого не выраженное столь ярко), хотя названная взаимозависимость характерна в целом для всего православного Предания1239.
Вслушиваясь в литургические тексты, духовную и историческую традиции, активно участвуя в кафолической жизни Вселенской Церкви, являясь Предстоятелем Поместной Церкви и даже будучи осужденным, низведенным до статуса простого монаха и сосланным в далекий монастырь, Святейший Патриарх постоянно демонстрирует стремление к духовному возвышению, призывает к восхождению от земной реальности Церкви (и государства) к божественной: от великолепия праздничной службы к тому, что она символизирует, от буквального смысла и значений храмовых, литургических текстов и образов к их внутреннему содержанию.
Заключение
Период монашеского делания в Анзерском скиту Соловецкого монастыря углубил у Никона осознание и переживание мистического; период игуменства в Кожеозерском монастыре совершенствовал его умение духовного руководства братией в делах устроения жизни обители и духовного спасения; период наместничества в Спасо-Новом монастыре в Москве развил умение принимать на себя грехи обиженных и заблудших и ходатайствовать о разрешении и прощении, быть приятным собеседником, духовным наставником и мудрым советчиком; период архипастырства научил быть тонким политиком и устроителем дел государственных, попечителем о Церкви Христовой, о народе ее, который живет в этом государстве, исполняя мирские обязанности во всем их несовершенстве и тяжести, и в духе исповедует веру Церкви Православной.
Святая Русь, Небесный Иерусалим, Горний Сион – к этим образам тянулась душа Патриарха Никона, они были определяющими в миропредставлении и деятельности сперва Никиты, а затем и Никона, сперва священника, а затем и архимандрита, и митрополита, и Патриарха. Святейший Никон был Патриархом лишь шесть лет, при этом регентствовал государству в течение двух с половиной лет. Он не мог сделать все, что замышлялось, но именно он указал на исторические задачи России по присоединению Малороссии и Белоруссии, по выходу к Балтийскому морю, по защите Православия в Ингрии и Карелии.
В церковной жизни Патриарх Никон вывел Московскую Русь из изоляции среди Православных Церквей и, проведя книжную справу и обрядовую реформу, приблизил ее к другим Поместным Церквам, напомнил о единстве Вселенской Церкви, подготовил каноническое объединение Великороссии и Малороссии, оживил жизнь Русской Церкви, сделав доступными для народа творения ее Отцов и объяснив ее богослужения и церковную символику [была переведена и издана Скрижаль (толкование Литургии и других служб церковных)]. Патриарх трудился над повышением уровня нравственного состояния духовенства, старался преобразить государственную жизнь, одухотворяя ее высшими, нравственными целями, стремясь к осуществлению «симфонии» государства и Церкви не только как к воплощению теории, но и желая, чтобы Русь была святой в смысле вечного стремления к недостижимому идеалу – стяжанию образа Горнего мира, что само по себе приобщает человечество к высшим ценностям и ставит перед человеком идеал истины, добра, красоты и любви как вечную путеводную звезду.
Анализ взглядов Патриарха Никона дает основания утверждать, что он был ярким выразителем традиционного русского религиозно-философского мировоззрения, которое органично сочеталось с рационализированной системой социально-политических взглядов.
Богословские и религиозные взгляды и убеждения Патриарха Никона определяются догматичностью его мышления, они согласованы с традиционным святоотеческим православным вероучением, являясь неотделимой его частью, притом в каппадокийской традиции, и представляют собой глубоко разработанную систему. Объединяя в одно целое социально-политические, церковно-государственные воззрения Патриарха Никона на необходимость воцерковления государства, можно сказать, что он выступал за иероавтократическую («симфоническое» единство) модель государственного устройства на принципах теократии, согласно которым государство ставит себе отдаленным, никогда недостижимым идеалом превращение в Церковь, руководствуясь в своем жизнесозидании духом Евангельского учения. Эта система противоположна как папоцезаристской, так и цезарепапистской.
Понимая Церковь как основу и высший принцип жизни человеческого общества, Патриарх Никон в ее вселенском законодательстве видел верховные нормы, обязательные и для государства, потому и предостерегал государство от самоосвобождения от церковных начал (в «Уложении» оно уже вступало на этот путь и переставало принимать во внимание церковные каноны, эмансипируясь от церковного влияния в законодательстве), так как, освобождаясь от церковных начал, государство возвращается к естественным началам, которые противны церковным как языческие – христианским.
В образе Патриарха Никона можно найти общее для «старообрядческой» и «никонианской» Церкви – оно состоит в строительстве церковной русской культуры, для которой характерно воцерковление всех сторон жизни. Святейший не принимал секулярной культуры протестантского типа, в которой Церковь, хотя и занимает в жизни общества какое-то место, но не затрагивает ее основ. Известный английский историк В. Пальмер, обобщивший в середине XIX в. материалы о Святейшем Патриархе Никоне, говорит, что, когда либерализм сбросит существующие преграды и получит религиозную свободу, когда Русская Церковь будет ограничена собственными ресурсами, подвергнется нападению католиков и раскольников, тогда в поисках прежде всего самозащиты, и в особенности против католиков, она сможет открыть, что истинный борец за нее и представитель ее был Святейший Патриарх Никон. Таким образом, утверждая канонический примат Патриаршества и возвращаясь к почетному соблюдению канонов в духе Святителя, она сможет восстановить его в полноте мечтаний и вместе с ним продолжить сооружение того великого здания, над постройкой которого Никон, по его свидетельству, с терпением бессознательно работал: дом с центральной залой, такой просторной и блестящей, что Никон, глядя на нее, не знал, что это было, был поражен удивлением и изумлением…
Морально-этическое сознание допетровской Руси: понятийно-категориальное осмысление славяно-русской философской мысли. (Степнов П. П., Шмидт В. В)
Русская средневековая философия предстает как духовное отражение исторического опыта нашего народа. Она включила в себя мировоззренческие элементы предшествовавшего языческого прошлого, сформировалась под воздействием христианского вероучения после крещения Руси и повлияла на дальнейшее развитие отечественной философской мысли, став начальным и основополагающим периодом ее развития, когда были заложены ее структурно-типологические доминанты1240.
Особое место в средневековой религиозно-философской и богословской мысли занимает нравственное (аксиологическое) знание и учение о нем – этика. Не случайно наиболее адекватным термином для обозначения русской средневековой мысли представляется понятие «мудрость», соотнесенное с понятием Божественной Премудрости1241. Полисемантизм данного понятия3 отражает полифункциональность древнерусской религиозно-философской, социально-политической мысли и позволяет более объемно представить ее как целостный культурно-исторический феномен.
Исследование нравственного сознания Средневековья помогает постичь мировосприятие человека этого периода, его верования, мыслительно-рефлексивные и эмоциональные реакции. Мотивы действий людей, нюансы социальной и исторической практики адекватно объясняются, если они выводятся не только из исторического и социального детерминизма, но и из систем верований, трансцендентно-трансцендентальных, социокультурных парадигм. Анализ письменных источников1242 дает представление о мировидении социальных групп (страт) и их самосознании, статусных различиях и имущественной дифференциации внутри этих групп.
Летописи и сказания, отражающие историю Русской земли
«Троицкая летопись» 1408 г. отразила борьбу Руси за свою независимость и за объединение всех княжеств и областей в единое государство. Она начиналась с «Повести временных лет», основная тема которых – тема Русской земли, ее защиты, сохранения и единства. Раскрываются вопросы добра и зла, предопределенности Богом. «Лаврентьевская летопись», продолжающая «Повести временных лет» известиями по истории Суздальской Руси (XII–XIII вв.), ставит своей задачей возвеличить Владимиро-Суздальских князей, наделяя их достоинствами и снисходительно относясь к их недостаткам (Летопись по Лаврентьевскому списку: Изд. Археографич. Комиссии. СПб., 1872).
Иной взгляд на княжескую власть высказывается в «Ипатьевской летописи», описывающей южно-русские события XII–XIII вв. (Летопись по Ипатьевскому списку. СПб., 1871). Выражая идеологию феодалов периода раздробленности Руси, автор летописи указывает, что князь должен уметь постоять за себя. «Русский хронограф» (середина XV в.) освещал мировые события и события на Руси и пытался установить связи русской и мировой истории.
В Московском своде 1479 или 1480 г. обосновывалась идея преемственности власти русских князей, правящих сначала в Киеве, затем во Владимире и, наконец, в Москве. Образование единого государства рассматривалось как результат собирания Московскими князьями своих «отчин».
В летописной повести «Задонщина» ее автор Софоний-рязанец прославляет русских князей, боровшихся за единение Руси (см.: Адрианова-Перетц В.П. Задонщина (Опыт реконструкции авторского текста) // Труды Отдела древнерусской литературы. T. VI. М.; Л., 1948).
В памятниках древнерусской письменности, таких, как «Слово о полку Игореве» (М.; Л., 1963), «Сказание о погибели Русской земли», «Сказание о житии Бориса и Глеба» (Жития св. мучеников Бориса и Глеба. СПб., 1916), «Повесть о разорении Рязани Батыем» и др. проводится мысль о единстве Русской земли, а также создается образ князя.
В «Поучениях» Владимира Мономаха (1096 г.) даются нравственные наставления детям, поучения взрослым, назидания на различные случаи (Духовная Великого Князя Владимира Всеволодовича Мономаха детям своим, названная в летописи Суздальской поученье. СПб., 1793).
«Слово Даниила Заточника» (XII в.) представляет собой сборник изречений и афоризмов, заимствованных из разных источников – «Пчела», Псалтырь и др. (Даниил Заточник. Слово // Зарубин Н. Н. «Слово» Даниила Заточника по редакциям XII и XIII вв. и их переделкам. Л., 1932; Даниил Заточник. Написание // ТОДРЛ. Т. Х. М.; Л., 1954). Главная мысль «Слова» в том, что князь должен жить в постоянной дружбе со своими советниками (думцами); излагаются также нравственно-политические представления.
«Слово о погибели Русской земли» рассказывает о былом величии Руси и о бедственном положении, которое сложилось в результате татарского нашествия (Слово о погибели Русской земли // Памятники древней письменности. СПб., 1892. Т. 84).
Вопросы морали нашли отражение в «Мериле Праведном» (XIII–XIV вв.), представляющем собой сборник слов и поучений на тему о праведных судах (Мерило праведное: По рукописи ХIV в. М., 1961). В нем изложены нравоучительные идеи об осуждении немилостивых князей и злых судей, властителей, берущих деньги и судящих неправедно, и т. д.
Труды книжников
Труды книжников, опираясь на тексты Священного Писания, труды Отцов Церкви, старались приспособить христианское вероучение к бытовым отношениям Киевской Руси. В них заметно стремление сблизить христианскую и языческую позиции в отношении к миру и людям (Лука Жидята. Поучение // Известия Отделения русского языка и словесности Академии наук. СПб., 1913. Т. XVIII. Кн. 2), говорится о роли античных мыслителей, дается тонкий анализ сложных богословских проблем (Иларион, Климентий Смолятич), акцентируются нравственно-воспитательное значение обращения к церковной и особенно светской истории (Иоанн), прославление мира и человека (Кирилл Туровский).
В «Слове о законе и благодати» митрополита Илариона дается философское объяснение хода всемирной истории с точки зрения победившего христианства, раскрываются идеи провиденциализма, поднимаются политические вопросы времени, прославляется раннефеодальное государство Киевской Руси и его борьба за самостоятельность (Иларион, митр. Слово о законе и благодати //Срезневский Вс. Мусин-Пушкинский сборник 1414 года в копии начала ХIХ-го века. СПб., 1893).
В «Послании митрополита Никифора Владимиру Мономаху» наряду с рассуждениями о душе и теле представлены религиозно-этические наставления (Послание Никифора, митрополита Киевского, к Великому Князю Володимеру // Русские достопамятности. М.,1815. Ч. 1). Кириллу Туровскому приписываются поучения, которые озаглавлены в рукописных сборниках как «Слово Кирилла многогрешного», «Слово Кирилла мниха», «Слово Кирилла философа». В них рассматриваются вопросы взаимоотношений души и тела, а также говорится о необходимости объединения русских княжеств в единое государство (Кирилл Туровский // ТОДРЛ. Т. XII. М.; Л., 1956; т. XIII. 1957; т. XV. 1958). Все эти произведения отличаются жизнерадостностью, отражают особенности древнерусского христианского миросозерцания, непосредственно связанного с жизнью.
Монашеские сочинения XI–XII вв. представляют идеи аскетической философии. В «Печерском патерике» – сборнике рассказов о монахах Печерского Феодосьевского монастыря в Киеве – изложены аскетические мысли, представлены оценки совершенным поступкам (Патерик Киево-Печерского монастыря / изд. Д. И. Абрамовича. 1911.; Шахматов А. А. Киево-Печерский патерик и Печерская летопись. 1897). В «Послании Климента Смолятича к иноку Фоме» (ХII в.) значительное место отводится теме разума, который черпает материал для рассуждений из чувственного восприятия [Климент (Смолятич), митр. Послание к иноку Фоме // Никольский Н. О литературных трудах митрополита Климента Смолятича, писателя ХII века. СПб., 1892].
В труде Ростовского архиепископа Вассиана «Послание владычне на Угру к Великому Князю» (1480 г.) говорится о заслугах Дмитрия Донского, рисуется идеал государя, сформировавшегося под влиянием идей Демокрита (Патрикеев Вассиан. Слово ответно // Казакова Н. А. Вассиан Патрикеев и его сочинения. М.; Л., 1960).
В «Послании» монаха Псковского Елеазарова монастыря Филофея нашла отражение теория «Москва – Третий Рим». Здесь обосновывается идея богоданности власти и предназначения России быть наследницей Ромейского царства в судьбах «пременения царств» (Малинин В. Н. Старец Елеазарова монастыря Филофей и его послания: Историко-литературное исследование. Киев, 1901; Андреев Н. Е. Филофей и его послание к Ивану Васильевичу // ТОДРЛ. Т. 18. М.; Л., 1962).
Агиографическая житийная литература Древней Руси1243
Митрополит Макарий (1481–1563) при Иване Грозном со штатом сотрудников-грамотеев, составивших первую «Русскую Академию», более двадцати лет собирал древнюю русскую письменность в огромный сборник Великих Четьих Миней (Великие Четьи Минеи Макария, митрополита Московского, изданные Археографической комиссией). Среди лучших писателей Древней Руси посвятили свое перо прославлению угодников Нестор Летописец, Епифаний Премудрый и Пахомий Логофет [см.: Епифаний (Премудрый), Пахомий (Серб.) // Тихонравов Н. Древние «Жития Сергия Радонежского». М., 1892]. С начала XV в. Епифаний и серб Пахомий, несомненно, под влиянием греческих и южнославянских сочинений создают в северной Руси новую школу искусно изукрашенного пространного жития. Складывается, особенно трудами Пахомия, устойчивый литературный канон, пышное «плетение словес», подражать которому стремятся русские книжники до конца XVII в.
Философско-богословские сочинения1244
Наиболее популярным является произведение Иоанна Дамаскина «Источник знания» (Иоанн Дамаскин. Полное собрание творений: в 13 т. М., 1913. Т. 1). Первая («Философские главы», или «Диалектика») и третья («Точное изложение православной веры») части этого сочинения были переведены на славянский язык в Х в. Иоанном, экзархом Болгарским. Здесь дается определение философии, развиваются представления о мире и человеке. Древнейший список «Слова о правой вере» (часть «Источника знания») относится к XII или XIII в. Философскими источниками работы Иоанна Дамаскина являются в основном «Введение в Категории Аристотеля» Порфирия и собственно «Категории» Аристотеля.
В «Шестодневе» (не позднее XI в.) Иоанна, экзарха Болгарского, даны толкования библейских рассказов о шести днях творения мира (Иоанн, экзарх Болгарский. Шестоднев. М., 1897; см. также: ЧОИДР. Кн. 3; Шестоднев Иоанна, экзарха Болгарского. М., 1996. V Слово). Тематика этого произведения касается вопросов двойственной природы человека, природы воли, самовластия человека.
В 70-х гг. XI в. для Киевского Великого Князя Святослава Ярославича были написаны два сборника. «Изборник 1073 г.» был переписан с болгарского перевода, сделанного в конце IX – начале Х в. для царя Соломона [Изборник Святослава 1073 года / науч. ред. Л. П. Жуковская. М., 1983 (репринт)]. В «Изборнике 1076 г.» содержатся отрывки из сочинений Отцов Церкви (Изборник 1076 года: Текст и исследования / под ред. С. И. Коткова. М., 1965). Русский переписчик не просто копировал эти отрывки, он подвергал их обработке: делал вставки, перестановки, извлечения и пр.; имеются и статьи славянского происхождения. Большое место в «Изборнике» занимают поучения о том, «како подобает человеку быти», т.е. какими правилами должно руководствоваться человеку в жизни. Кроме того, поднимаются вопросы противоречий (социальной несправедливости) в древнерусском обществе.
Ярким представителем теолого-рационалистического направления древнерусской мысли был Никифор, возглавлявший Русскую митрополию с 1104 по 1121 г. и написавший несколько произведений, в числе которых «Послание о посте и о воздержании чувств», «Послание от Никифора митрополита Киевского к Владимиру Князю всея Руси о разделении Церквей на Восточную и Западную», «Написание на латыну к Ярославу о ересех» (см.: Макаров А. И., Мильков В. В., Полянский С. В. Древнерусская мысль в ее историческом развитии до Никифора // Послание митрополита Никифора. М., 2000).
В Киевской Руси широкое распространение нашли сборники изречений древнегреческих и римских философов. Одним из таких сборников была «Пчела», первоначальный перевод которой с греческого языка на русский был сделан в XI – XIII вв. (см.: Сперанский М. Н. Переводные сборники изречений в славяно-русской письменности. М., 1904). Центральное место в «Пчеле» занимают проблемы нравственного, общественного долга, наставления и поучения о дружбе и целомудрии, о правде и мужестве, прославляются ум и любомудрие.
Памятником письменного права является «Краткая Русская Правда» (20–70-е гг. XI в.), отражающая нравственно-правовые вопросы (Русская правда: в 3 т. М.; Л., 1940–1963).
Труды русских средневековых мыслителей и просветителей
Ф. И. Карпов1245, представитель дворянской идеологии, крупнейший русский дипломат, является автором двух посланий Максиму Греку. В этих работах утверждаются идеи правды, закона, милостыни; автор выступает против иосифлянской концепции «терпения», отражавшей стремление священноначалия оказывать духовно-каноническое (монашеское) влияние на общественную и государственную жизнь, отстаивает размежевание сфер деятельности Церкви и государства, невмешательства Церкви в дела государства.
И. С. Пересветов1246, русский мыслитель XVI в., автор произведений: «Повесть об основании и взятии Царьграда», «Сказание о Магмете-Салтане», «Сказание о Царе Константине», «Предсказания философов и докторов», «Большая челобитная», в которых подвергается критике феодальная боярско-княжеская аристократия, разрабатываются понятия «правда», «царская гроза». Он был приверженцем рационализма, при этом разделял основные положения христианской религии, отстаивал идеи гуманизма, обращаясь к «мудрости» как одной из главных добродетелей.
Ермолай-Еразм1247 (Еразм – монашеское имя) – русский мыслитель XVI в. В своих произведениях: «Благохотящим Царем правительница и землемерие», «Того же описателя к Царю моление», «Поучение к своей комужде душе некого Ермолая» и «Слово о разсуждении любви и правде и о побеждении вражде и лже» – автор выражает идеи социально-экономического характера, высказывается о труде как основе жизни общества, формулирует ряд социально-политических концептов. В «Слове о Божием сотворении тричастнем» он выступает против еретиков-вольнодумцев, в частности, против Феодосия Косого. В записанной им «Повести о Петре и Февронии», а также в произведениях «Слова о разсуждении любви и правде…», «Благохотящим Царем правительница…» и других раскрываются социально-этические идеи, образ женщины как носительницы добра.
Сильвестр, настоятель Кремлевского Благовещенского собора, царский духовник, автор «Домостроя» (СПб., 1902), описал целостную систему этических взглядов, наставлений, регламентирующих нравственные нормы бытовой жизни каждого члена средневекового общества.
Переписка Ивана Грозного1248 с Андреем Курбским отражает дискуссию о единодержавии (дилемма: создание Русского централизованного государства и сохранение пережитков удельной старины) [Послания Ивана Грозного. М.; Л., 1951; Сочинения князя Курбского (Т. 1) // Русская историческая библиотека. T. XXV. СПб., 1914].
Белорусский мыслитель Симеон Полоцкий стал одним из крупнейших культурных деятелей России, в творчестве которого получили концептуальное отражение темы власти, справедливости, законности и гражданственности как добродетелей (Полоцкий С. Вертоград многоцветный; Псалтырь рифмованная // Полоцкий С. Избр. соч. М.; Л., 1953; Государство, религия, Церковь в России и за рубежом. 2009. № 4 (спецвыпуск): Псалтирь и ее рецепции в культуре. С. 274–314), наличествуют новые для Руси традиции морализаторства, воплощающиеся в барочной риторике, назидательности, многословии и усложненной стилистике. С. Полоцкий выражает историософию нового типа, отличную от древнерусской, где не человек владеет историей, а история человеком.
Юрий Крижанич в своей «Политике» дает нравственные правила поведения политика, государственного деятеля (Собр. соч. Юрия Крижанича. Вып. 1–11. М., 1891–1892). По ряду важных философских вопросов, как, например, о месте философии, о причинности, о происхождении знания и т.д., Крижанич порывает со средневековыми традициями, представляет новое их видение – он развивает философско-историческую концепцию, в рамках которой история народов рассматривается как единый процесс, где одни народы теряют свое значение в общем историческом процессе, значение других возвышается [выдвинута идея автохтонности славянства: «…надо знать, что мы, русские, никак не менее, чем древние афиняне, можем называть себя автохтонами, местными уроженцами» (Политика. С. 622)]. Ю. Крижанич – сторонник и последователь усвоенной им иезуитско-католической картины мира.
Патриарх Никон выражает идеи «симфонического» взаимодействия Богоустановленных институтов Церкви и государства, – канонического (законного) исполнения возложенных на них задач в управлении обществом, защите-охранении веры (традиций Эйкумены), личности, общества, имущества, территорий. Никон обосновывает святоотеческими церковными правилами и законоустановлениями древних православных Государей-царей и Великих Князей недопустимость самочинных установлений, самовозвеличения Царей и попрания Божественных законов, отступление от которых неминуемо приводит к гибели государств и общественных установлений (Никон, Патриарх. Духовные наставления христианину; Возражение или Разорение смиренаго Никона, Божией милостию Патриарха, противо вопросов боярина Симеона Стрешнева, еже написа Газскому митрополиту Паисию Ликаридиусу, и на ответы Паисеовы // Патриарх Никон. Труды. С. 181–195, 197–463).
Средневековое свободомыслие и антиеретическая полемика1249
Нестяжательство включало два направления: яркими представителями духовного крыла были Нил Сорский и Артемий Троицкий, политического – Вассиан Патрикеев и Максим Грек1250. Нил Сорский в произведениях «Предание», «Устав», нескольких «Посланиях» (Нила Сорского предание и устав // Памятники древней письменности и искусства: Вып. 179. М., 1912) рассматривает нравственно-религиозные вопросы, основу которых составляет религиозный индивидуализм: центр религии преподобный Нил переносил с внешней, обрядовой стороны во внутренний мир человека.
Вассиан в своих сочинениях, в частности «Кормчей книге», подвергал критике монашество (Патрикеев Вассиан. Слово ответно // Казакова Н. А. Вассиан Патрикеев и его сочинения. М.; Л., 1953). Максим Грек отстаивал политический идеал власти, которая должна сотрудничать со всеми основными политическими силами общества – духовенством, боярством, дворянством. В его работах развивались также идеи свободы воли, добра и зла, «воспитания разума» (Сочинения преподобного Максима Грека: в 3 ч. Казань, 1859–1863).
В трудах «обличителей» произошло соединение принципов социального рационализма, логики с богословием, что было вызвано необходимостью критической полемики и обсуждения философских и нравственных вопросов, поставленных еретиками. Иосиф Волоцкий в «Просветителе, или Книге на новгородских еретиков» впервые высказывает мысль о законности сопротивления великокняжеской власти в случае ее отступления от христианской веры и морали [Иосиф (Волоцкий). Слово кратко в защиту монастырских имуществ // ЧОИДР. 1902. Кн. 11. Отд. II; Он же. Просветитель, или обличение ереси жидовствующих. Казань, 1903; Послания Иосифа Волоцкого. М.; Л., 1959].
Инок Авраамий в «Послании отца Авраамия и страдальца за веру к некоему боголюбцу сице», протопоп Аввакум в «Книге бесед» предсказывают приход антихриста, рассуждают об онтологической природе зла (Книга бесед протопопа Аввакума. Пг., 1917; Житие протопопа Аввакума, им самим написанное, и другие его сочинения. М., 1960).
«Лаодикийское послание» Федора Курицына и анонимное «Написание о грамоте» представляют новый взгляд на человека, на личность и ее назначение, подрывающий церковные представления о человеке как смиренном рабе Божьем (см.: Лурье Я. С. Перевод Лаодикийского послания // Памятники литературы Древней Руси: Вторая половина ХV века. М.,1982). Нравственная свобода, познавательная сила человека понимаются в средневековом свободомыслии как «самовластие» последнего и находят отражение в ересях служилого человека Матвея Башкина и холопа Феодосия Косого.
В «Слове о лживых учителях», «Поучении» Стефана Пермского критикуется идеология стригольников [Стефан (Пермский). Поучение // Казаков Н. А., Лурье Я. С. Антифеодальные еретические движения на Руси XIV – начала XVI века. М.; Л., 1955]; этому же посвящены труды Патриарха Нила, митрополита Фотия. Монах Зиновий Отенский (XVI в.) в труде «Истины показание к вопросившим о новом учении» критикует нестяжательские высказывания Максима Грека и Вассиана Патрикеева [Зиновий (Отенский). Сочинение инока Зиновия «Истины показание к вопросившим о новом учении». Казань, 1863; Послание многословное // ЧОИДР. 1880. Кн. II].
В христианской картине мира знаки и символы – не синонимы. Знаки представляют собой объектную сферу значений в пределах реальности, а символы выходят за имманентную грань, указывая на мир трансцендентный, вне надмирный1251. Культура формирует сложную и многообразную знаковую систему, в которой происходят накопление, поддержание и организация опыта1252.
Обобщение этических концепций Средневековья позволяет сделать ряд выводов1253. Мораль в допетровское время выступает в своей мировоззренческой функции как принцип Божественного авторитета, как система заповедей, идущих от Бога. Нравственная деятельность человека детерминируется в виде служения Богу1254, и соответственно аксиолого-аксиоматическое воззрение на мир, назначение человека и общества не отделяется от религиозного миросозерцания. Для этой эпохи характерна нерасчлененность собственно морального сознания с другими формами сознания как индивида (личности), так и общества, и нравственности как специфического способа регуляции с иными нормативами (религиозными, социально-бытовыми, нормами естественного права и фиксированного права в церковных и гражданских установлениях, сословными кодексами чести и внутрикорпоративными авторитарными императивами)1255.
Средневековых мыслителей в общем мало волновал вопрос о специфике морали по сравнению, скажем, с обычаем и традицией, нравом и принципом авторитета, «естественным законом» сотворенного Богом мира и религиозными добродетелями веры, надежды и любви. Более того, в сфере теологизированной философии оказывается принципиально невозможным выделение этики, эстетики и самой аксиологии с их специфическими предметами как особых способов воззрения на мир, отличных от других форм миросозерцания1256.
Христианское богословие, и в частности русская теологизированная философия, представляет собой синкретизм онтологической, гносеологической и ценностной (нравственно-этической, отчасти также эстетической) проблематики, соответственно важнейшие нравственные проблемы приобретают богословскую (теологическую), религиозно-философскую форму1257. В таком аспекте соотношение добра и зла выступает под оболочкой конфликта Бога и дьявола, Горнего и дольнего (социально и исторически детерминированного) – как конфликт духа и тварного (вещественного), души и тела; проблема свободы выбора – в качестве соотношения человеческой воли и Божественного предопределения; задача морального самосовершенствования человека – под знаком аскезы и восхождения к Богу; осуществление общественного идеала выступает как стяжание Царства Божьего; оправдание социальных порядков и истории принимает вид теодицеи и т.д.
Гражданско-государственной идеологии, базирующейся на христианском вероучении (или тождественной ему), необходимо было примирить дуализм мира, Божественное всемогущество и всеблагость, пессимистическое воззрение на дольнюю жизнедеятельность человека и оптимистическое представление о Божественном промысле (провидении). Таким образом, категории средневекового мировосприятия априори по своей сущности аксиологичны, следовательно, нравственность аксиоматична и детерминируется их единством и сущностной тождественностью. То, что человеку Средневековья представлялось гомогенным (единым), находящим завершение в Божестве, и на самом деле обладало единством, образовывало нравственный мир – эйкумену – людей эпохи. Таким образом, в христианском миропредставлении онтологическое и аксиологическое определения любых феноменов остаются неразличенными.
Одним из существенных моментов такого миропонимания и является «растворение» специфически моральной проблематики в общем комплексе богословских и смысложизненных вопросов. Моральные проблемы оказываются вполне подчиненными вопросам богословско-догматическим и религиозно-философским, а их решения предопределяются логикой и способом решения, которые только и укладываются в систему христианских (ортодоксальных) догматов.
Одновременно именно в допетровской Руси интенсивно идут процессы самопознания, аксиологической рефлексии, формирования обществоведческой и религиозно-философской мысли. Признание мировоззренческой силы и гносеологической слабости средневековой религиозной философии, ее этики и эстетики вовсе не означает, что утверждается тезис, согласно которому Античность и Средневековье ограничили свой нравственный и эстетический поиск советами и рецептами устройства жизни в «неразумном» мире.
Уже в условиях Средневековья гносеологический потенциал непрерывно изменялся и обогащался. В той части, где этическое знание являлось призывом к перестройке нравственных отношений, образа жизни, призывом к поискам «истинного смысла жизни», к совершенствованию человека и т.п., оно выступало как специфический вид мировоззрения. В той же части, где этическое знание пыталось объяснять уровень нравственного развития, мотивы человеческих поступков, обосновывать выдвинутые цели и идеалы, оно выступало как специфический вид знания. В этом – единство мировоззренческого и гносеологического, причем мировоззренческому элементу (функции, самому духу этического знания) принадлежит ведущая, определяющая роль, что вытекает из целевой природы аксиологического сознания и этического знания.
В мире средневековых представлений духовность оборачивается материальной силой, а материальная сила позволяла сбыться-осуществиться созерцаемому духовному образу: так, «град» – это образ одухотворенной социо-вещности, образ человеческой общности, воплощающий мировой смысл; это и церковная община, и храмовое здание, одновременно обращенное к городу и дарующее народу надежду на победу над видимыми и незримыми врагами, и город со всеми своими нуждами и проблемами внутри его земного бытия.
Таким образом, особенности нравственного сознания допетровской Руси детерминировались функцией христианской морали как всеобщим аксиологическим кодом, позволяющим всем членам общества, да и Православной Эйкумены в целом, осознавать себя в своих социальных, политических и духовных амбициях гомогенно. Социально-индивидуальный нравственно-эстетический шаблон норм и ценностей имеет внутреннюю иерархию – он предполагает неравенство моральных обязанностей и прав в отношении людей различного сословно-группового статуса, неравную нравственную вменяемость и воздаяние – это так называемая мораль отцов и детей (старших и младших), конституирующе-определяющая социально-нравственную иерархичность (неравенство) собственно сословий и индивидов1258.
К специфическим особенностям традиционной аксиологической (нравственной) ментальности, характеризующейся прежде всего аксиоматичностью, относится следующее:
– доминирующий аксиологический шаблон «отец – сын» фундировал систему строго фиксированных сословных перегородок и отношений личной зависимости, устойчивости форм хозяйственного и бытового уклада1259;
– нравственная задача жизни в обществе сводилась к исполнению обязанностей, постулируемых социально-религиозной системой норм и правил; идеи иерократии, автократии и иерархии имплицитно присутствуют в образе божественного домостроительства, порядка и гармонии и детерминируют нравственный долг как священную обязанность, противостоя морали персонифицированного индивидуализма (гуманизма)1260;
– главным элементом структуры нравственного сознания являлся кодекс сословной чести с его контрольно-императивным механизмом (отношения вассальной зависимости, «покровительство» и вся система социальной иерархии общества закрепляли требования «чести» и «верности» как самых распространенных нравственных установлений)1261;
– идеи «вольности» и необходимости «жить по правде», восходя корнями к родовому строю, были средством нравственно-психологического сплочения социальных групп и всего общества в целом;
– бытовое мышление оценивало материальные выгоды как знаки сословно-иерархического престижа (обладающая практической полезностью вещь оказывается в ценностном плане менее значительной, чем та, которая несет на себе знак власти, благородства, чести, славы, святости и т.п.)1262;
– право отражало-фиксировало экономические порядки и социально-общественное (государственное) устройство как важнейшие черты нравственно-психологической атмосферы в обществе1263;
– обрядо-символические процедуры гражданско-церковного быта как устойчивые наглядные образцы способствовали «ритуализации» поведения (символизм являлся средством интеллектуального освоения действительности)1264.
В результате всего этого человек в структуре средневекового общества становится многоликим – он и господин, и раб одновременно1265. Становится более дробной и дифференцированной иерархия отношений в семье и обществе: из идеи рода, от общины, расходясь кругами, создается реальный мир средневекового русича – свои и чужие, близкие и ближние, друзья и товарищи, гости и враги1266; формируются грани феодальной иерархии со множеством ступеней подчинения.
Древнерусский город1267, являясь основой нравственного уклада жизни, выражал пространство публичной коммуникативности, место новаций и грамотности, выступал центром притяжения надежд на лучшую долю. С образованием городов произошел переход от патриархальной семьи из нескольких поколений к малой семье, в основе которой лежал принцип партнерства, взаимодополняемости1268. Для семейных отношений того времени характерно противоречие между морально-дидактическими образцами церковной и светской литературы (рассказы о мудрости материнского воспитания, материнской любви) и реальными нормами нравственного поведения, которые имели место в семье, где главой являлся муж, а по отношению к детям, особенно в среде бедноты, превалировала «традиция любящего небрежения»1269.
Социальная стратификация древнерусского города сопровождалась выработкой общих ментальности и стандартов поведения, особого взгляда на мир, комплекса идей, формирующих мировоззрение каждой из групп (князья, духовенство, дружинники, ремесленники, купечество, маргиналы – изгои, калеки, нищие, юродивые)1270. Так, купечество как особый нравственно-психологический тип совмещало в себе противоречивые качества: беззастенчивое стяжательство, культ экономии, крайний эгоизм, потребительское отношение к людям, пренебрежение моральными заповедями и вместе с тем «коммерциализация» отношений с Богом (пожертвования в пользу Церкви, филантропия).
Появление маргиналов формировало отношение к нищенству как средству нравственного совершенствования народа, воспитания умения и навыка любить сирого, убогого человека. При этом характерным для всех групп являлось: усиление сословного начала (наследственность служения и социального положения); строгое определение правовых привилегий в каждой из групп; возрастание роли семьи; стремление к обеспеченности и безопасности; ориентация на новые формы солидарности, основанной на единстве христианской веры; традиционализм мышления.
Власть князей и дружинников на Руси (до XI в.) касалась не столько внутреннего управления, сколько сфер внешнеполитической и военной1271. Мировосприятие и стиль жизни складывались на традициях варварского общества, стремящегося к обогащению за счет набегов на цивилизованные и богатые страны и народы (походы викингов); образ действий вождя и стратегия его войн еще не рассматривались как служение государственной пользе. Идеал князя дружинного периода (Святослав, IX–X вв.) предусматривал: умение увлечь за собой личным примером в битве, свободолюбие, непритязательность во время походов, сознание превосходства над другими народами и «законных» прав на завоеванные земли1272.
После принятия христианства статус князя, его «честь» и «слава» уже в большей степени зависят от успехов в оборонительных войнах; социальное неравенство воспринимается как часть Божественного порядка – небесной иерархии, которая на земле воплотилась в сословную форму. В XIII–XIV вв. характеристики князя дружинного периода (мужество, готовность к битве, решимость идти до конца, твердость при исполнении начатого) дополняются чисто христианскими добродетелями – нищелюбием, смирением, постничеством, благочестием1273.
Противоречивость нравственного поведения князей проявлялась в жестокости во время княжеских междоусобиц, что приводило к осознанию своей греховности и поиску спасения в религии (прилежание в молитве; усердие в построении храмов Небесному покровителю и разрушение храмов врагов с целью лишить противника Божественного заступничества, овладев его наиболее чтимыми реликвиями; паломничества по святым местам; стремление обрести небесное покровительство)1274. Под влиянием христианской этики нравы смягчаются: господство права сильного, корысть, животная чувственность постепенно вытесняются идеалами святых правителей и святых мучеников.
В становлении русской цивилизации значительную роль сыграло духовенство1275. Во главе церковной иерархии крупного княжества стоял епископ, который «назирал» за чистотой веры и вершил церковный суд по сборнику правил, образцом для которого служил византийский Номоканон1276; духовные лица (митрополиты, епископы и даже игумены) отправлялись послами, участвовали в заключении договоров, призывали князей к борьбе с вторгавшимися в русские земли иноземцами, сопровождали войска в походах1277.
Культура духовенства была многослойна: к примеру, глубоки различия интеллектуального уровня и быта иерархов, духовной элиты и низовых сельских священников, еще ориентированных на языческие стереотипы массового сознания, белого и черного духовенства (по уровню образованности между этими полюсами существовали всевозможные прослойки).
Сложившаяся в христианстве догматика и довольно сложная богословская система стали достоянием немногих избранных (митрополит Иларион, Климент Смолятич, Кирилл Туровский, Авраамий Смоленский, Максим Грек, митрополит Макарий, Иосиф Волоцкий, Патриарх Никон и др.). Книжники, владевшие методом аллегорического и символического толкования Священного Писания, не могли не сознавать, что требовать от народных масс, в том числе горожан, всеобщего знания и понимания догматов веры практически бесполезно. Единицам было дано достичь героической религиозности – святости и вникнуть в богословские и религиозно-философские тонкости. Отсюда ориентация богословской литературы и проповедников первых веков восточнославянского христианства на народное восприятие, тяготевшее к магическим формам представлений и практики. На первый план выдвигается личность Спасителя. Она привлекает наглядной образностью, почти осязаемой материальностью духовной сферы, снизошедшей в земную действительность1278. Святой на земле уподобляется Христу в разных его ипостасях – инок, анахорет, страдалец за веру и т.д. – все объединяет евангельский идеал.
Исходя из множества письменных памятников (берестяные грамоты, граффиты), историки делают вывод, что «почитание книжное» благодаря усилиям духовенства было распространено не только среди людей Церкви, но и в широких слоях горожан1279. Книжник на Руси – человек, отмеченный божественной печатью, «философ», мудрец. Создавая произведение, он совершал своего рода «действо», «чин»: на него нисходит Божье вдохновение, озаряющее разум. В обыденном сознании книжное «писание» приобрело почти сакральное значение, а чтение приближалось к исполнению обряда1280. Духовные лица восхваляют любовь к чтению: «Если властители мира сего и люди, занятые заботами житейскими, обнаруживают сильную охоту чтению, то тем больше нужно учиться нам и всем сердцем искать сведения о слове Божием, писанном о спасении душ наших» (XII в.). Постижение человеческой природы через Библию, книги Святых отцов, церковно-учительную литературу помогало человеку взглянуть на себя самого в соотнесении с нравственно-этическим идеалом, заданным Христом1281. Вместе с тем в трудах Нестора Летописца, Феодосия Печерского, в поучениях Серапиона Владимирского обозначается идейно-религиозное направление, критически относящееся к спонтанной активности разума, души и тела как самоданному достижению знаний о мире, житейского опыта1282.
Осмысление истории в средневековой культуре Руси происходит на основе двух тенденций: книжной, идущей от богословия, и устной (фольклор), тяготеющей к сближению с социальной и политической действительностью. На пересечении этих потоков возникает основной фонд оригинальной литературы Древней Руси, в которой взгляд на историю и пути развития государства увязывается с решением задач обоснования независимости Руси перед лицом Византии, утверждения идеи единства земли Русской, усиления мощи державы; историософия обусловливается в первую очередь моральным фактором в бытии1283. Эти мотивы определяют идейную направленность русских летописей.
Наличие аксиологических начал в трактовке почти всех социально-политических и религиозно-философских (метафизических) проблем является следствием максимализма смиренной совестливости, задававшейся установками христианского вероучения с его понятиями греха и искупления1284.
Историзм в трактовках древнерусских авторов проявляется:
– в стиле «монументального историзма», предполагающего специфический «универсализм» в видении истории1285;
– в понимании соотношения вечности и времени; в сопряженности прошлого с будущим, что создает историческую глубину1286; в циклическом восприятии времени, на чем базировался древнерусский жизненный оптимизм;
– в описании родовой традиции, согласно которой деяния отцов и дедов составляют основу «славы» живущих потомков; в прославлении князей.
Сущность историзма определяется в категориях универсализма и провиденциализма. Универсализм во взгляде на историю отражал тенденцию универсальной зависимости событий от мира Горнего, трансцендентного. Земное и небесное противопоставляются как добро и зло. Через христианскую концепцию истории вводится и осмысливается в древнерусской литературе тема судьбы древнерусского государства1287. Так, факт феодальной раздробленности воспринимается как естественный и закономерный, в связи с этим для обоснования неизбежного компромисса между процессами децентрализации и централизации на Руси книжники разрабатывают своеобразный принцип отчины1288. Его суть в том, что все древнерусские князья считались представителями единой семьи, родичами, и образовывали по старшинству одно генеалогическое древо, а вся «земля Руськая» представлялась «древом» областей, которые отличались друг от друга по своему значению.
В пределах концепции отчины особые усилия прилагались к разработке норм, этически ограничивающих произвол государственной власти, что приобретало особую актуальность в условиях междоусобной розни. Принципы братской любви, уважения и безусловного подчинения младшего старшему провозглашались едва ли не основными добродетелями государственного деятеля1289.
Провиденциализм способствовал осознанию того, что мировая история вершится по Промыслу Божьему1290. Нравственный аспект провиденциализма проявляется в том, что причиной неблаговидных дел оказывается отступление от Божественного предопределения – закона. В связи с этим несчастия используются летописцами в нравоучительно-назидательных целях1291. С этим связано характерное для древнерусских книжников стремление убеждать не столько положительным примером, сколько доказательством от противного, – стремлением найти прагматические причины исторических событий, действий их участников.
Таким образом, онтологические аспекты социально-исторического бытия – философско-историческая доктрина национальной независимости и исторического оптимизма – выводятся из сближенности Божественного и земного планов бытия (митрополит Иларион; инок Филофей, Патриарх Никон)1292, а имплицитный гносеологический концепт открывает мощнейшее творческое начало, задаваемое историческим и священным авторитетом в вопросах познания Бога, общества, истории. (В русле особенностей постановки и решения нравственных задач влияния на сознание русского общества важно понимать то, что отечественные мыслители проявили и знание, и творческую индивидуальность, отказываясь повторять схемы византийской историографии, – к истории проявляли наибольший познавательный интерес в силу того, что последняя представлялась динамичной сферой жизни, в которой сфокусировались религиозные, этические, экономические, политические интересы и пристрастия; история воспринималась как актуальность, действительность, требующая немедленного совета, рецепта, толкования, поэтому нравственные нормы, ценности и императивы иллюстрировались, апробировались прежде всего на историческом материале.)1293
Итак, моральное измерение историософии в допетровской Руси проявляется:
– в могуществе христианского Бога1294; в объяснении причин событий действием надмирной Божественной воли и Божиим промыслом о мире1295;
– в исторической неотвратимости Божьей кары, обусловленной нарушением закона Любви, горделивым самомнением, своеволием и своекорыстием1296;
– в нормированности жизни личности христианским смирением, аскетизмом, распятием греха и мученической смертью за веру, которые предполагают личное спасение1297;
– в выявлении источников добра и мира: Бога, ангелов, святых, людей, добрых по самой своей природе1298; в раскрытии идеи о человеколюбии и попечении Божьем над человеком1299 и объяснении власти зла «ослаблением Божьим»1300;
– в понимании добра как того, что несет благо Русской земле, зла – всего, что угрожает ее процветанию; в оправдании жестокости расправы над князьями-изгоями со стороны старших в роду1301;
– в признании за человеком свободы воли и связанной с этим идее ответственности человека за свои поступки1302;
– в привнесении моральной дидактики: наличие высоких идеалов, норм, образцов поведения; нравственное измерение поступков, событий, фактов, нравственный патриотизм; терпимость к инакомыслию и иноверию1303.
Особенностями правовых отношений в допетровской Руси являются: неотделимость правового статуса от его носителя; высокая степень регламентации индивидуального поведения в обществе вплоть до ритуализации и связанная с этим экстериоризация моральности; неотделимость права и обязанности от аксиологической оценки индивидов, входящих в группу.
В гражданско-общественных отношениях правовой статус князя был неоднозначен: он был гарантом права в пределах своего княжества и нарушителем за его границами. Существование права в виде традиций, верований, полуосознанных убеждений, укоренившихся навыков и фактическое отсутствие правовых гарантий (никто из власть имущих не был застрахован от конфискации имущества, выжигания глаз, ссылки на покаяние в монастырь и т.п.) приводило к созданию атмосферы недоверия, настороженности, личной замкнутости между отдельными князьями и княжескими родами, ветвями1304.
Нераздельность гражданско-государственных институций, собственно конфессиональных и государственно-административно-политических функций в истории развития Руси выразилась в том, что крестителями Руси и ее первыми святыми были князья (в этом аспекте интересны взаимоотношения власти клерикальной и светской – Церкви и государства1305). С течением времени происходило изменение роли князей в становлении государственных отношений: если в IX–X вв. они были главным консолидирующим фактором, то в XI в. стали фактором нестабильности. Традиционная древнерусская парадигма власти выражалась в идее самовластия – самостоятельного правления князя. При этом княжеская власть как таковая, по праву княжеского рода, не могла быть ни беззаконной, ни тиранической – представление о тирании, «деспотизме» и самовластии отдельной личности не вписывалось в данную парадигму (картину мира).
Данная первыми русскими книжниками и позднейшими эпическими сказителями моральная оценка начального периода русской истории как идеального времени всенародного единства, героических свершений и обретения истинной веры была основана на восприятии современного периода как времени «эпического» и одновременно «исторического» мира. Фиксация внешних границ Русского государства и мир с иными странами соответствовали «исторической» внутренней сплоченности и миру на Руси, тому миру, которого добивались и первые русские князья.
Традиция обличения власти впервые была выражена в летописном повествовании «Слово о погибели Руской земли», где проявилось критическое отношение к князьям, неправедность, опрометчивые поступки и несогласованные действия которых предопределили дальнейший негативный ход исторических событий (осознание катастрофы было подготовлено эсхатологизированной мудростью русской книжности). Но эсхатологическое мироощущение преодолевается уже в XIII в., а в социальной обстановке XIV–XVII вв. становится невозможным порождение моделей восприятия и действий по типу былинных отношений богатыря и князя. Обычаи русского Средневековья с течением времени меняются, но общим при этом остается неразделенность образно-поэтического, символического и нравственного мотивов в культуре.
Становление идеи власти на Руси происходило в контексте соперничества прогрессивного эсхатологизма и глубинно-корневого традиционализма. Фундаментальные основы самосознания отечественной культуры закладывались путем отбора, адаптации и «редактирования» в ходе нравственной практики идейно-религиозных источников христианства. Влияние традиции на деятельность великокняжеской власти выразилось в приверженности князей «религиозному рационализму» и обращенности к миру, в стремлении, опираясь на тексты Священного Писания, Отцов Церкви (особенно Иоанна Дамаскина) и некоторые еретические идеи, различными доводами приспособить христианское вероучение к реальности отношений в социуме.
Решение земных проблем виделось русскими мыслителями исключительно в охранении, защите и совершенствовании нравственного образа жизни и приближении его к идеалу, что должно было обеспечиваться деятельным, энергичным, христолюбивым и милостивым князем – защитником и охранителем Русской земли. В трудах книжников при создании нравственного образа великокняжеской власти совмещались идеалы светские и церковные: дружинные добродетели легко присоединялись к церковным и осенялись венцом святости1306.
Идея нравственного максимализма и подвижничества нашла отражение в трудах Нестора. Он показал нравственно-деятельный тип мудрости: монах побеждает мир подвигом аскезы и воздержанием (смерть для мира); подвиг князей Бориса и Глеба – добровольная смерть ради преодоления притяжения плотского, суетного, уводящего от Бога земного бытия – братско-междоусобной вражды. Образцом нравственно-идеального поведения оказывается аскетизм, послуживший исходным принципом идеологии нестяжательства, которое в XVI в. благодаря Нилу Сорскому и заволжским старцам вырастает в мощную самостоятельную идейно-религиозную и нравственную традицию. Практическая же философия «Изборника» (1076 г.) в качестве нравственных мотивов власти выдвинула и на столетия закрепила идею «добрых дел» – нищелюбие, милостыня, умеренность и терпимость к инакомыслию.
В тексте «Поучения» Владимира Мономаха заложена идея гармонизации общественных отношений, равноправия всех перед законом: законность практически отождествляется со справедливостью, предполагается равная ответственность «малых» и «больших» людей; сплетение юридических норм и нравственных принципов отразилось в представлении о нравственности патриотизма.
Древнерусская письменность создала идеальный образ представителя той или иной страты (корпоративного слоя) общества. Наиболее полно в этот период представлены характеристики трех из них – княжеского, воплощающего представление о светском нравственном идеале, духовного, исходящего из церковного идеала, и внесословный образ «святого», зависящий от общехристианского идеала1307.
Особенности утверждения свободы как нравственного идеала в менталитете Древней Руси (в частности, в системах власти и знаний) проявлялись следующим образом:
– в свободе Церкви, которая в идее не сливалась с государством и довлела последнему, требуя от носителей княжеской власти подчинения идеальным началам не только в личной, но и в политической жизни: верности договорам, миролюбия, справедливости;
в ограничении свободы князей со стороны духовенства и старшего боярства1308; в формальном ограничении княжеской власти (в форме присяги в Новгороде) традициями «отчины» и «пошлины», охранявшими личные права;
– в отсутствии юридического закрепления, по сравнению с западно-католической традицией, личной и политической свободы; в недостаточном развитии государственных начал, отсутствии единства, что привело к потере государственной свободы в результате монголо-татарского ига1309;
– в защите духовной и аристократической свободы удельных княжеств «заволжскими старцами» и княжьим боярством против православного Московского «ханства»1310;
– в росте холопского самосознания как реакции на победу опричнины над родовой знатью, на варваризацию правящего слоя, усиление эксплуатации трудового населения. Время становления Московского царства характеризуется новым типом нравственно-мировоззренческих установок и принципов:
– укрепление мощи государства и проведение политики «национализации веры и Церкви»1311; полемика (в трудах книжников) как форма осмысления новых явлений в нравственном образе власти, ее началах и пределах, обусловленных утверждением самодержавия1312;
– преобладание обрядового аффективного ритуализма как основы жертвенного подвига; смена героического настроя киево-русской военной доблести ценностями труда как основы Царства (Империи);
– культивирование в быту черт негативного отношения и беспощадности к падшим (вероотступникам), жестокости к провинившимся; торжество власти над обществом (автократия), насилие над людьми1313;
– выражение русского идеала воли в культуре разбойничества, бунта и тирании;
– стремление Церкви (в Стоглаве, Великих Минеях Четьих, Домострое) «практически» закреплять и применять канонические и святоотеческие нормы в решении гражданской властью бытовых проблем – клерикализация права).
Концепция власти Московских государей – самодержавие – укоренена в теоценризме, связана с теодицеей и идеей русского мессианизма: идеи величия, богоизбранности Русской земли, божественной предназначенности Русского царства, богоустановленности власти царей для русского человека связаны с религиозно-философским, мировоззренческим концептом «Святая Русь», она является в некотором смысле всем миром – Вселенной, – вмещающей даже рай1314. Одновременно с этим имело место неограниченное самовластие Московского Царя, своеобразие деспотизма которого (митрополиты, назначаемые фактически Царем, им же и свергались) было обусловлено более всего преемственностью власти от Византийских Императоров и Ханов-завоевателей1315.
Принцип божественного происхождения власти означает принятие бремени власти, при этом объяснение княжения как обязанности, предуготованной свыше, предполагает священный авторитет власти1316. Подвижническая жизнь святых угодников от рождения и до смерти также ставится в прямую зависимость от Божественного предопределения и промысла.
Концепция «богоданности» власти князя утверждала идею его единовластия (князь не нуждается в посредниках в отношениях с подчиненными и с Богом). Концепция «богоугодного князя» отстаивает идею приоритета духовенства по отношению к светской власти. Нравственный идеал князя создавался на примере деятельности Владимира Мономаха, государственного деятеля, политика, ставящего долг перед Отчизной превыше всего. Идеальный образ князя, описанный Владимиром Мономахом, основывался на таких христианских добродетелях, как упование на Бога, смирение, терпение, кротость, богомыслие, довольство своей участью и беззлобие, хождение к святым местам. Утверждение образа идеального князя как носителя христианских добродетелей связывается с напоминанием о «призрачности» земных благ перед лицом «высших» ценностей «потусторонней» жизни.
Идеальный князь берет на себя все тяготы управления; патриархальные отношения и труд должны прийти на смену роскоши и безделью. Следствием признания самоценности человеческой жизни князя, над которой никто из людей не может быть властен, является принципиальный отказ от смертной казни. Таким образом, типизация идеального образа строилась на обобщении характеристик героического, чести, славы, отеческой заботы обо всех подданных, благотворительности, справедливости, мудрости, скромности, защиты веры и Церкви, мужества и благочестия1317.
Важным моментом в формировании образа князя является его восприятие как мужественного, отважного военачальника – носителя воинских добродетелей. Приоритет принадлежит добродетелям, традиционно связанным в народном сознании с образом храброго воина, защитника и охранителя. Идеал породненности князя с дружиной в древнерусских летописях утверждается, в частности, благодаря неоднократному акцентированию большей значимости для князя верности дружине, нежели богатства1318.
При оценке нравственного облика князя использовалась также гносеологическая концепция, согласно которой князь – «разум», представляя высшее качество души, получает данные об окружающей действительности от слуг – «чувств». С точки зрения принципа гармонизации духовного и плотского начал (разума и чувств), некоторые княжеские действия оправдываются несовершенством слуха, неспособностью отличить ложь от правды. Вместе с тем подчеркивается, что власть в грехе проявляет себя как грубая телесная сила, яростное начало которой призваны сдерживать вера и пост, а также религиозные предписания и советы духовных наставников.
Светский образ князя подразумевает акцентирование его силы, воинского опыта, организаторских способностей, деловых и личностных качеств. Вместе с тем отношения князя с подданными противоречивы: наряду с распространенным в апологетической литературе образом «доброго» князя – «защитника» людей, который неустанно печется об их благе, памятники древнерусской культуры свидетельствуют и о наличии антагонизма между представителями этих двух полюсов социальной жизни1319.
Моральные основы согласия и государственного единства детерминировались тем, что в условиях двоеверия христианство стало инструментом решения задачи консолидации власти и государственности на Руси. Христианская религия воспринимается в этом контексте как культ страдания и отрешения от всех радостей и наслаждений (гедонизма), связанных с традициями старого быта. Нравственный героизм князя на этом поприще состоит в избрании пути ратоборца новой государственной идеологии – христианства. Христианство в лице русских подвижников стремится укрепить в князьях добрую волю, сохранить междукняжеское согласие. Так, огромный нравственный авторитет подвижника Феодосия обретает качество политической силы и влияния. Князья ищут его расположения, понимая, как важно для них благословение великого подвижника. Феодосий же осознает свою силу в окормлении княжеской власти, призвание нравственно руководить ею и направлять ее в деле государственного устройства – буйству и своеволию князей подвижники противопоставили заповедь смирения, братолюбия, послушания.
Воинская доблесть и героизм как нравственная цель обусловлены противоречивостью фигуры князя на Руси1320. Как суверен – носитель государственной идеи, руководитель дружины – он выступает представителем своей страны и народа. Как охотник за соответствующими его родовому старшинству княжениями он теряет черты охранителя и строителя государства, представителя организованного сообщества и становится главой кочующей дружины (отсюда воинский пыл и жажда военных подвигов князя). В таких условиях акцентируется значение военно-профессиональной доблести, которая проявляется как героическое безумство (князь Игорь), а наряду с мотивом «искания славы и чести» возводится в ранг нравственного поступка и приобретает характер нравственной цели.
Новое же понимание моральных целей правителя состоит в порицании братоубийственных войн и подчеркивании нравственного долга князя, который видится в защите родной земли. В «Слове о полку Игореве» разработаны этические категории «честь», «слава», «хвала», «хула», «обида» и т.п., которые являются добродетелями князя и имеют конкретное нравственное содержание.
С усложнением социально-культурно-экономического развития трансформировались и политические взаимоотношения, начали ломаться старые порядки в быту и государственном управлении, в местных религиозных установлениях. Усиливающаяся борьба между старым боярством и поднимающимся дворянством требовала усиления государственного управления и его централизации. Укреплению царского самодержавия способствовали автокефалия Русской Церкви, ее отделение от Константинопольского Патриарха и иерократическая модель ее управления.
Сформулированная идея об особой роли России (третьего Рима, Ромейского царства) как единственной православной державы, уцелевшей среди «изрушившегося» христианского мира, хранительницы и защитницы наследия Вселенского Православия, стала незыблемой основой (архетипом) государственной идеологии. В связи с этим и поэтому главной задачей становились не реформы в государстве, а защита его от растлевающих антигосударственных и антицерковных сил (данное положение послужило идеологической основой социально-государственного деспотизма Ивана Грозного и вместе с тем выявляло его почти неофитскую религиозность; подобным можно объяснить и коварство «тихости» Алексея Михайловича1321).
Нравственная оппозиция самодержавному всевластию выражалась А. Курбским в идее о существовании «свободного естества человеческого» и «естественного закона», осуждающего такие явления русской жизни XVI в., как насильственное крестоцелование и казни «без суда» по наветам «ласкателей»; по Курбскому, неограниченное самодержавие противоречит сущности христианского вероучения, а Самодержец подобен «древнему отступнику» сатане, забывшему, что «сотворение есть» и возомнившему себя богоравным по мудрости1322. Таким образом, нравственная оппозиция проявлялась в свободолюбии, отсутствии холопского настроения, отказе сложить свое человеческое достоинство к ногам Государя, в защите общества и личности от усиления автократических тенденций1323.
Итогом идейных исканий русских мыслителей середины XVI в., знакомых с западными источниками (Максим Грек, Иван Пересветов, Иван Грозный и Андрей Курбский), явились превалирование «русской почвы», доминирование скорее «византие-турецкой» модели властной пирамиды в решении государственных проблем, нежели западной, склонность к идее повсеместной зависимости от власти всех сословий и граждан. Обоснование этой позиции предполагало поиск своеобразных аргументов, и прежде всего нравственных, позволяющих снова и снова подтверждать избранность власти. Концепция неограниченности царской власти («Беседа преподобных Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев») выражается в заботе Царя о благочестии, об исправлении церковных книг, в утверждении необходимости царской грозы1324.
В трактатах социально-экономического характера (Ермолай-Еразм) присутствует критика общественной несправедливости, дается высокая нравственная оценка труду, терпению, благочестию, анализируется проблема нравственных связей между людьми различных социальных групп1325. При этом утверждается, что человек не может быть творцом себя самого – ни внешне, ни внутренне, – а может лишь совершенствоваться, поскольку в нем запечатлен Божий образ.
В общественной мысли обсуждаются идеалы христианской гуманности, приятия жизни, постепенно распространяются идеи утверждения человека, равенства народов (Повесть о Петре и Февронии Муромских). Идеи просветительства (И. Пересветов, Ф. Карпов) вырастают из ощущения и осознания неустроенности общества; они отражаются в формулировании принципов государственного строительства, вытекающих из добродетелей «правда», «закон», «милость»; в высокой оценке «философских знаний», «науки», «мудрости», которые необходимо поставить на служение политическим идеалам; в использовании категорий правды для характеристики справедливого устройства власти и государства; в неприятии кротости и терпения.
В светских этических концепциях начинают сближаются понятия «закон» и «добро», «справедливость» и «правда», т.е. право и мораль. Именно законность, справедливое правление Государя благоприятствует развитию и укреплению здоровых нравов, формированию людей с высокими моральными качествами. Так что правда власти должна соотноситься с правдой жизни и Божественной правдой1326.
Итак, русское общественное самосознание XVI в. характеризуется эксплицитно-имплицитным единством, аксиоматичностью нравственных идеалов. При этом почва для развития социальной, бытовой самокритики не была подготовлена. При очевидном стремлении официальной культуры к цельности XVI в. становится веком споров, полемики, затрагивающих прежде всего идею и практику монаршей власти, ее отношение к Церкви и народу. В отличие от XVI век XVII являлся переломным между старым и новым мировоззрением. Приобщение к европейской художественной культуре стало первым шагом на пути оформления критической тенденции в русском общественном самосознании1327. При этом очевидный закат Древней Руси переживался как мучительная утрата, национальная и личная катастрофа, вызывающая желание понять, чем плох освященный временем старинный уклад.
Идея раздвоения (Иван Тимофеев1328) как проблема русской истории и культуры выражалась в следующем: разделение предшествовавшей культуры на две противоположные, каждая из которых осмысливает противостоящую как антипод, как антикультуру (опричнина и земщина); раздвоение личности монарха (Иван Грозный и Симеон Бекбулатович); рассечение пространства Русского государства (Москва, Александровская слобода и Вологда); разделение времени (старое и новое, прошлое и будущее).
В сочинениях мыслителей XVII в. подчеркивается важность для общества и его процветания единого справедливого законодательства, взаимоответственности власти и граждан, союза мудрости и власти, главенства знания и просвещения (С. Полоцкий). Главным критерием гражданского общества считается справедливость по закону. Справедливость, справедливый суд всегда соотносится с должным наказанием за содеянное зло.
Трактовка мыслителями XVII в. (Ю. Крижанич1329) макиавеллиевских идей отражала укоренившуюся в западном политическом теоретизировании манеру открещиваться от «макиавеллизма» как скопища пороков, но при этом пользоваться отдельными мыслями Макиавелли, не называя его. Итак, в допетровскую эпоху русская публицистика стремилась еще нарисовать образ идеального государя в средневековом духе. Для пессимистических оценок государственного ремесла в целом, с которыми мы встречаемся у Макиавелли, места в ней не было (Патриарх Никон, Царь Алексей Михайлович). Точно так же не наступило еще время для подлинной десакрализации власти, для подчинения религиозного культа интересам государства. Если такие попытки и делались, то они шли в русле реформаторского религиозно-государственно-правового регулирования (Царь Алексей Михайлович, Симеон Полоцкий)1330, т.е. опирались на первенство веры. В то же время политическая практика на Руси была не менее жестокой, чем в Западной Европе, а центральная власть была столь же безраздельной, поэтому почва для усвоения западных политических идей эпохи абсолютизма вместе с проникновением чужеземной образованности существовала. До теоретического же обсуждения проблемы относительности добра и зла или допустимости безнравственных поступков ради общего блага должно было пройти время.
Нравственные проблемы морализаторства проявились в православной теократии. Мистический реализм (вся действительность признается эмпирической реальностью, но за ней видится и открывается другая реальность) во многом определил отношение церковного сознания к государственной власти. Точкой приложения Божьего промысла в истории является государственная власть – в этом вся «тайна» власти, ее связь с мистической сферой (Патриарх Никон).
В рамках иероавтократичской теории «Москва – Третий Рим» церковная мысль выдвигала прежде всего идею о том, что конечные судьбы мира связаны лишь с тем, что совершается в христианских странах. Не все христианские народы являются избранными, и в определении этого избрания идея «христианского царя» играла решающую роль. Подчеркивалась особая миссия русского народа, Русского царства, формулируется учение о «святой Руси», об универсальном всемирном значении России. Русские церковные круги транслировали византие-ромейскую идею священной миссии царской власти.
Учение о царской власти как форме церковного служения наиболее полно выражено в Духовных наставлениях Патриарха Никона, изложенных в виде тетрадей для Царя Алексей Михайловича. Святейший Никон говорит, что в Царе утверждается «таинственное», т.е. недоступное рациональному осознанию, сочетание начал божественного и человеческого, в нем освящается историческое бытие1331. Это не было движение в сторону цезарепапизма, как и наоборот. Это было стремление к ответственному служению властей духовной и светской и к реализации ответственного служения миру дольнему и Горнему. Церковь шла навстречу государству, чтобы внести в него благодать освящающую и просвещающую1332, поскольку точкой приложения Промысла Божьего в истории является государственная власть, в этом вся «тайна» власти, ее связь с мистической сферой. В связи с этим церковное сознание, развивая теократическую идею христианства, стремится найти пути к освящению власти. Власть должна принять в себя церковные задачи и потому церковная мысль, именно она, занята построением национальной идеологии. Власть же принимает эту созданную церковно-общественным сознанием и освященную Церковью идеологию и делает ее своим официальным кредо (вся эта идеология экклезиологична и по своему происхождению, и по своем содержанию), так что церковный логос горячо и напряженно уходил в темы историософии, завещав их будущей русской философии1333.
Таким образом, в рамках богословских споров на первый план выходило историософское содержание и связанные с ним вопросы морального сознания. Религиозные споры в допетровской Руси, имеющие характер клерикально-аксиологической казуистики, продолжали выработку и обсуждение мер соотносимости, равновесия идей божественных и человеческих начал в истории. В историософской «поэме о Третьем Риме» церковное сознание накренилось в сторону такого сближения двух порядков бытия, которое вело к их отождествлению. Формирование реалистического взгляда на историю открывало возможности для нового толкования человека и морали. На этом фоне мучительно шел процесс секуляризации российской власти и государства.
B XV–XVI вв. утверждается мысль о нравственной саморефлексии русского общества как единственного носителя Православия. Православие не имеет автономной этики как, например, протестантизм. Этика в православии – это по сути религиозная практика, образ спасения души. Религиозно-этический максимум достигается в монашеском идеале как в совершенном следовании Христу. Православие не имеет разных масштабов морали, не знает и разной морали – мирской и монашеской, – различие существует лишь в степени, в количестве, а не в качестве1334. В православии работа над внутренним миром человека называется духовным художеством, приравнивается к искусству.
Нравственным измерением российской государственности в православном богословии является понятие соборности. Уже на раннем этапе древнерусской государственности соборные принципы были привлечены в гражданское самоуправление и соединены с опытом вечевого строя, не только решавшего единоразовые проблемы (войны, мира, междугородних договоров, выборов князя), но и имевшего законодательные функции. Превращение Московского княжества в Русское царство1335 предопределило движение российской истории к державности и соборности, сопряженное с титаническими усилиями по сохранению духовно-религиозного содержания в мрачной и безнравственной истории политических интриг и борьбы за власть. Главные особенности соборной государственности следующие:
– единство религиозно-нравственного начала, положенного в основание державного строительства, государственной идеологии, общественного устройства, семейного быта и личного поведения граждан;
– единство государственной власти – надклассовой, надсословной, – ограниченной в своем повелевающем действии лишь верностью и соответствием общественным идеалам;
– единство духовной власти; «симфония» властей – государственной и церковной, духовной и светской; самостоятельность, единство и целостность каждой из властей, имеющих единый Божественный источник, но действующих в своих областях независимо.
Православные основы русской соборности – результат нравственно-религиозных исканий русского Средневековья. Уровень национально-религиозного самосознания на Руси – следствие пятивекового (XI–XVI вв.) церковного воспитания и размышлений о высшем предназначении России в истории человечества: представление человека и общности об отношении с Божественным стало в православной теократии образом «мы». Процесс этот завершился в XV–XVII вв. формированием церковно-государственного мировоззрения, полно и ярко выразившегося в общественной деятельности преподобного Иосифа Волоцкого и пророческих посланиях инока Филофея, державных деяниях Грозного Царя Иоанна и молитвенной благодати его «освятованного» сына Феодора, Святейшего Патриарха Никона, Царя и Великого Князя Алексея Михайловича. В основании этого мировоззрения лежала мессианская идея о России как о последнем прибежище благочестия, довлеющий образ которого был осуществлен символом Иерусалима Нового и поныне созерцается его монастырем Святого Живоносного Воскресения Христова1336.
Развитие деспотических тенденций выразилось в идее самовластия как автократии1337. Принцип клерикальной иерократии довлел социально-гражданским отношениям. Христианство, в отличие от язычества, несло новую систему ценностных ориентаций, санкционирующую проявление индивидуально-соборного начала в человеке, который самовластно выбирал между «злом» народных верований, обычаев, семейно-бытового уклада и «добром» христианского учения с его «земным небом» – Церковью.
Самовластие и самочиние выступало как идеологический мотив (как реализация в социодуховном мире) отрицания Церкви – «земного неба», – борьбы с ней, акцентировало внимание на векторе безотносительной свободы. Первый этап истории идеи самовластия ознаменован выдвижением и обоснованием понятий о самовластии души и ума человека («Лаодикийское послание» Федора Курицына, анонимный трактат «Написание о грамоте», полемика между Максимом Греком и его противниками Николаем Булевым и Федором Карповым)1338.
Следующий этап относится к рубежу 20–30-х гг. XVII в. (Лаврентий Зизаний, игумен Илья, справщик Анисимов). Проблема самовластия души и ума человека выступила как утверждение суверенитета личности, духовной и социальной свободы человека. В основе этой идеи лежала тенденция к демократизации Православия и его церковных институтов.
В истории идеи самовластия человека в XVII в. существенным моментом явился спор между идеологами и деятелями староверческого движения – протопопом Аввакумом и дьяконом Федором1339. Оба принадлежали к староверческому движению последней трети ХVII в. Федор расширительно истолковывал формулу о человеке как образе и подобии Божьем, предоставляя человеку право быть собственным судьей и ответчиком в путях своей жизнедеятельности, что не исключало поверки мыслей, поведения, действий идейно-нравственными критериями христианства. Федор утверждал за человеком право на собственное мнение и соответствующее ему поведение.
Аввакум идее самовластия противопоставлял идею равенства, понимаемого как одинаковость всех людей по их положению перед Богом и по естественной их природе. В этом понимании индивидуальность означала социальную привилегию. Он не принимал также идею самоценности человека, был противником «внешней мудрости», выступал против самостоятельных исканий разума и светских наук (спекулятивной, а также привнесенной иностранцами – иными культурами), поскольку в его понимании они суть средства нарушения богоданного социального равновесия. Аввакум отстаивал позицию «изравнения» – позицию индивидуально-незрелого человека, направляемого идеалом социальной правды1340.
Формирование идеи свободы происходило между двумя полюсами ее толкования: представления о свободе как ответственности, равенстве, одинаковости, выверяемой соборным разумом, и представления о свободе как равенстве, вытекающем из индивидуальной свободы, свободы действовать и мыслить, проявляя собственную индивидуальность. Постепенно индивидуалистическая тенденция саморефлексировалась, самоутверждалась, закреплялась.
Понятие самовластия аналогично другой метафоре русской средневековой литературы и письменной культуры – «духовный разум». В это явление постоянно вводились все новые и новые элементы духовного, все резче формулировалось представление о «духовном разуме» как разуме деятельном. Самовластие как развитие в направлении к «духовному разуму» лежало в основе ценностно-идеологической регуляции социального поведения, которая противопоставлялась регуляции традиционной1341.
Мотив самоценности человека («Лаодикийское послание» Ф. Куницына) отстаивает как наивысшую духовную ценность пророческий дар, сопряженный со знанием Божественных тайн, мудростью. Логическим продолжением идеи самовластия являлась догадка об извечности и бесконечности мира, о самобытийности мира (Феодосий Косой). Таким образом, идея самовластия, которую внесли еретические движения в историю русской общественной мысли, имеет большое значение для социоментальной динамики.
Нравственное содержание и значение древнерусских ересей основано на идее гуманизма как социокультурном отношении к миру. Еретики в своих сочинениях замахивались на пересоздание образа мира (картины мира), что и утверждал тезис о самовластии души и ума. Однако, если «Лаодикийское послание» обосновывало активную позицию человека в осуществлении «правильной воли», а христианская вера познается через грамоту умом и разумом духовным, то государственная концепция самовластия утверждала, что взаимодействие Бога и человека осуществляется через власть православного Государя, который детерминирует Божественные воления и нравственно поднимает падшего человека.
Разработка проблем социальной справедливости (Федор Карпов1342) происходила в контексте заложенных Аристотелем социально-утопических идей о взаимоотношении этики и политики: политика как полноценное выражение этики становится благодаря политическому выражению верховным законом общества, обязательным для его граждан и регулирующим их отношения. Идея социальной справедливости включала: противопоставление понятий «правда», «закон милости» и «долгодушество терпения»; сопоставление понятий «закон» и «правда», «правда» и «справедливость», «правда» и «милость». Близким являлось также понятие «общая польза», реализация которого проходит через соразмерное воздаяние каждому за долю его участия в «общей пользе». При этом и воздаяние, и вклад определялись местом индивида в социальной иерархии. Однако, сохраняя социальную дифференциацию, ни одна категория населения не выводилась из-под охранительной и благоденственной сени закона «общей пользы». Равенства между членами общества нет, но между всеми есть соизмеримость – в противном случае нет и закона, правды, милости, всех социально-идейных ценностей.
Тема праведного суда («Послание» Зиновия Отенского Якову Васильевичу Шишкину) отражала контрасты социальной действительности и получила теоретическую форму противопоставления идеи правды неправде (период появления Судебника 1497 и 1550 гг.). Данная тема выражала стремление осуществлять социальные нормы на высшем уровне моральных принципов. Антитеза «правда – неправда» проходит сквозь сочинения и Максима Грека, и Ивана Пересветова, и Зиновия Отенского1343. Правда состояла в труде и соответственно в отказе от насильственного присвоения результатов чужого труда (Ермолай-Еразм)1344. Для Федора Карпова «правда» заключалась в протесте против рабского состояния человека, морали терпения. Правда Ивана Пересветова – это совокупность общественных преобразований, направленных к созданию совершенного государственного строя. Правда Патриарха Никона – правда в охранении канонических устоев общества, блюдении чести и пределов власти, нераспространении власти царской на власть духовную, власть Церкви1345.
Раскол внутри ереси стал символом глубокого культурного конфликта, вызревшего в Московском царстве, и был связан с крушением авторитета светской власти в Смутное время. Теория самовластия человека отрицает принцип сословного деления и противопоставляет ему тезис о данном от природы равенстве людей. Теория самовластия включает представление о правде как справедливой форме правления, т.е. о монархии во главе с мудрым и сильным правителем. Принципу «породы», знатности происхождения противопоставляется мысль о необходимости ценить человека по его собственным заслугам, дарованию, способности к тому или иному делу; указывается на причинную связь между личным мужеством и состоянием свободы, освобождением от холопства1346.
Кружок «боголюбцев» (Иван Неронов, Стефан Вонифатьев, Аввакум) ревизовал древнерусский обиход. Смысл их протеста был направлен против «просветительской» концепции культуры1347. Социокультурный и гражданский раскол в это время усилился также деятельным стремлением Патриарха Никона изменить взаимоотношения Церкви и государства, перераспределением степени влияния на общество и личность власти этатоавтократической в пользу клерикально-иерократической1348. Таким образом, нравственная мотивация раскола – тираноборство, т.е. бунт, духовное сопротивление человека-христианина, не признающего за Царем права на исключительность, гипостазированную автократичность, которая постепенно заменяла традиционно-русское, утвержденное на ортодоксальных основаниях самодержавство как персональную «отеческую» ответственность за Богом дарованный народ и землю и разрушало христианскую картину мира – социальный миропорядок1349.
В сочинениях Аввакума представлено описание начала и конца в историческом пути человечества – от сотворения человека по образу и подобию Божьему до последнего утверждения богоподобия собственно в нем самом – в Аввакуме. Эсхатологический национализм «Третьего Рима» развивается на конечном этапе в эсхатологический индивидуализм протопопа, в котором воплощается весь эсхатологический накал нравственного сознания прошлого.
Тенденция к сакрализации личности проявилась также в народном движении, традиционно определяемом как русское мистическое сектантство, т.е. христовщина (хлыстовщина) и скопчество (крестьяне принимали имя Христа). Спад эсхатологического накала при сохранении эсхатологических настроений проявлялся в создании общин староверов богомилов (русских) – нестабильных образований, стремящихся к изоляции и самосохранению внутри «погибшего» мира. Позиция личной ответственности была вызовом эпохи, и староверы-раскольники приняли на себя этот вызов.
Новое отношение к личности и индивидуальности в период социально-гражданского и культурного разъединения (раскола) начало проявляться в изменении жизнеописания Царя: описываются его мудрость, величие, его пороки, его судьба представляется как личная драма («Сказание Авраамия Палицына»)1350. Восприятие судьбы Вселенной оказывается зависимым от индивидуальной святости, или праведности человека, т.е. от его индивидуального выбора; эсхатология превращается тем самым в экзистенциальную проблему. Обновление нравственного понимания личности происходит через мотив личной борьбы (противоборство Аввакума и Ивана Неронова с гражданско-государственными институтами и их официальными представителями Патриархом Никоном и Царем).
Суть обновления нравственной позиции личности состоит в трансформации традиционной социокультурной парадигмы – картины мира, в которой нравственная мотивация формулирует своеобразный дyxoвно-философский антропологизм, а он в свою очередь предопределил представление о нравственном измерении власти и путях социально-нравственного ее осуществления. Таким образом, к числу важнейших признаков нравственного облика власти следует отнести традиционализм, стремление к опоре на авторитет, миромудрие, ретроспективность видения.
Для нравственного образа власти, как он обосновывается в русской средневековой мысли, характерны соборность, отсутствие акцента на индивидуальном начале: властитель стремится к возвышенному идеалу, его интересуют высшие ценности, а не преходящие блага; его мудрость – это мудрость учителя и наставника. Пусть погруженность в прошлое подчиняла себе понимание сегодняшнего дня, пусть традиционность доминировала над стремлением к новому, способствовала закреплению практических установок на социальный конформизм и политический авторитаризм, но все же «Россия выросла из известных форм и переросла известные традиции», – говорит П. Н. Милюков1351.
Традиционные культуры, как правило, не предоставляют индивиду выбора из спектра культурных или духовных ценностей, но периоды трансформации (формулирования, выработки, смены) социально-религиозных установок, парадигм и государственно-общественных идеологий создают такой выбор1352: каждый должен либо пережить духовное обновление, либо обречь свою душу на погибель (часть общества предпочитает обойтись без перемен в традиционном образе жизни).
Эта новая для культурного сознания альтернатива сказывается и на системе нравственных ценностей: праведное отношение к миру отныне противопоставляется неправедному, а носитель этого последнего превращается в антигероя. Индивидуальное начало освобождается от социального традиционализма, личность изображается как противостоящая обществу и ведущая с ним борьбу. В результате появляется два типа нравственных персонажей: один фигурирует прежде всего в духовной сфере и литературе, другой – в светской. Они никогда не встречаются в одном повествовании, но их наличие подтверждает, что меняется сама русская культура – возникает оппозиция светской и духовной ее сфер, следовательно, и их содержания (в этом и состоит наиболее значительный культурологический результат русского Средневековья и эпохи Патриарха Никона как его завершающего периода, давшего начало эпохе Нового времени в истории России).
Процесс размежевания традиций позволил поставить вопрос о том, что принадлежит светской сфере, а что – духовной. Новым словом в светской культуре стали представления, согласно которым подлинная христианская мудрость не может существовать без философии, риторики и грамматики1353. Ретроспективному взгляду никониан «вечность – в будущем» богоданное творческое владение свободными искусствами было необходимо для правильного понимания Писания и, следовательно, для спасения души.
Епископы-никониане уличали обрядоверов-стоглавцев (старообрядцев – мнимых староверов) в невежестве и утверждали, что учение невежд может вести только к духовной погибели. Аввакум и его последователи возражали в ответ, что свободные искусства представляют собой лишь внешнее знание, не относящееся к религиозной сфере или христианскому преданию, и в силу этого никакого отношения к спасению не имеют. Аввакум в своем житии заявлял, что он «не учен диалектики и риторики и философии, а разум Христов в себе» имеет1354. В одном из поучений он призывал своих духовных детей: «Не ищите риторики и философии, ни красноречия, но здравым истинным глаголом последующе, поживите. Понеже ритор и философ не может быти христианин… Да и вси святии нас научают, яко риторство и философство – внешняя блядь, свойственна огню негасимому. От того бо раждается гордость, мати пагубе. И несть ми о сем радения. Аз же ни ритор, ни философ, дидаскалства и логофетства неискусен, и зело исполнен неведения»1355.
У Аввакума и его последователей с их «вечностью – в прошлом» христианское ведение, непосредственно идущее из Священного Писания и творения Святых отцов, противопоставляется ложному «внешнему» (т.е. исключенному из духовной сферы) знанию; спасение зависит не от этого внешнего знания, но от неповторимых взаимоотношений отдельного человека и Бога, что задает противоположение индивидуального выбора и индивидуальной харизмы нормам социальным, в данном случае не традиционного общества, а культурной элиты.
В такой перспективе понимания мы получаем вместо западного влияния (как это виделось ранее), действующего как deus ex machina, и вызванного им запоздалого и странного на вид русского Ренессанса, понятную в своих истоках трансформацию культурного сознания, рефлектирующего прежде всего над собственными культурными ценностями1356. Эта рефлексия накладывается на весьма специфичную древнерусскую культурную основу и создает национальную систему отраслевой обществоведческой мысли, которая к концу XVII в. приходит со своей мощной литературной традицией и сформированной на православных святоотеческих основах социально-политической мыслью и философской системой. Эти последние в сменившейся с начала XVIII в. государственной идеологии и общественно-гражданской парадигме развития были вытеснены прагматическими гуманистическими традициями, а с начала XX в. преданы забвению с формулировкой «молчащая Русь».
К сожалению, без должного на то основания активно бытует мнение, что Древняя и Средневековая Русь не имела своей разработанной системы философской мысли, была молчащей, а все теоретические достижения имплицитно выражены в иконописи и храмовом зодчестве (так называемое «умозрении в красках» и камне). Напомним, что язык и миф, бытовой обиход и нормы поведения, все те первоэлементы человеческого существования, без которых человек не может совершить ни одного простейшего жизненного акта, есть с самого начала формы символические, а потому и теоретические – трансцендентно-трансцендентальные.
Именно символическое богатство христианства придало средневековой культуре, в том числе и русской, смысловое богатство и насыщенность. Как отмечает С. С. Аверинцев, христианство к концу своего первого тысячелетия являло такую сквозную целостность и замкнутость, такую степень взаимной «пригнанности» входящих в ее состав символических структур, что в каждом фрагменте его содержания уже дано как бы в свернутом виде все целое. Иначе был бы невозможен известный каждому исследователю средневековой культуры феномен, когда заведомо не столь уж начитанный автор рассуждает на темы мистического умозрения так, как если бы в совершенстве изучил тексты Плотина и Прокла, – просто потому, что зерно христианизированного неоплатонизма через посредство псевдо-Ареопагита вошло в состав общехристианской традиции и органически с ней срослось1357. Это – во-первых. Во-вторых, исключение из исследовательского круга богатейшего древнерусского рукописного наследия (текстов богословского, религиозно-философского, полемического характера), совершенное их забвение и приверженность атеистическим, историко-материалистическим парадигмам знания никак не будут способствовать критичной адекватности бытующих позиций, а свидетельствуют о них как о квазинаучных и дилетантских.
Укажем здесь лишь на некоторые из рукописных сборников XV–XVIII вв., изучение которых, как представляется, способно повлиять на сложившуюся систему представлений и мнений [РГБ ОР. Ф. 178. № 3343: Тропник; Ф. 299. № 725: Палея; Ф. 178. № 3068.2: Избранные места из Толковой Палеи; Ф. 310. № 601: Литургия толковая; Ф. 178. № 4092: Псалтырь толковая в пер. Максима Грека; Ф. 310. № 1297: Пророки с толкованием; Ф. 218. № 315: Лицидарий, или Златой бисер; Ф. 218. № 1106: Маргарит; М. 524 (Пискар. 89): Пчела; Ф. 272. № 410: Книга богомудрого старца Спиридона Потемкина; Ф. 178. № 1407: Слово о единогласном пении; Ф. 310. № 900: Псалмы и патриотические стихи на линейных нотах; Ф. 178. № 9498: Собрание псалмов с нотами; Ф. 178. № 2228: Жизнеописания некоторых благочестивых писателей; М. 611: Летописец русский; Фад. 34: Летописцы старые; Ф. 178. № 2763: Летопись Никоновская с разночтениями; Ф. 722. № 33: От останка царств прение всех удов со утробою; Ф. 256. № 380: Описание вин или причин, какими к погибели и к разорению всякия царства приходят (пер. с лат.); Ф. 310. № 592: Сказание о трех пленениях Иерусалима; Ф. 310. № 627, 1301: Сказание о создании храма Иерусалимского; Ф. 37. № 119: Новое небо; Ф. 439. К. 22.3: Лексикон славянороссийский Памвы Берынды; Ф. 256.1: Лексикон Лаврентия Зизания; Костр. 93: Обед душевный С. Полоцкого; М. 816: Жезл правления; Ф. 256. № 243: Мечец духовный: Сочинение Иоанникия и Софрония Лихудов; Ф. 310. № 1013: Риторика Софрония Лихуды (пер. иеродиакона Козьмы Святогорца); Ф. 178. № 2778: Риторика; Ф. 178. № 2190: Сборник богословский; Ф. 256. № 376: Первая книга о научении солдатом оружьем владети (пер. с нем); Ф. 722. № 96: О Никоновых новшествах, иже не у младенства устрабися; Ф. 722. № 104: Нравоучения от Священнаго Писания по алфавиту избранные; Ф. 310. № 894 и 895: Сказание о седми свободных мудростех великих; Костр. 219: Метафизика божественная и истинная; Ф. 299. № 58: Написание о… божестве, о бытии твари и о преступлении Адамове; Ф. 310. № 614: Сказания и толкования священных и богослужебных изречений и обычаев и др.; Ф. 37. № 92: Сочинения нравоучительного содержания; Ф. 37. № 106: Стезя или Путец мал, от смерти к животу ведый; Опт. 117: Сборник правил и поучений монахам; Ф. 37. № 105: Сборник ответов; ГИМ ОР. Епарх. № 623: Никоновская Скрижаль; Син. 817: Опись книгам, хранившимся во время Никона в Степенных монастырях, составленная в 1653 г.; Мнш. 618: Ф. Пермяков. Выписки из Священного Писания о внесении Патриархом Никоном новизны; Мнш. 1079: Броня правды и т.д.].
Во многих из этих сборников представлена разработанная система понятий и категорий традиционно-русской ортодокс-славянской философии, наличие которой осталось незамеченным вследствие насаждения начиная с Петровской эпохи западноевропейской модели образования и секулярно-рационалистического типа познания. Избранные из этого обилия, созданного в русской православной традиции, материалы составят готовящуюся к изданию антологию ортодокс-славянской философской мысли (см. также здесь наше примечание на с. 881–891. – В. Ш.).
Сейчас как предуведомление приведем лишь краткое сказание-поучение нормативного характера, составленное по образцу алфавита «Альфа и Омега»1358.
Из сборника сказаний и поучений1359
а) (л. 36)α) Аще что любо – твориши, все во славу Божию твори; аще совратишися от истинны – премени совесть; аще враг твой алчет – насыщай, аще жаждет – напояй его же1360.
б) Бога бойся; благочестив буди; благоугоден быти всем творися1361.
в) Вежде самаго себе; вещь всяку твори в истине; всем повинуйся1362.
г) Глаголи еже есть истинна; гнев укрощай; греха блюдися яко змиина жала1363.
д) Добродетели помним бывай; дерзай на благое еже есть полезно; дерзновение на зло губително есть1364.
е) Еже себе не хощеши и иным не твори; еже обещаеши – благоускори совершити; еже твориши родителем – сего от своих чад ожидай1365.
ж) Живота нища не призирай; житие стяжи благочестно; желанне ревнуй благому1366.
(л. 36об.) з) Зла за зло не воздавай; злое побеждай благим; злый злом погибнет1367.
и) Иже усердие имать к благому дается ему; Иову подобник – терпением искушения победиши; Иоанну подражай – в чистоте сподобу получиши от напасти1368.
к) Клеветника и шепотника кляти подобает; кленыйся лестию погибнет; книги чести прилежи и лжу возненавиждь1369.
(л. 37) л) Любовь к Богу и ближнему имей; люби всияку добродетель1370.
м) Мир с всеми имей; мудрых совету прилежи; меншим прости и снисходи1371.
н) Ничто же рцы в лукавстве; насилия не твори; не высокомудрствуй о себе1372.
о) Очима незвиди очи твои семо и овамо, да не позирают; очи твои выну к Господу да будут1373.
п) Помышляй еже есть праведно; прибыток си верны вещь люта; празден не пребывай1374.
р) Родителей почитай; родителей терпением побеждай; разсуждением твори – не нуждею1375.
с) Слыши много, глаголи мало; старейшаго чти; славою не превозносися1376.
(л. 37об.) т) Тайну храни; татем не ревнуй; твори сия о них же, потом не поболиши1377.
у) Учителю яко и родителем повинуйся; учитися прилежи; учения корень горек – плоды же его суть сладки1378.
ф) Философия о Бозе приобретение души; философия в нищите сияет; философия много идеже скорбь1379.
х) Христа ради вся терпи; хвален буди всеми; хитрости и в суетных быти не желай: отвещай во время испытания, от лукаваго уклоняйся, отвращай очи твои не видети суеты1380.
ц) Царя чти и бойся; Церкви Божией прилежи; в Церкви стой со страхом1381.
(л. 38) ч) Чести суетныя не ищи; честь воздавай кому честь; честна себе ни пред ким не твори же1382.
ш) Шлем спасения восприемли; шепотнику не буди; шествием на ползу твори1383.
щ) Щедр буди в добродеи; щедроты твоя да будут к нищим; щади себе от всякаго лукавствия1384.
ю) Юности твоей не проводи всуе; в юности труждайся1385.
ω) Обычая добра не лишися; обычая мудрых последуй; обычаи себе от твоея совести1386.
я) Языком да не речеши дóндеже не помыслиши будет ли что на ползу; языком не согрешай свершен муж есть; язык неукротим зло глаголяй о зле и ненаследимо благо глаголяй о блазе.
(л. 38об.) ψ) Псалмы и песньми безпрестани славослови Бога; псалом Богови нашему благу да усладится; псалмы и песньми воскликнем Ему.
К вопросу о состоянии нравственного богословия в Русской Православной Церкви во второй половине XVII в. (Воробьева Н. В.)
Изучение воззрений Патриарха Никона имеет богатую историографическую традицию, тем не менее истоки и сущность его концептуальной позиции становились предметом специальных исследований не столь часто1387. Обращение к этой теме в связи с 400-летием со дня рождения Патриарха Никона вызывают обвинения в конфессиональной ангажированности вопроса, следовательно, актуальность поставленной проблемы несомненна.
Считается, что «нововведения» Святейшего Патриарха Никона изменили некоторые составляющие средневекового сознания: символизм, канон, чин. Реформы1388 имели целью охранение-сбережение Ромейского (греческо-восточного) наследия, но при этом стремились избирать-воспринимать самое лучшее, непреходящее, что не позволило бы претерпеть тот упадок и разорение, что претерпели и первый и второй Рим в судьбах пременения царств. Во второй половине XVII в., в период острого кризиса средневекового мышления, эту попытку многие восприняли как покушение на канон, чин1389.
Согласно мнению современного исследователя Л. А. Черной, в XVII в. произошло разрушение «вертикально-осевой» направленности культуры1390. Она доказала этот тезис на следующих примерах.
Изменились значение, смысловая нагрузка понятия «чин». Это слово употреблялось в «Остромировом евангелии», «Шестодневе», «Повести Временных Лет», «Поучении» Владимира Мономаха и других памятниках и имело значения порядка, подчинения, правила, степени, должности (т.е. чего-то имеющего отношение к иерархии); сана, сонма, знамения, значения, времени. Чин – это идее-образ божественного порядка и гармонии. Таким образом, скоморошество, народные игры, песни, танцы – это «традиционно-бесчинное». Чин в искусстве: архитектура и новое пространство шатровых храмов, усиление декоративности и новые пространственные решения ренессансного характера. Новый стиль исследователи архитектуры назвали «нарышкинское барокко». Такое эстетическое понимание красоты проявилось и в музыке, и в изобразительном искусстве, и в литературе1391.
Чин в социальной сфере – победа над «породою». Бытовая сфера: замена «чина» людей на примере сбривания бород («блудолюбивый» облик Матфея «бритобрадца» привел в негодование протопопа Аввакума1392). Механизм моды: разрушение слитых «блага» и «красоты» – «благолепия» православного христианства, которое отходило на периферию, освобождая путь новой барочной эстетике1393. Нормы же «Домостроя» были направлены на фиксацию онто-социальных соответствий нравственной жизни человека, определяемой дарованной Богом верой, страхом Божиим и истинной святостью и праведностью1394.
Имеет смысл обратиться к вопросу о состоянии нравственного богословия в XVII в. – в период, когда древнерусская картина мира сталкивается с открывающимся широким миром, когда возникают кросскультурные связи, возмущающие и понуждающие к трансформации традиционный уклад, сознание. Но столкновение это было, по сути, столкновением между платоновской, восточно-исихастской традицией и традицией рационалистическо-схоластической в аристотелевско-августиновской модели познания Бога, столкновением различных укладов, образов жизни, картин мира и парадигм бытия, хотя и черпающих жизненную силу от единого источника – Евангельского слова. Это столкновение восточнорусского «теоцентризма» с западнохристианским «антропо-центризмом» задаст динамику всем без исключения процессам, которые будут отныне определяться как Новое время в истории цивилизации нового летосчисления.
Каким образом рассматривал понятие «чин» Святейший Патриарх Никон? На основе изучения «Духовного завещания Никона, Патриарха Московского»1395 можно выделить противопоставление «нерадивости и лености» (л. 486, 487, 487об., 488, 489об., 491), «небрежения» (л. 486об., 488об., 489об., 491, 493об.) «благочинию» (л. 486об., 489, 489об., 490об.) и «усердию» (лл. 487, 487об., 488об.), приводя в пример Христа во храме (Мф.24:15; Мк.13:14; Лк.21:20; «(л. 491об.) … И Господь наш Иисус Христос прежде убо из церкве изгна бичем вся безчинствующыя иудеи, потом же и град, и церковь сего ради в расхищение и в запустение предаде. Подобно же тому и в старчестве речено есть сице. Яко старец некий беяше, и живяше в пустыни близ святаго града Иерусалима, и виде во сне старец той быти себе в церкви святаго Воскресения у Гроба Христа Бога нашего и обоня (л. 492) что смрад велий тяжкий во святой церкви и нестерпимый зело; и виде тамо два старцы священнолепы и вопрошаше их, глаголя: Отцы святии, повеждьте ми истину, откуды смрад сий злый исходит. Они же реша ему: От беззаконий…».
Рассмотрим подробнее соотношение библейских определений этих слов с контекстом, в котором употребляет их Патриарх Никон.
Благочиние – небрежение1396: (л. 486об.)1397, (л. 488об.)1398, (л. 489)1399, (л. 489об.)1400, (л. 490об.)1401, (л. 491)1402, (л. 493)1403, (л. 493об.)1404.
Нерадивый – усердный1405: (л. 486)1406, (л. 487)1407, (л. 487об.)1408, (л. 488)1409.
Святейший Патриарх Никон описывает социальность, активно привлекая всем известные и знакомые образы Священного Писания, вводя их в контекст современных ему событий с использованием риторических приемов устного рассказа и жанровых особенностей проповеди.
Благочиние не может быть нарушено человеком индивидуально: в индивидуально-личной духовной жизни трезвенность и усердие – основа православного нравственного богословия, и эти принципы подчеркиваются и возводятся Патриархом в ранг идеала.
Обычно историю христианской этики принято делить на три периода: патристический (I–VIII вв.), поздневизантийский (IХ–ХVI вв.) и современный (ХVII–ХХ вв.). Предание Церкви является самым обширным источником нравственного богословия. Сюда относятся догматическое учение Церкви, нравственно-экзегетические творения Святых Отцов и Учителей Церкви, агиография и агиология, литургические тексты, гомилетическое наследие, канонические определения и большая нравственно-аскетическая литература. Нравоучительная литература, в основном рукописные сборники, как-то: греческий сборник изречений «Пчела», «Палеи», «Тропники», «Хождения», толкования на библейские книги и сюжеты, летописцы, космологи, богословско-полемические тексты – была использована в литературном творчестве Патриарха Никона.
Из огромного корпуса нравоучительной литературы отметим использование Святейшим Патриархом сочинений Василия Великого, который первым составил монашеские правила, Иоанна Златоуста и др. Жизнь исповедников и мучеников за веру, их благочестивые деяния под пером Патриарха Никона предельно актуализированы в связи с выстроенным определенным образом прошлым в назидание будущему, что вполне соответствует апостольской заповеди почитания учителей1410. Основной объем сочинений Патриарха1411 занимают рецепции авторитетных книг прошлых веков: Ветхого Завета, Евангелий и апостольских посланий, творений Иоанна Златоуста, Симеона Нового, Иосифа Волоцкого, Четьих Миней, Кормчей, Большого Катехизиса, Кирилловой книги, Книги о вере и др.
Библейские и литургические тексты, использованные Святейшим Патриархом Никоном, выявляющие круг апокрифических и исторических сочинений, известных ему, вполне соотносятся, например, с библиотекой Киевского митрополита Петра Могилы. Его гомилетическое наследие можно обозначить термином «редуцированная диалогичность»1412. Например, напечатанная в Москве Кормчая книга отразила только один из рукописных вариантов (сокращенный текст Аристина), имевших хождение на Руси, и соответственно не могла включить все принимаемые Русской Православной Церковью законы и правила, регулирующие церковную и гражданскую нравственную жизнь.
Описывая Кормчую, изданную в 1650 г. при Патриархе Иосифе, А. С. Зернова1413 отметила: «Кроме Кормчей в первоначальном виде, существуют экземпляры смешанные; в текст внесены добавления и исправления, сделанные для издания 1653 г., но выходные сведения оставлены прежние». Поскольку А. С. Зернова это замечание поместила при описании Кормчей в первоначальном виде, следовательно, существенным признаком издания она посчитала выходные сведения, подчеркнув, что в подобных «смешанных экземплярах» находятся все внесенные Патриархом Никоном изменения и дополнения (в частности, Сказание о Патриаршем поставлении, Грамота жалованная, данная императором Константином Великим Римскому Папе Сильвестру, О Римском падении…)1414.
Известно, что главные положения христианской нравственности изложены в 5–7-й главах Евангелия от Матфея и в Посланиях апостола Павла. В XVII–XIX вв. христианская этика развивалась как самостоятельная богословская дисциплина, отличная от Догматического и Пастырского богословия. В начале этого периода первенство в развитии Нравственного богословия принадлежало римско-католическим и протестантским богословам. В России христианское нравоучение излагалось вначале в форме катехизиса. Известно «Православное Исповедание» Петра Могилы, митрополита Киевского (XVII в.), «Исповедание веры» Иерусалимского Патриарха Досифея, более известное у нас (в соединении с другими документами) под именем «Послание Патриархов Восточно-Кафолической Церкви о православной вере» (XVII в.), «Катехизисы» митрополита Платона и Филарета (XIX в.).
В XVIII в. в России архиепископ Феофан Прокопович создал курс нравственного богословия, вошедший в программу Киевской и Московской Духовных академий. Митрополит Московский Платон в третьей части своего труда «Сокращенное богословие» (1765 г.) изложил систему христианского нравственного учения, принятую в качестве руководства в духовных учебных заведениях. В систематической форме нравоучение излагалось с XIX в.1415
Вопросы нравственного богословия занимают особое место и в воззрениях Патриарха Никона1416. Особенно это прослеживается в «Наставлениях христианину»1417, где Святейший Патриарх, комментируя текст Нового Завета и адресуя послание Царю Алексею Михайловичу, создал оригинальное концептуальное катехизическое произведение, к сожалению, до сих пор до конца не востребованное и не включенное в курс нравственного богословия.
5–7-я главы Евангелия от Матфея обсуждаются и комментируются также в «Возражении или Разорении…»1418 не единожды:
– 5-я глава (Нагорная проповедь) – в возражении-разорении 10-го, 17-го, 18-го, 19-го, 21-го, 23-го, 24-го, 25-го и 26-го вопросов1419;
– 6-я глава (учение о посте, о служении двум господам, о сокровище, «Отче наш») – в возражении-разорении 3-го, 14-го, 16-го, 23-го и 24-го вопросов1420;
– 7-я глава (чаще всего стихи 1–2: «Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы; и какою мерою мерите, такою и вам будут мерить») – в возражении-разорении 1-го, 2-го, 5-го, 6-го, 9-го, 10-го, 17-го, 24-го, 25-го и 26-го вопросов1421;
– ссылки на Послания св. апостола Павла встречаются в возражении-разорении каждого из 27 разоряемых Патриархом Никоном вопросов-ответов.
В основу системы нравственного богословия Патриархом Никоном полагаются христоцентризм и обожение человека.
В частности, вопросам христианской любви и смирения посвящено разорение на 18-й вопрос-ответ в «Возражении…» (л. 161–170), где Святейший Патриарх использует Священное Писание – Евангелия и Послания, в частности: Мф.2:16, 3:17, 5:19, 44, 8:26, 10:14, 17:11, 22:38, 27:25; Мк.6:11, 8:33; Лк.9:5, 10, 16; Ин.1:23, 10:31–32, 13:34, 14:15–28, 15, 9–13; Деян.20:32, 13:46; 1Ин.2:18, 3:1, 24, 4:7–17; Рим.2:22, 5:8; Еф.1:4, 6:1; 2Фес.1:6, 7; а также разорение 24-го вопроса-ответа (л. 302об.), где он также в системе своей аргументации использует первое Послание Иоанна (2:18–25)1422, обращаясь к необходимости соблюдения высочайших нравственных принципов, особенно накануне грядущих последних времен в эсхатологической перспективе: Блюдетеся, рече, да никто же вас прелстит и многи прелстят, не изыдите во след их. Подобает же зде со опасством истязати слово, чесого Христос заповедает блюстися, (л. 302) понеже провидец есть Бог, провидев яко мнози прелстятся. Чим и от кого? Не от самаго Антихриста прелщени будут, но якоже Божественный апостол Иоанн Богослов глаголет: Дети (на поле помета: 1Ин.71. Здесь: 1Ин.2:18) последняя година есть, и яко слышасте, яко антихрист грядет. И ныне антихристи мнози быша, и от сего разумеваем, яко последнии час есть. От нас изыдоша, но не беша от нас. Аще бо беша от нас, пребыли убо беша с нами, но да явятся, яко не беша вси от нас. И паки: Чадца, никто же да лстит вас. Творяи правду праведник есть, якоже он праведен есть. Творяи грех от неприязни есть, яко от исперва (л. 302об.) неприязнь согрешает. Сего ради явися Сын Божии да разрушит дела неприязнена. Всяк рожденный от Бога греха не творит, яко семя Его в нем пребывает, и не может согрешати, яко от Бога родися. Сего ради явленна суть чада Божия и чада диаволска. И паки: Разумеваяй Бога, послушает нас, иже несть от Бога, не послушает нас. О сем разумеваем дух истинный и дух лстеч1423.
Преображение же тварного мира возможно лишь через преображение личности посредством осознания собственного греха (разорения 19-го и 24-го вопросов-ответов):
…Приидоша1424 же нецыи в то время, возвещающе ему о галилеох, их же кровь Пилат смеси с жертвами их. (л. 177об.) И отвещав Иисус, рече им: Мните ли, яко галилеане сии грешнейши паче всех, галилеани беху яко сице пострадаша. Ни, глаголю вам, но аще не покаетеся, вси такожде погибнете. Или о богатстве благости его и пождании и долготерпении не радиши, не ведый, яко благость Божия на покаяние тя ведет. По жесточеству же твоему и по непокаянному сердцу, щадиши себе гнев в день гнева и откровения праведнаго суда Божия, иже воздаст комуждо по делом его… (л. 299) И паки: Никто же вас да лстит суетными словесы. Сих бо ради грядет гнев Божии на сыны противления, не бываите убо сопричастницы сим. И паки: Тайна1425 уже беззакония деется. Якоже и Господь рече: Услышати же имате брани и слышания бранем. Зрите, не ужасаитеся. Подобает бо всем сим быти, но не тогда есть кончина. Востанет бо язык на язык и царство на царство, и будут глади и пагубы и труси по местом, вся же сия начало болезнем1426.
Принятие духовных даров – в разорении 23-го и 24-го вопросов-ответов – на л. 283 говорится: Плод1427 бо духовный есть во всякой благостыни и правде и истине, искушающе, (л. 283об.) что есть благоугодно Богови. И паки: Плод1428 духовный есть любы, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. И по мале. Аще живем Духом, Духом и да ходим. Не бываим тщеславни, друг друга раздражающе, друг друга завидяще ... Аще и царь или велможа, всем во Христе Божественый апостол (л. 320об.) заповедует, аще царь или боярин, или велможа, или владыка, по Божественному апостолу: Да1429 аще, братие, или не весте, яко неправедницы и хищницы Царствия Божия не наследят. Господь1430 же и мукою претит, глаголя: Убойтеся, рече, имущаго власть по убиении воврещи в дебрь огненую и не просто, но и с клятвою. Ей, глаголю вам, того убойтеся. И инде паки: Связавше ему руце и нозе, вверзите во тму кромешную. И инде паки рече: Злых зле погубит. И паки: И неключимаго раба вверзите во тму кромешную. И инде: Отъидите от Мене, делателие беззакония. И паки: Приведите Ми его семо и иссецыте предо Мною, зане не хотеша, да (л. 321) бых царь был над ними. И инде: Соберите их и свяжите в снопы, яко сожещи я. И паки: Иже аще кто не пребудет во Мне, извержется вон, яко розга и изсышет, и собирают я, и во огнь влагают, и згарает1431. И инде: А1432 иже аще речет юроде, повинен есть геенне огненой. И паки: Аще око твое соблажняет тя, изми е и верзи от себе. И прочее. Уне бо ти есть, да погибнет един от уд твоих, а не все тело твое ввержено будет в геену огненую. И инде паки: Идите от Мене, проклятии, во огнь вечный, уготованный диаволу и аггелом его. Взалках бо ся, и не дасте ми ясти.
Это и есть основные добродетели по отношению к Богу, самому себе и ближним, обществу и государству.
«Православное исповедание веры» Петра Могилы было составленного по латинским источникам1433, хотя необходимо отметить, что оно стало известно в Русской Православной Церкви, в Москве, лишь в 1696 г., когда было переведено с греческого на церковно-славянский язык (латинским там оставался вопрос о пресуществлении Святых Даров; в переводе почти полностью исключались ссылки на творения Святых Отцов – отличительный признак православного богословия).
«Исповедание веры» Досифея получило признание 50 лет спустя (в 1725 г.); русский перевод «Исповедания…», появившийся лишь в 1838 г., был издан митрополитом Филаретом (Дроздовым). Общая черта этих «исповеданий веры» состоит в том, что они были выпущены не русскими Патриархами, но их вероучительный, догматический авторитет не оспаривался Русской Православной Церковью1434. Таким образом, всеобъемлющие «исповедания веры» более свойственны римско-католической и протестантской традициям, нежели православной, что обусловлено скорее всего крайне поздним, в отличие от европейской и малороссийской традиции, возникновением в Московской Руси школьного, академического богословия, как и появлением школ, академий, университетов.
Отметим, что комплекс произведений киевских богословов в основном был «унаследован» старообрядческой традицией. Это, например, «Большой Катехизис» Лаврентия Зизания, «Кириллова книга» (М., 1644) и «Книга о вере» (М., 1648), составившие основу эсхатологического и догмато-полемического учения многих согласий старообрядцев стоглавого толка1435. Сборник «Кириллова книга» («Книга иже во святех отец нашего Кирилла архиепископа Иерусалимского на осмый век») – популярный в старообрядческих кругах сборник антикатолической и антипротестантской направленности, составленный на основе сочинений украинских и белорусских авторов. Как установила Т. А. Опарина, это перевод «Сказанья об Антихристе» Стефана Зизания, основу которого составляет текст 15-го огласительного поучения Кирилла Иерусалимского1436.
На наш взгляд, как в учебниках по нравственному богословию1437, так и в исторической науке в целом, прослеживается почти полное игнорирование жемчужины отечественного нравственного богословия – наследия Патриарха Никона, исповеднически защищавшего исконно русскую традицию и идеологию как неотъемлемую часть Вселенского святоотеческого наследия.
Борьба Святейшего Патриарха Никона была направлена на то, чтобы Русское государство возглавлялось утвержденной в духе и истине Православной веры, на высочайших нравственных постулатах самодержавной царской властью, при которой только и возможно осуществление «симфонии» властей – церковной и мирской, а как следствие – процветание государства, окормляемого Церковью. Таким образом, Святейший Патриарх Никон выступал как Святитель, оберегающий, назидающий в истинах веры дарованную Богом паству в путях стяжания Святой Руси и приводящий ее в обетованный Новый Иерусалим к Владыке мира и Царю Царей.
Русская философская симфония. (Гаврюшин Н. К.)
Я не умел постигнуть жизни смысла
П. А. Вяземский
Древняя Русь не знала вопроса о смысле жизни. Жизнь человека – краткий миг на пороге Вечности: «Человек, яко трава дние его» (Пс.102:15). Чаяние будущего века неудержимо влекло в монастыри и паломнические странствия, побуждало вкладывать целые состояния в созидание и благоукрашение храмов, налагать на себя обеты. Спасти для Вечности свою бессмертную душу, не попуская ее расточаться на призрачные соблазны, порабощаться животными страстями, всячески стараться «прилеплятися Богови» – такими смысловыми лучами возгревалось древнерусское благочестие.
О сохранении веросознания и спасении души имело попечение все общество, в котором не столь уж жестко разделялись светская и духовная власть. Законодательство с удивительным бесстрастием исчисляло «пени» за самые разнообразные грехи – почти так же, как и на средневековом христианском Западе. Однако западная схоластика в своем внешнем, юридическом понимании дела спасения зашла очень далеко: появились учение о чистилище, оценки «сверхдолжных» заслуг праведников, были пущены в ход индульгенции… На Руси эта «рыночная сотериология» не привилась, тем не менее забота о средствах спасения, в первую очередь о формах благочестия, нередко затмевала разумение самого содержания, смысла веры.
Избежать подобного искушения было нелегко, ибо само по себе мышление в категориях цели и средства есть не более чем катехизический компромисс и реликт языческого любомудрия. Делание о Христе есть делание ради Христа и со Христом – цель и средство в нем неразличимы. Потому-то «могущему вместить» и сказано, что верующий во Христа «не судится, а неверующий уже осужден» (Ин.3:18).
B XVII в. «бес благочестия» расколол Русскую Церковь. Бес восторжествовал, ибо не был вовремя распознан: ослабло и померкло веросознание, делание о Христе закоснело в обряде. А вражий сын куда как благочестив – и крестится истово, и поклоны кладет по-писаному, а паче всего преуспевает в учительстве. Он ли надоумил Петра Великого взять на себя дело спасения христианских душ и сохранения вероучения или был тут особый Божий Промысел – судить не нам. Во всяком случае Святейший Правительствующий Синод в качестве одного из государственных департаментов стал решительно и последовательно искоренять самостоятельность церковного организма, установив бюрократические порядки, которые столетием раньше нельзя было представить даже в кошмарном сне. Православное благочестие стало предметом общей заботы духовенства и Приказа тайных дел.
Можно спорить, насколько околоточный надзиратель предпочтительнее римской инквизиции, но богословски надо либо открыто встать на сторону блаженного Августина – за внешнее принуждение к делу спасения, либо, признав «самовластие» человека, дать возможность осуществиться его свободному произволению, подавая примеры («образы») конкретного богомудрого делания и выправляя катехизическое красноречие по третьей заповеди.
Через латинские учебники и синодальную Церковность Россия была увлечена на первый путь – «симфонии» духовника и квартального, и ностальгия по нему сегодня – тревожный показатель помутненности современного веросознания. Но болезнует оно уже не одно столетие.
[В.Ш.: Петровские реформы в их устремленной жажде переустройства традиционно-русской (экклезио-кафоличной ортодокс-славянской) картины мира по протестантским образцам западноевропейского мира сыграли злую шутку, проявляемую во всей последующей истории России.
Предав забвению высочайшие достижения кафоличного национально-экклезиологического духа и мысли Руси, взращенные на ниве ассимиляции Византийского наследия, имперская Россия, превозмогая себя, начала прививать европейский рационализм, который увлекал ее к гуманизму и критицизму, к западничеству и славянофильству, к софианству и космизму, либерализму и консерватизму и т. д., низвергнув в пучину марксизма-ленинизма и ростовщического материалистического и социального детерминизма. Неофитская увлеченность ratio в культуре и социуме, выстроенных на фидеистских началах, породила «социальный шизофренизм» с его маниакальными поисками врагов и вне и внутри, созиданием и крушением «до основанья, а затем…», горделивым самовозвеличением и покаянным уничижением, максимализмом и ханжеской беспринципностью и т.д., и т.п.
К концу XVII в. Русь, не завершив институционализацию научно-образовательной системы1438, в пореформенный период в основу академической политики положила англо-саксонская модель, в рамках которой уже имперская Россия вновь включилась в процессы ассимиляции, но уже западноевропейских достижений аристотеле-августино-картезианской традиции. Обращает на себя серьезное внимание тот факт, что таким образом сформировавшаяся отечественная научная традиция не только последовательно и рьяно отвергает фундаментальные основы теоцентричной модели (парадигмы) бытия, но и исключает из своего арсенала соответствующие предметные области, задаваемые Священным Писанием и Преданием, святоотеческой письменностью и разрабатываемые в богословии и философии1439.
Заметим, что вплоть до конца XVII в. традиционно-русская ортодокс-славянская мысль активно работает над своим арсеналом, достигая значительных высот1440. Русская научная мысль и практика формирует Азбуковники, Лексиконы1441, создает Риторики1442, Грамматики1443, восходящие, в том числе, и к наследию прп. Иоанна Дамаскина1444, и корпусы (своды) философского и богословского содержания1445.
Представим здесь избранную главу из «Грамматики и философии» прп. Иоанна Дамаскина1446, и опись одного из сборников, атрибутированных как «Риторика (Введение в богословие): Лекции неизвестного автора»1447, которые опровергают сложившееся в науке мнение относительно русской философии.
Из грамматики и философии прп. Иоанна Дамаскина
1) Философия есть разум сущых, по нем же суща суть, сиречь разум сущих естества.
2) И паки. Философия есть разум божественных и человеческих вещей, сиречь видимых же и невидимых.
3) Философия паки есть поучение смерти произволително иже и естественно, двоя бо жизнь: естественная убо, по ней же живем, и произволителная, по ней же пристрастие настоящия жизни держимся. Двоя же и смерть, яже естественна, еже есть разлучение души от тела, и произволителная, (л. 27об.) по ней же настоящую жизнь презирающе, к будущей нудимся.
4) Философия есть уподобление Богу. Подобимся же Богу по елика сила, сиречь благому разуму истинны и по праведному, еже есть равному отдаяние и нелицемерному на суде; и по преподобному, еже выше правды, сиречь благое, еже благо деяти иже того обидящих.
5) Философия есть хитрость хитростем и художество художествам, ибо философия есть начало всякой хитрости, тою бо всякая хитрость обретается и всякое художество. Хитрость есть, иже в нечесом погрешающи по некоих, художество же, иже ни в чесом же погрешающи. Едина же философия (л. 28) не погрешает. По инех же, хитрость есть, еже рукама делаемое, художество же всяка словесная хитрость: граматика, риторика и сицевая.
6) Философия паки есть любление премудрости. Премудрость же истинная Бог есть и убо любовь яже к Богу. Сия есть истинная философия.
Разделяет же ся философия в зрителное и деятелное.
Зрителное же в богословное, и естественное, и учителное.
Деятелное же в обычайное, и домостроителное же, и градовное.
Зрителное убо есть, (л. 28об.) еже разум украшая; есть же убо богословное, еже сматряти бесплотная и невещественная. Первее убо Бога, иже поистинне невеществена, таже и ангелы, и душа – естество словесное же, иже вещественных, и наручных нам разум, сиречь животных садов камень, и сицевых.
Учителное же, иже всех убо бестелесно в телесных же зрим: разум, чысла – глаголю, – и гуслена вещания, еще же образовом, и звездам движения, еже убо о чыслах зрение, численое составляет художество, а еже о вещании – мусикийское, а еже о образех – землемерное, а же о звездах – звездозаконное. Сия же (л. 29) посреди телесных и безтелесных суть, ибо число по себе безтелесно есть; зрит же ся в вещи пшеница по случаю, или вина или ких от сицевых.
Деятелное же от добродетели бывает, обычай бо украшает и како подобает жительствовати учит. И аще убо единому человеку узаконоположится, глаголется обычайное. Аще всему дому – глаголется домостроителное. Аще ли градовом и странам – глаголется градовное.
О суперливых. Но отъятия начаша нецыи глаголюще: не быти се, ниже разум некий, или постизание. К ним же речем: како ресте не быти любомудрия и разуму и постизанию, разумевше ли и постигше, или не (л. 29об.) разумевше и не постигше, аще убо постигше, сей есть разум и постизание; аще ли и не разумевше, никто же вам веру имет о вещи стязающимся и иже разум не постигосте. Ему же кто разума лишится, сего укаряет наручне. Понеже убо есть любомудрие и разум сущих есть о сущем да речем.
Ведати же подобает, яко словесныя части любомудрию начинаем, еже сосуд паче есть философия, нежели часть. Тако ко всякому указу требуется…
Риторика: Лекции неизвестного автора
Книга I: О разуме, писма святаго (л. 1–17об.)
Беседа 1-я: О разуме литералном (л. 17об.). Глава 1-я: Увещения разума литералнаго (л. 17об.–22об.); глава 2-я: Определения разума литералнаго (л. 23–27).
Беседа 2-я: О разуме моралном (л. 27–29); глава 1-я: О писании сенса моралнаго (л. 29–34); глава 2-я: Определние сенса моралнаго (л. 34–37).
Беседа 3-я: О сенсе аллегоричном (л. 37–39об.). Глава 1-я: О разных повестях о сенсе аллегоричном увещание 1–6 (л. 39об.–47об); глава 2-я: О описания разума аллегоричнаго (л. 47об.–60).
Беседа 4-я: О сенсе анагойчном (л. 60–61). Глава 1-я: О блиской материи разума анагойчнаго (л. 61–65об.); глава 2-я: О далекой материи сенса анагойчнаго (л. 65об.–69); глава 3-я: О описания сенса анагойчнаго (л. 69–70); глава 4-я: О пределении сенса анагойчнаго 1–4; придаток о 4-х сенсах (л. 70–78об).
Книга II: О материи поучения (л. 79)
Предувещене 1-е: О существе материи (л. 79); предувещение 2-е: О частех на которыя пределя ся материя (л. 79–79об.); предувещение 3-е: И о сем, что значит материя о времянии (л. 79об.–80); предувещение 4-е: О сем, что содержит в себе материя (л. 80–81).
Беседа 1-я: О материи поучения о времяни (л. 81–84).
Беседа 2-я: О Христе (л. 84–85об.).
Беседа 3-я: О Пресвятей Богородице (л. 85об.–86об.).
Беседа 4-я: О материи поучения о ангелах (л. 84–93об.).
Беседа 5-я: О материи святых Патриархов (л. 93об.–96.).
Беседа 6-я: О материи святых пророков (л. 96–105об.).
Беседа 7-я: О материи о апостолах (л. 105об.–109об.).
Беседа 8-я: О материи святых мучеников (л. 109об.–113об.).
Беседа 9-я: О материи исповедников святых (л. 113об.–115об.).
Беседа 10-я: О материи девиц святых (л.115об.–116об.).
Беседа 11-я: О материи вдовцов и вдов святых (л. 116об.–118).
Беседа 12-я: О материи кающихся за грехи (л. 118–118об.).
Беседа 13-я: О материи умерших (л. 118об.–120).
Беседа 14-я: О материи параболистичной (л. 120–121об.). Глава 1-я: О первом существе сиречь о Бозе (л. 121об.–125); глава 2-я: И о втором существе сиречь о ангелах (л. 125–128); глава 3-я: О третием существе сиречь о небе (л. 128–132об.); глава 4-я: О четвертом существе сиречь о человеке (л. 132об–136); глава 5-я: О пятом существе еже есть о мыслителном [животине] (л. 136–139); глава 6-я: О шестом существе сиречь о чювствующем (л. 139–139об.); глава 7-я: О седмом существе сиречь о одушевленных душею ростителною (л. 139об.–141); глава 8-я: О осмом существе безживотным стиховным сиречь о 4-х элементах и сложении от них существ лишенных разума, чювствия и души растителныя (л. 141–143); глава 9-я: О девятом существе сиречь о орудии плотном (л. 143–144об.).
Книга III: О формах по учении (л. 145–145об.)
Беседа 1-я: О форме в Ветхом Завете употребляемой (л. 145об.–148).
Беседа 2-я: О первоначалной форме в Новом Завете (л. 148–149об.).
Беседа 3-я: О приобретении разных форм на разных мудрствех основанных (л. 149–150об.).
Беседа 4-я: О формах риторичных в начале о первоформе риторской образцы (л. 150об.–153об.). Глава 1-я: Увещание о форме 1 – 8-е; сокращение наук о форме (л. 153об.–161об.); Увещание 1–10-е: О начале поучения; о правилех исправнаго начала, наука 1-я (л. 161об.–174); глава 4-я: О пропозыцыи или предложении (л. 171–176об.); глава 3-я: О разных вещех поучение (л. 173об.–178); глава 4-я: Сокращение науки о пропозыцыях (л. 178–179); глава 5-я: О винах вообще (л. 179–182об.); глава 6-я: О винах, нужду конечную емлющих (л. 182об.–183об.); глава 7-я: О винах, ползу вещей являющих (л. 183об.–184); глава 8-я: О винах, приличность вещей являющих (л. 184–184об.); глава 9-я: О винах средних, или способ вещам являющих (л. 184об.–185об.); глава 10-я: О винах, знамения или чюдеса являющих (л. 185об.–187об.); глава 11-я: О винах, обстояния или случаи вещей являющих (л. 187об.–189); глава 12-я: О винах, достояния и наказания являющих (л. 189–190); глава 13-я: О винах, истину, милосердие и всесилность Божию являющих (л. 190–193); глава 14-я: О винах, непостижимость и откровене Божие являющих (л. 193–195); глава 15-я: О прилогах (л. 195–196); глава 16-я: О противностях (л. 196–197об.); глава 17-я: О подобенствиях (л. 197об.–200); глава 18-я: О свидетельствах (л. 200–201); глава 19-я: О окончении поучения (л. 201–204об).
Беседа 5-я: О второй форме риторической (л. 204об.). Глава 1-я: О начале (л. 204об.– 206); глава 2-я: О повести (л. 206–207); глава 3-я: О подкреплении (л. 207–207об.); глава 4-я: О окончании слова (л. 207об.–208об.); глава 5-я: О описании, или о дефиниции (л. 208об.–225об.); глава 6-я: О разделении частей, счишлении (л. 225об.–234); глава 7-я: О примечании слов, или толкования их (л. 234–235); глава 8-я: О спрежениях (л. 235–238об.); глава 9-я: О роде и виде, или форме (л. 238об.–242об.); глава 10-я: О подобных и неподобных, или разньствующихся (л. 242об.–249); глава 11-я: О противных (л. 249–254об.); глава 12-я: О привезаемых (л. 254об.–273 об.); глава 13-я: О невмещаемых (л. 273об.–276 об.); глава 14-я: О винах (л. 276об.–279); глава 15-я: О содеянии вин (л. 279–280об.); глава 16-я: О ровняемых (л. 280об.–282); Сокращения о всех 16 местах риторичных (л. 282–285); Окончание вторыя формы риторические (л. 285–285об.).
Беседа о третией форме риторической (л. 285об.–286). Пределение первое мест вне сущих риторице (л. 286–290); пределение второе: О протчих 35 местах вне сущих риторице (л. 290–319).
Беседа о первой форме философской (л. 319). Глава 1-я: О количестве (л. 290–324); глава 2-я: О качестве (л. 324–334об.); глава 3-я: О отношении слов (л. 334об.–333об.); глава 4-я: О деянии (л. 333об.–340); глава 5-я: О страдании (л. 340–345об.); глава 6-я: О времени (л. 345об.–353); глава 7-я: О месте (л. 353–362об.); глава 8-я: О [раз]положении (л. 362об.–339об.); глава 9-я: О имении (л. 339об.–347об.).
Беседа о второй форме философской: форму сию от вопросов сочинити придумах, которыя ко всяким вещем приточены и искусно быти могут; числом началнейших вопросов есть 22… (л. 347об.–387). Слово о посте (л. 387–373об.).
Беседа последней форме богословской (л. 374–376). Глава 1-я: О доброте (л. 376–402); глава 2-я: О великости (л. 402–404); глава 3-я: О долговечности или пребывании (л. 404–410об.); глава 4-я: О власти (л. 410об.–417); глава 5-я: О разуме (л. 417–423); глава 6-я: О воли (л. 423–427об.); глава 7-я: О силе (л. 427об.–432об.); глава 9-я: О славе (л. 432об.–364об.). Окончание: (л. 464об.–465). Последуючи богословом многия словеса ту ложих место ипостасей яже кажутся просто положенныи быти неискусных в богословии, чесо ради не вси коим сие слово читающим, один разум и разсуждение будет, идеже начало власти мысль: память воспоминают ся. Ведай иже от Отцовской ипостаси глагол, а где слово, разум, мудрость Сына намечаю; через огонь, любовь, силу действо Духа Святаго разумей; протчия речения яко Бог дух, доброта, великость, вечность, истинна, слава естеству Божию причитаю иногда вообще всем троим ипостасем, иногда особственно. Все слово мое основано на девяти началах или совершенствах, описанных мною в форме богословской, яко всяк читающий правила оныя и се пример слова видети может. Одну нуждную вещь тебе извещаю, иже поткрепление о Духе Святом, взятое от девяти существ в книге второй, мною описанных при конце о материи пораболитичной; с места сего до всякого слова можешь и ты взяти подтверждение.
Сформировавшаяся к концу XVII в. отечественная научная парадигма чуть менее, нежели за столетие, к концу XVIII в. замещается новой, привносимой с западноевропейской естественно-научной традицией1448, примером чему может служить «Грамматика философских наук»1449; в советский же период подобные изыскания табуировались в надежде на полное забвение, а современные исследователи вместо проведения тщательных исследований чаще лишь резонерствуют по поводу отсутствия-наличия оригинальной национальной (славяно-русской) философской системы.
Грамматика философских наук, или краткое разобрание новейшей философии
изданная на аглицком языке г. Вениямином Мартином, а с онаго переведена на французский, а с французскаго же переложена на российский Павлом Бланком
Оглавление:
Введение. Гл. 1: О философии вообще; о естественной философии в особенности, о ея частях, о предмете, и о разных ея в жизни употреблениях. С. 1.
Гл. 2: О частях и подразделениях физиологии. С. 11.
Гл. 3: О физических аксиомах и правилах, коим должно следовать при философских изследованиях. С. 16.
Гл. 4: О положениях, или гипотезах, об опытах; о разных для делания их инструментах и об употреблении сих последних. С. 26.
Ч. I.
Гл. 1: Об общих свойствах всех естественных тел. С. 47.
Гл. 2: О протяжении, величине и измерениях тел. С. 55.
Гл. 3: О делимости материи до безконечности, о способности к растягиванию и удивительной делимости разных тел. С. 58.
Гл. 4: О составе и фигуре тел. С. 65.
Гл. 5: О движимости материи и о свойстве движения и спокойствия. С. 69.
Гл. 6: О свете. С. 86.
Гл. 7: О цветах цвета и естественных тел. С. 116.
Гл. 8: О звуке. С. 133.
Гл. 9: О тяжести и легкости, о притяжении и силе электрической. С. 164.
Гл. 10: О прозрачности и темности, плотности и редкости; о твердости и мягкости, тугости и гибкости тел. С. 194.
Гл. 11: О густоте и жидкости, теплоте и холоде, влажности и сухости, упругости, запахе и вкусах тела. С. 202.
Гл. 12: О законах природы Кавалера Исаака Невтона. С. 220
Ч. II.
Гл. 1: О космологии вообще, о пространстве мира, о пустоте и о продолжении или времени. С. 231.
Гл. 2: О Уранологии или науке о небесных телах, и во первых о Телиографии или Теории Солнца. С. 243.
Гл. 3: О Селенографии или Теории Луны. С. 257.
Гл. 4: О Планетографии или Теории Планет. С. 270.
Гл. 5: О Колатографии или Теории Планет. С. 293.
Гл. 6: О Астрографии или Теории неподвижных Звезд. С. 302.
Ч. III.
Гл. 1: О Аерологии вообще или Теории воздуха, в коей разсматривается удивительныя его свойства и действия. С. 317.
Гл. 2: О Анемографии или Теории ветров. С. 345.
Гл. 3: Метереографии или Теории воздушных явлений вообще, как то: о парах, туманах, облаках, дождях, граде, снеге, льде, громе, молнии, блудящих огнях, летучих драконах и о прочих сим подобных явлениях. С. 357.
Гл. 4: О Фантасматографии или Филозофическом изъяснении небесных явлений, как то: радуге, парелиях или подобиях Солнца в облаках, параселенах или многолунии и проч. С. 374.
Ч. IV. Геология. Содержит в себе: 1. Философическое обозрение земнаго шара; 2. Философию земли, камней, металлов, минералов и проч.; 3. Философию воды, т.е. морей, рек, источников и проч.; 4. Философию растений; 5. Философию тел животных, а именно: тела человеческаго, скотов, птиц, рыб, насекомых, пресмыкающихся, черепокожих и проч., где показываются удивительныя открытия, учиненныя нынешними писателями натуры в сих родах познаний.
Гл. 1: О Геологии или всеобщей науке о земном шаре, о разных его разделениях и подразделениях, переменах годовых времен и других сим переменах годовых. С. 397.
Гл. 2: География или описание строения, состава и частей, составляющих землю, в коей говорится о разных оной слоях, о ископаемых минералах, металлах, камнях и других веществах, находящихся в земном недре. С. 425.
Гл. 3: О Гидрографии или науке о воде, о законах ея давления и тяжести; о море и его происхождении; о выпуклости поверхности его, пространстве, солености, приливах и отливах; о причине источников, рек, озер и теплиц и о свойствах разных вод, в них содержащихся. С. 464.
Гл. 4: О Фитологии или науке о прозябаемых; о прозябении растений и произведениях их; о семенах, семенной росаде, корне, стебли, стволе и ине, о испарении растений. С. 503.
Гл. 5: Зоография или наука о животных. О человеческом теле, твердых и жидких его частях. С. 543].
Во второй половине XIX в. недуг проявил себя в полную силу. Показательны для той поры не столько даже поднявшие голову нигилисты и материалисты и не трагический протест оставившего монашеский чин А. М. Бухарева, сколько умножение числа тех, кто, по слову поэта, «жил, не заботившись проведать жизни цель,/ И умер, не узнав, зачем он умирает»1450.
Церковная риторика несла на себе печать самодовлеющей завершенности и до сердец, а тем более до умов доходила плохо. Ощущение утраты смыслового отвеса увеличивало размах маятника поэтических вопрошаний и приговоров: от старого как мир скептицизма –
…Как знать, зачем пришли мы?
Зачем уходим мы? На всем лежит покров –
(П. А. Вяземский)
до вычурно-театрального мироотвержения:
И так как жизнь не понял ни один,
И так как смысла я ее не знаю, –
Всю смену дней, всю красочность картин,
Всю роскошь солнц и лун – я проклинаю.
(К. Д. Бальмонт)
Последнее – прямой поэтический вызов философскому сознанию, требующий построения тео- и космодицеи. Нельзя не почувствовать его связи со знаменитыми рассуждениями Ивана Карамазова, мир Божий принимать отказавшегося. Вопрос о смысле жизни, осмысление личного бытия во вселенской перспективе и уразумение целокупной гармонии мира в ее отношении к Творцу – задачи взаимосвязанные и притом таящие некоторый рационалистический привкус. Не случайно проблемы теодицеи впервые ставятся на Западе.
Над смыслом жизни в России начинают задумываться в процессе усиливающегося западного влияния, но сам вопрос характерен именно для русской философии, ибо в европейских языках нельзя даже указать точного соответствия русскому смыслу. СЪМЫСЛ есть со-мысль, сопряжение мыслей, диалектическое равновесие умных энергий.
Как не повторить старый тезис: падение редуцированных гласных в древнерусском языке повлекло за собой затемнение и утрату смысла съмысла1451 … Немецкое Sinn, французское sens, английское sense ориентированы более чувственно, тогда как структурно родственные смыслу Be-griff, con-ception несут видимый рационалистический оттенок.
Смысл же есть порождение того цело-мудрия, которое не ведает распадения на чувственное и рациональное, которое Полноту Смысла со-относит с образом, иконой Полноты Жизни. Икона прежде и давала ясный, наглядный ответ на вопрос о смысле жизни1452, но лики святых потемнели – не только от времени, и восстанавливать хранимое ими веросознание пришлось не без помощи поздних уроков Реформации – германской философии, которая уже вынуждена была противостоять крайностям секуляризации.
Если рассудить спокойно и непредвзято, эта зависимость от протестантской рефлексии не только не удивительна, но и вполне закономерна. Протестантизм ведь как раз и вырос в борьбе за смысл религиозной жизни, против теократического насилия, ханжеской схоластики и фарисейского благочестия. И, если протестантские решения для православного сознания далеко не всегда приемлемы, это не означает, что ему чужды и безразличны вызвавшие их вопросы.
Крайности секуляризма выразились на Западе в повсеместном утверждении идеала практической полезности. Утилитарным принципам исподволь стали подчинять и мораль, и философию природы, и даже эстетику. Это вызвало протест уже у И. Канта, который в своей этике настаивал на том, что человек не может рассматриваться в качестве средства для достижения каких бы то ни было целей, а в эстетике доказывал независимость суждений вкуса от практических интересов. Нетрудно заметить, что критику утилитарной доктрины он ведет прежде всего по линии логических основ целеполагающего мышления – категорий средства и цели. И, определяя красоту как целесообразность без цели, он выступает против не только утилитаризма, но и внутренне связанных с ним рационализма и имманентизма. Спасти мир как целое может только «бесполезная», рассудочно непостижимая, премирная красота.
У Ф. М. Достоевского, разумеется, нет прямой связи с кантовской философией, но через немецких романтиков и Шеллинга, вдохновлявших старших славянофилов и Аполлона Григорьева, он не мог не воспринять пафоса религиозно-эстетического трансцендентализма1453.
Тема смысла жизни затрагивается Ф. М. Достоевским в знаменитом разговоре Ивана Карамазова с Алешей, хотя лишь попутно, в связи с трагическими антитезами нравственного миропорядка, подводящими к проблеме теодицеи. «Итак, – говорит Иван, – принимаю Бога, и не только с охотой, но, мало того, принимаю и премудрость его, и цель его, нам совершенно уже неизвестные, верую в порядок, в смысл жизни (курсив мой. – Н. Г.), верую в вечную гармонию…», но «мира-то божьего не принимаю и не могу согласиться принять». Не принимает Иван Карамазов и идеи «строительной жертвы», «бархатной революции», созидающей всеобщее счастье и гармонию на крови и страданиях одного маленького существа. Здесь вновь не обойти кантовской реминисценции: человек не может рассматриваться только как средство, ибо «разумное естество существует как цель сама по себе» («Основы метафизики нравственности». 1785)1454.
В религиозно-философском осмыслении творчества Ф. М. Достоевского безусловно первенствовал В. В. Розанов (1856–1919), мистически утвердивший свои права на духовное преемство браком с женщиной, которая некогда была «одна плоть» с творцом «Братьев Карамазовых».
Статья В. В. Розанова «Цель человеческой жизни» (1892) положила начало серии выступлений русских мыслителей, посвященных этой теме. Работа над статьей почти совпала по времени с написанием книги «Легенда о Великом Инквизиторе Ф. М. Достоевского», в которой цель человеческой жизни определена В. В. Розановым так: «Истина, добро и свобода суть главные и постоянные идеалы, к осуществлению которых направляется человеческая природа в главных элементах своих – разуме, чувстве и воле»1455. Подобная точка зрения изложена и в его статье о цели человеческой жизни. Весьма ощутимо здесь стремление связать вопрос о смысле жизни с философской антропологией, к чему тяготел и Ф. М. Достоевский, но в целом не положительные идеалы, смущающие своей абстрактностью и внешним сходством с девизами Великой французской революции, составляют главное достоинство этого труда. Гораздо более убедительной выглядит критика утилитарной трактовки смысла жизни, и не случайно выводы В. В. Розанова найдут понимание у большинства авторов, которые будут писать на данную тему после него.
Близость В. В. Розанова к И. Канту, которого он, в отличие от М. Достоевского, должен был изучать непосредственно, хотя бы во время работы над книгой «О понимании» (1886), проявляется не только в критике утилитаризма, но и в этических взглядах, принципах персоналистического мировоззрения и даже, как это ни покажется неожиданным, в некотором общем эмоциональном настрое. Приближение к осуществлению индивидуальной цели жизни Розанов связывает с субъективным переживанием радости. Но ведь и Кант в своей «Этической аскетике» называет важнейшими чертами нравственного идеала «веселое настроение», «всегда радостный дух»1456. Конечно, в русле христианской традиции, ставящей в грех уныние, подобный консенсус вполне естествен, но, поскольку, говоря словами А. М. Бухарева, «вкралось незаметно к нам какое-то духовнорабское и мраколюбивое направление самой веры и благочестия»1457, нелишне вспомнить и стихи псалма: «Работайте Господеви в веселии, внидите пред ним в радости» (Пс.99:2).
В марте 1895 г. с публичной лекцией о смысле жизни выступил крупнейший русский богослов, профессор Казанской Духовной академии В. И. Несмелов (1863–1937), в центре научных интересов которого была религиозно-философская антропология. Он поставил своей задачей раскрыть сущность христианской веры, исходя из последовательного анализа человеческой личности, и в первую очередь ее сознания.
Согласно В. Несмелову, сознание представляет собой непрерывный творческий процесс формации психических явлений, а его смысловым центром, связующим началом этих явлений выступает «Я», которое следует отличать от понятия личности. «Я» – только феноменально, личность – субстанциальна, иррациональна, богоподобна. В актах самосознания «Я» может отождествлять себя как со свободной самосущей личностью, так и с несвободным бренным телом, подчиненным законам природной необходимости.
Каждый человек знает, что он, с одной стороны, свободен – и в этом смысле богоподобен, с другой стороны, зависим – как существо сотворенное. У Державина сказано предельно точно:
Я телом в прахе истлеваю,
Умом громам повелеваю,
Я царь – я раб, я червь – я Бог!
Но, будучи я столь чудесен,
Отколе происшел – безвестен,
А сам собой я быть не мог.
Твое созданье я, Создатель!
Твоей премудрости я тварь,
Источник жизни, благ податель,
Душа души моей и царь!
Образ Божий присутствует в каждом индивидуальном сознании, но не каждое сознание возвышается до понимания того, что без реального существования Бога никакое сознание не было бы возможно. Философия способна лишь обнажить трагическую противоречивость человеческого сознания; разрешение же этого противоречия возможно только в свете Божественного Откровения о человеке как образе и подобии своего Творца1458.
Ключ к постижению тайны человека и смысла его жизни – в уяснении сущности первородного греха и избрании открытого Евангелием узкого пути в Царство Небесное (Мф.7:13–14).
По ходу своих рассуждений В. Несмелов последовательно разоблачает все мнимые решения проблемы смысла жизни и в первую очередь широко распространенный тезис об отвлеченном благе как идеальной цели общественного и индивидуального бытия. Тезис этот выдвигали все утописты, начиная с Платона, и все они, вплоть до самого последнего времени, готовы были принести на алтарь безликого божества не одну человеческую жертву. Ясное уразумение богоподобия каждой личности совершенно исключает такую возможность.
Философски последовательная и строгая, статья В. И. Несмелова заметно акцентирует трансцендентность жизненной цели и смысла, но в целом она нисколько не противоречит идеям В. В. Розанова, а лишь развивает и уточняет общие для обоих мыслителей позиции.
По-видимому, проблема смысла жизни в середине 90-х гг. XIX в. буквально носилась в воздухе, ибо почти тотчас за В. Несмеловым к ней обращаются В. С. Соловьев и А. И. Введенский.
B 1896 г. в 12-м номере «Книжек Недели» Вл. Соловьев напечатал статью «Нравственный смысл жизни», которая позднее превратилась в предисловие к 1-му изданию «Оправдания добра» (1898). Вывод Вл. Соловьева по сравнению с трудами его предшественников не представляет чего-то существенно нового. «Нравственный смысл жизни, – пишет он, – первоначально определяется самим добром, доступным нам внутренне через нашу совесть и разум, поскольку эти внутренние формы добра освобождены нравственным подвигом от рабства страстям и от ограниченности личного и коллективного себялюбия»1459.
Коротко говоря, Вл. Соловьев достаточно откровенно примыкает здесь к И. Канту, видя свою задачу главным образом в том, чтобы раскрыть «всеединство» добра и тем самым дать ему спекулятивное оправдание. Поскольку же Добру в определениях Вл. Соловьева явно приписываются свойства Божества, его «оправдание» необходимо принимает черты теодицеи.
Весной того же 1896 г. с публичной лекцией о смысле жизни выступил известный философ-неокантианец А. И. Введенский (1856–1925). Отличительной чертой его исследования является строгая логическая обработка понятий и нравственная принудительность выводов. Религиозное решение вопроса у Введенского – не предпосылка, а неизбежный итог исследования. В. В. Зеньковский справедливо замечает, что Введенский, идя «...вслед за Кантом, “открывает широкий простор вере”, лишь бы она не выдавала себя за знание»1460.
А. И. Введенский сознательно воздерживается от ответа на вопрос о смысле жизни, ограничиваясь доказательством тезиса, что сама его постановка возможна только в случае признания бессмертия души или продолжения личного существования за пределами земного бытия. Полнота смысла достигается только соотнесением с безусловным трансцендентным началом, подлинным Источником и Полнотой Жизни.
Пытаясь возражать А. И. Введенскому в рецензии на его книгу, Ю. И. Айхенвальд усматривает противоречие в попытке «найти смысл жизни вне жизни»: ибо, «если бессмертие – абсолютно-ценная цель, то это значит, что жизнь – абсолютно-ценная цель», и неправомерно разделять «единую, сплошную жизнь на земную и загробную»1461. Совершенно очевидно, что Айхенвальд не приемлет не только христианского понимания жизни как абсолютно-ценной цели (ср.: Ин.1:4, 2:25; Фил.1:21 и др.), но и вообще разделения имманентного и трансцендентного. Посюсторонний идеал «всеобщего счастья», единодушно отвергнутый русскими критиками утопизма, кажется ему достаточным, чтобы считать жизнь осмысленной… Позднее подобную точку зрения станет отстаивать Р. В. Иванов-Разумник.
Можно полагать, что дискуссии о смысле жизни в русской периодике оказали влияние на замысел масштабного сочинения профессора Московской Духовной академии М. М. Тареева1462 (1866–1934) «Цель и смысл жизни» (1901).
М. М. Тареев, безусловно, использует выводы и частично повторяет доводы своих предшественников. В критике утилитаризма и эвдемонизма он очень близок к В. В. Розанову и прямо ссылается на него; ощутимо также его знакомство с «Оправданием добра» Вл. Соловьева. Более определенно, чем предшествующие авторы, М. Тареев связывает проблему смысла жизни с теодицеей. И здесь как раз проявляются своеобразные черты, заметно выделяющие богословскую систему М. Тареева среди традиционных, перегруженных схоластическим юридизмом трудов по «нравственному богословию».
Основное логическое ударение М. Тареев ставит на самоуничижении Спасителя. Зло в мире не может быть оправдано никаким «божественным планом»: оно – следствие греховной воли, и подлинное богооправдание состоит в том, что ради преодоления этого зла Сын Божий добровольно пошел на самоуничижение, страдания и смерть.
Цель человеческой жизни – слава Божия. Она достигается только в подлинно духовной жизни, которая состоит в непрестанном богообщении. Достижение этой цели иными путями, нежели тот, который открыт Христом, невозможно. Этот путь неизбежно связан с самоуничижением, готовностью претерпеть все обстояния лежащего во зле мира ради славы «будущего века», а также с юродством, отказом от славы и благополучия, коих нельзя достичь, не поступаясь собственной совестью, не принимая правил бесчестной игры. Юродивый – тот, кому не нужны почести, звания и награды, честь и богатство, кому духовная свобода неизмеримо дороже условных и временных ценностей мимо-идущего века.
Также впервые (в сравнении с другими мыслителями) М. Тареев связывает достижение цели и смысла жизни с идеей Церкви. Понятие Церкви у него, правда, выгладит несколько неопределенным, и когда он говорит о том, что победа Христа над миром «совершается не одною Церковью, но Церковью и миром», возникает ощущение, что Церковь он понимает очень узко, едва ли не в границах клира, тогда как мир, признающий своим главой Христа, конечно же, не может даже условно рассматриваться в противопоставлении Церкви как Телу Христову. Наследственные изъяны схоластической экклезиологии православное сознание в начале XX в. только собиралось преодолевать, и по сей день эта работа не завершена.
B 1903 г. С. А. Нилусом были впервые опубликованы воспоминания Н. А. Мотовилова о его беседах с преп. Серафимом Саровским, касавшихся смысла христианской жизни1463. Основное ударение в них ставится на теóзисе, обóжении, одним из признаков которого является чувство радости. «Когда Дух Божий приходит к человеку и осеняет его полнотою своего наития, – говорит преп. Серафим, – тогда душа человека преисполняется неизреченною радостью; ибо Дух Божий радостотворит все, к чему бы ни прикоснулся Он». Смысл жизни – в богообщении, стяжании благодати.
Хотя аутентичность опубликованных С. А. Нилусом текстов не проверялась, а его «харизматическая текстология» вызывает ряд серьезных недоумений, нельзя отрицать весьма значительного воздействия этих воспоминаний на русскую религиозно-философскую мысль XX в.
Вышедшая в свет в 1918 г. книга князя Е. Н. Трубецкого (1863–1920) «Смысл жизни» была глубоко продуманным, выстраданным итогом его многолетних творческих исканий. Обращался ли он еще в 90-х гг. XIX в. к творчеству блаженного Августина, изучал ли философию Ницше или древнерусскую икону – везде ведущим мотивом его исследований был вопрос о смысле жизни, условия и пути его решения. Каждую главу, а иной раз и отдельные положения названной книги, подкрепляет большая предварительная работа.
Е. Н. Трубецкой был убежденным сторонником сознательного отношения к религиозной вере, точнее говоря, понимания истинной веры как высшей ступени человеческого сознания. Именно поэтому для него принципиальное значение приобретали отношение сознания к сфере трансцендентного и, разумеется, соотношение сознания и познания, гносеологическая проблематика. Весьма ощутимо, что ход мысли Е. Н. Трубецкого во многом совпадает с построениями его рано ушедшего из жизни брата Сергея Николаевича, в своей известной работе «О природе человеческого сознания» разрабатывавшего идею «соборного сознания» (1890). Но Е. Н. Трубецкой идет значительно дальше, и в книге «Метафизические предположения познания» (1917) постулирует существование некоего Абсолютного Сознания. Этот мотив органически вливается и в книгу о смысле жизни, причем как в своей изначальной гносеологической постановке, так и частично видоизмененным: чтобы можно было говорить о каком-либо частном смысле индивидуальной человеческой жизни, должен существовать Предвечный, Надвременной Смысл, который метафизически определяется в Абсолютном Сознании.
Совершенно закономерно в книге Е. Н. Трубецкого рассматривается и проблема теодицеи. Она прямо граничит с христианской метафизикой, и здесь мы являемся свидетелями стремления предельно полно сохранить важнейшие интуиции В. С. Соловьева, освобождая их от крайностей платонизма и гностицизма. Конкретной и убедительной представляется полемика Е. Н. Трубецкого с П. А. Флоренским относительно сознательности веры, с С. Н. Булгаковым – о Софии-Премудрости. Однако его собственная концепция Абсолютного Сознания оставляет ощущение незавершенности: неясно, как это сознание соотносится с Божественными Ипостасями, какое место оно оставляет богословской апофатике.
Симптоматично, чти книга Е. Н. Трубецкого «Смысл жизни», призывающая христиан к активной борьбе с мировым злом, вышла и свет в один из самых тяжких и смутных моментов русской истории и теперь вновь приходит к читателю в пору нового, едва ли не менее трудного кризиса…
О смысле жизни последним из русских религиозных мыслителей довелось писать С. Л. Франку (1877–1950), уже находившемуся в вынужденной эмиграции. В свойственной ему удивительно простой и ясной манере он воспроизвел аргументы и выводы своих предшественников, создав насыщенный, выразительный финал русской «философской симфонии», убедительно раскрывающей значение и силу соборного сознания.
Есть, конечно, в этой «симфонии» риторические длинноты, повторения, порой встречаются неожиданные нонаккорды, неразрешенные диссонансы. Осталась, в частности, не вполне разработанной кантовская тема: три столь родственных русской духовности мотива, перечисляемые в последовательности трех «Критик» – апофатики, персонализма и антиутилитаризма, – не без успеха развивались русскими мыслителями до начала мировой войны. Затем философия обнаружила свою проницаемость для политических пристрастий: кто прямолинейно связал Канта с Круппом, кто преодолевал кантианство алогизмом, кто – панлогизмом… Понятно, что и «Абсолютное Сознание» не успело пройти соборной проверки. И тем не менее можно еще раз подчеркнуть полное единомыслие в самом существенном русских религиозных философов.
Конкретное осмысление каждой конкретной личной жизни как жизни «лика», «образа Божия», осуществляется ее со-отнесением с трансцендентной Полнотой Жизни и Смысла, т.е. в богосознании, которое по своей природе тáинственно и синергийно (Ин.6:44–45), а, значит, поддерживает непосредственное богообщение. Осмысленная жизнь стремится быть непрестанным богослужением, благоговейным и радостным несением своего креста, иначе – несением всякого служения в непрерывном богосознании и богообщении.
К истории книжной справы при Патриархе Никоне: философско-культурологический аспект. (Лескин Д. Ю.)
Исправление богослужебных книг при Патриархе Никоне (1605–1681) – ход книжной справы, методы, которыми она велась, основные богословские ориентиры справщиков, их церковно-политические устремления, отношение к книжному (и шире – духовному) наследию Древней Руси, оценка ими роли греческого и латинского влияния на Московское царство XVII в. – все это создает круг вопросов, решение которых позволяет уяснить причины великой трагедии церковного раскола, из-за которого, по выражению Г. П. Федотова, «большая сила ушла из Русской Церкви, обескровливая ее»1464.
***
В историографической традиции последовательно утверждается, что раскол был вызван «не собственно догматическими, но семиотическими и филологическими разногласиями»1465. Однако разногласия эти воспринимались как богословские. В основе раскола лежит культурный конфликт, духовная ориентация никоновских справщиков и поборников старины. Различное отношение к слову и тексту, различное восприятие священного знака, вопросы о соотношении формы и содержания, имени и именуемого встали здесь во главу угла.
Тема книжной справы была в действительности серьезнее и важнее, чем может показаться первоначально. Она коренным образом связана с распространением на Руси книгопечатания в конце XVI – начале XVII в., когда стало очевидным огромное влияние тиражируемых сотнями изданий на духовную ситуацию в государстве. Печатание богослужебных книг требовало осторожного, вдумчивого подхода: все богослужебные славянские тексты пережили многовековую историю и были известны в большом количестве разновременных списков, к тому же не всегда переведенных с одних и тех же изводов.
В едином государстве должно было быть «стандартное издание», надежный и однозначный текст. Важнейшим требованием «исправной» книги становился момент единообразия1466. Но единообразия какого? Согласно каким спискам? Вопрос этот не был чисто филологическим и текстологическим. «Историю или генеалогию текстов восстанавливать в XVII в. не умели не в одной Москве»1467, – писал Г. Флоровский. Вопрос обращения к тому или иному изводу, на том или ином языке (славянском, греческом, латинском) становился вопросом выбора традиции, вопросом духовного выбора.
Всем просвещенным православным XVII в. была очевидна необходимость исправления богослужебных книг, создания печатного образца. Проблема заключалась в выборе метода работы, списков изданий, на которые следовало ориентироваться. И этот вопрос в истории Русской Церкви стал роковым…
***
Славянские богослужебные книги были переведены с греческого языка в IX–XI вв., многократно переписывались и изобиловали ошибками, в некоторых случаях даже лишавшими священный текст смысла. Смысл необходимо было восстанавливать, ошибки – исправлять, насущным становилось и обращение к греческим оригиналам. Однако исключительная редкость древнегреческих рукописей и чрезвычайные трудности, возникавшие из-за незнания текстологии, палеографии, неимения опыта критической работы с текстом фактически заставляли русского книжника XVII в., готовящего к изданию богослужебные книги, делать выбор из следующих вариантов:
1. Книги «литовской печати», т.е. малорусские и черкасские (белорусские), широко распространившиеся в Московском царстве особенно после присоединения к нему Украины. Но в начале XVII в. к этим книгам на Руси относились крайне недоверчиво, изымали их у частных лиц, а некоторые предавали сожжению «за слог еретический». Недоверчиво относились и к самим «белорусцам», которых на Соборе 1620 г. при Патриархе Филарете (1619–1634), много пострадавшем от «латинян», решено было «всех совершенно крестить в три погружения», даже если те были православными: в чистоте западной православной веры в Москве сомневались.
2. Греческие книги «новых переводов», т.е. напечатанные в «латинских» городах: Венеции, Лютеции, Риме. Против таких книг предостерегали и сами выходцы из Греции: «имеют де папежи и люторы греческую печать и печатают повседневно богословные книги Святых отец, и в тех книгах вмещают лютое зелие – поганую свою ересь»1468.
Третий вариант, основанный на герменевтических подходах и состоявший в тщательном изучении редких греческих рукописных списков и древнейших славянских переводов, был исключительно труден. Альтернативой ему становилась ориентация на традиционные русские богослужебные книги, которыми «испокон веков» пользовались предки, книги, окруженные глубоким почитанием, известные многим уставщикам наизусть в мельчайших деталях.
Часть образованных русских, чуждавшихся влияния Запада и вслед за Патриархом Филаретом говоривших: «Латиняне – папежники суть сквернейшие и лютейшие из всех еретиков, ибо они приняли в свой закон проклятые ереси всех древних, еллинских, жидовских, агарянских и еретических вер, и со всеми погаными язычниками, со всеми проклятыми еретиками обще все мудрствуют и действуют», – однозначно выбирали родное наследие.
Другая же часть, усилившаяся после кончины Патриарха Филарета († 1633), воспринимала «литовские» и «новые греческие» книги как вполне ортодоксальные издания. Отечественные традиции казались древнерусским западникам «простыми» и «невежественными», а московские справщики – уступающими грекам и малороссам в авторитетности и компетентности.
Какова же историко-культурная основа сделанного при Патриархе Никоне выбора, с которой так однозначно связывают все последующие общественно-церковные нестроения?
К XVII в. Москва близко познакомилась с греками, так как тогда «патриархи, митрополиты, архимандриты и купчины греческие то и дело к нам ездили: привозили они четки Иерусалимские, иконы, камешки от святых мест Палестины и взамен того получали червчатые бархаты венецийские, дорогие аксамиты и атлабасы, сибирских соболей, кафимский жемчуг и золотые ефимки»1469.
Греков на Руси не любили. Еще в «Повести временных лет» записанная пословица: «Суть же греци льстивы» – была распространенной на Руси и через пятьсот лет. В названном источнике говорилось: «У греков вера пестра, по взятии турским салтаном Царьграда православие у них погибло, и они теперь, под личиною православия, содержат ереси: латинскую, кальвинскую и армянскую». Еще резче сформулировал отношение к греческому православию несколько позже протопоп Аввакум: «Мудры блядины дети, греки: да с варваром турским с одного блюда патриархи кушают рафленыя курки, а русачки миленькие не так: в огонь полезут, а благоверия не предадут»1470.
Это «бытовое» неприятие греков подкреплялось популярным и широко распространенным историософским учением о единственном православном царстве – Москве – третьем Риме – наследнице Ромейского царства1471.
О мессианской роли и особом замысле Божьем о русском народе говорит еще преподобный Нестор в «Повести временных лет». Уже в самом принятии христианства русскими летописец видит милость и дар Божий, так как этим особый урон был нанесен дьяволу. Видя крестящихся в Днепре киевлян, сатана восклицал, стеная: «Увы мне, прогоняют меня отсюда, здесь думал я обрести себе жилище, ибо здесь неслышно было учения апостольского, не знали здесь Бога, но радовался я служению тех, кто служил мне. И вот уже побежден я невеждой (равноапостольным князем Владимиром. – Д. Л.), а не апостолами и не мучениками; не буду уже царствовать в этих странах1472. О русском народе прп. Нестор пишет следующее: «Да никто не дерзнет сказать, что ненавидимы мы Богом! Да не будет! Ибо кого так любит Бог, как нас возлюбил? Кого так почтил Он, как нас прославил и превознес? Никого! Потому ведь и сильнее разгневался на нас, что больше всех почтены были и хуже всех совершили грехи»1473.
Потрясением для всего православного мира стало падение Константинополя, тесно связанное, по мнению многих людей Древней Руси, с Флорентийской унией 1439 г. Оттого еще раз делал благочестивый великоросс вывод, что высшая государственная ценность – хранение веры.
Ярким памятником, повествующим об особой избранности Руси, является «Повесть о белом клобуке», составленная в Новгороде в период архиепископства Геннадия (на кафедре: 1484–1504). Из Рима через Константинополь белый клобук – этот символ чистоты православия и «светлого тридневного Воскресения Христова» – от Константина Великого, первого императора-христианина, попадает на Русь, в Новгород, так как там «воистину есть славима вера Христова». Белый клобук должен остаться в Новгороде, как объяснили явившиеся в видении Константинопольскому Патриарху Филофею в облике светлых мужей Папа Сильвестр и Император Константин, поскольку «Древний Рим отпал от христианской веры по гордости и своевольству, в новом же Риме – в Константинограде, притеснением мусульманским христианская вера погибнет так же. И только в третьем Риме, то есть в Русской земле, благодать Святого Духа воссияет… Так знай же, Филофей, – продолжает Папа Сильвестр, – что все христианские царства придут к своему концу и сойдутся в едином царстве Русском на благо всего Православия… Пожелал Бог подобным благословением прославить Русскую землю, наполнить величием Православия и сделать ее честнейшей из всех и выше всех прежних»1474.
Автор «Повести о белом клобуке» не преминул подчеркнуть и характерную реакцию Римского Папы на решение Патриарха Филофея послать белый клобук в Русскую землю. Папа «заревел от боли и изменился в лице, и в болезнь впал: настолько поганый тот Папа Русской земли не любил из-за веры ее православной, что и слышать о ней не мог…»1475.
В 1492 г. митрополит Зосима называет Иоанна III «новым Царем Константином нового града Константинополя – Москвы и всея Руси». Несколько позже (20-е гг. XVI в.) старец Елиазарьева монастыря Филофей пишет известные послания, где в полноте раскрывается концепция «Москвы – Третьего Рима». Русский Царь именуется им «Православным христианским царем и владыкой всех, браздодержателем святых Божиих престолов святой Вселенской соборной апостольской Церкви Пречистой Богородицы… Который вместо Римского и Константинопольского владык воссиял…». Теперь, после падения двух Римов, «третьего, нового Рима, державного твоего царства святая… Церковь… во всех концах Вселенной… по всей поднебесной больше солнца светится… все православные царства христианской веры сошлись в едином твоем царстве: один ты во всей поднебесной христианам царь». А поскольку русский Царь – единственный помазанник Божий, венчанный на Царство, от благочестия и православности которого зависят судьбы всего мира, должен он «блюсти это со страхом Божиим, стремясь всю жизнь свою к святости». Именно он – высший судья в церковных и гражданских делах, он ответствен более других за христианский народ, так как после этого царства «мы ожидаем Царство, которому нет конца… Два Рима пали, третий стоит, а четвертому не бывати. И твое христианское царство другим не сменится», – учит Филофей юного Иоанна Грозного1476.
Здесь в ярких эсхатологических тонах описана мессианская роль Русского царства, главная задача которого состоит в блюдении чистоты и хранении веры в своих границах.
Эта концепция получает утверждение на Стоглавом Соборе 1551 г., где явно слышится «чувство национально-религиозной гордости, уверенности, что русское Православие – самое чистое и самое святое»1477. В выборе между новогреческими и русскими обрядами («а русский отражал более ранние, древневизантийские черты, введенные на Руси еще в X веке»1478) Собор настоял на сохранении в русской церковной жизни двухперстного знамения, двугубой аллилуии и пр., ставших камнем преткновения во время церковно-обрядовых справ третьей четверти XVII и последующего раскола конца XVII – начала XVIII в. В позднейших писаниях Иоанна IV мы видим попытки обоснования полной независимости русского Православия от греческого, поскольку сам св. апостол Андрей Первозванный был просветителем Русской земли.
По мнению Г. П. Федотова, все эти процессы в Русской Церкви являлись торжеством «иосифлянского» духа, ищущего «социальной организации» и «уставного благочестия». Сама Церковь в лице преп. Иосифа Волоцкого и его учеников (включая старца Филофея) «работает над укреплением самодержавия, отдавая под его попечение свои монастыри и всю Русскую Церковь, “проявляя яркий религиозный национализм”»1479.
Вместе с тем в XIV – первой половине XVII в. уже и греки с большим уважением отзываются о русском благочестии. Еще в 1589 г. во время поставления первого русского Патриарха Иова Константинопольский Патриарх Иеремия в специально написанной грамоте признает, что «великое Российское царство, третий Рим, превзошло всех благочестием»1480. А от середины XVII в., самого кануна принятия патриаршества Никоном, мы имеем уникальный документ – «Путешествие Антиохийского Патриарха Макария в Россию», – написанный его сыном архидиаконом Павлом Алеппским. В нем автор признается, что никогда и нигде не наблюдал такого благочестия и таких длинных церковных служб, как в Москве. «Усердие москвичей к посещению церквей велико, Царь и Царица ведут внутри своего дворца более совершенный образ жизни, чем святые… все время в посте и молитве… Во время службы русские стоят, как статуи, молча, тихо, делая непрерывно земные поклоны… Они превосходят своим благочестием подвижников в пустыне»1481, – пишет Павел Алеппский.
Уже подчеркивалось то великое духовное значение, которое имело Православное царство для современников. Принципиальное неразделение духовной и светской власти, мессианская ответственность Царя за дела веры, за хранение всем народом религиозных истин были незыблемой правдой для преподобного Иосифа Волоцкого, старца Филофея и большинства людей Древней Руси. И совершенно в русле этой традиции лежат «печалования» Аввакума и иных староверов стоглавого толка по вопросам веры, обращенные к Царю Алексею Михайловичу, и призывание его как высшего арбитра в их догматических и канонических спорах-противлениях с Патриархом Никоном, а по сути – с соборным решением Церкви: кто, как не Царь последнего, третьего Рима, должен хранить «непорушенно» чистоту православной веры.
***
В конце XVI в. в России появился Патриарх, игравший огромную роль в русской жизни.
Еще в конце XV в. в Новгород проникает католическое учение о разделении властей и о преобладании власти духовной, подобной свету солнечному, над светским правлением, которое символизировал свет лунный. Эта идея была близка архиепископу Новгородскому Геннадию.
В «Повести о белом клобуке» Папа Сильвестр, явившийся Патриарху Филофею, рассуждает об этом символе патриаршей власти и о венце Великих Князей, «шапке Мономаха» – даре Императора Константина Мономаха Великому Князю Владимиру Всеволодовичу. Венец Мономаха – дар земного царя, белый же клобук – дар самого Христа, Царя Небесного, поэтому он намного «достойнее того, потому что он есть и архангельской степени царский венец, и духовный»1482.
Принижение святительской власти при Иоанне Грозном объясняется именно неприятием подобной «симфонии» и надменным присвоением мессианского призвания только за царским служением.
В начале XVII в. Патриаршество сыграло великую роль в государственной жизни России: лишенная династии страна возложила на Патриархов Иова и Гермогена обязанность сопротивления польским интервентам. Отправленные в 1610 г. из Москвы Патриархом Гермогеном и Боярской думой к Королю Сигизмунду, осаждавшему Смоленск, послы (князь Голицын, митрополит Филарет Никитич – будущий Патриарх, келарь Троице-Сергиева монастыря Авраамий Палицын) объяснили панам, утверждавшим, что Патриарх как лицо духовное в светские дела вступаться не должен, что «изначала у нас в Русском государстве так повелось: если великие государственные или земские дела начнутся, то Великие Государи, призывали к себе на Собор Патриархов, архиепископов и епископов и без их совета ничего не приговаривали, и почитают наши Государи Патриархов великою честию, и место им сделано с Государями рядом; теперь же мы стали безгосударны, и Патриарх у нас человек начальный»1483.
Время Филарета – время полного развития патриаршей власти. Именно тогда Патриарх получил царский титул Великого Государя. Все распоряжения верховной власти выходили от имени обоих Великих Государей; обоим делались доклады, обоим представлялись иностранные послы. Патриарх заботился о возрастании авторитета самодержавной власти, но самодержавие это совместное с Первосвятителем. Несколько ослабленная при преемниках Филарета, «дерзновенность» Святителя к Царю ярко раскрывается в патриаршество Святейшего Никона.
Нельзя не отметить, что благоговейное почитание Патриарха и иерархии было отнюдь не единственной духовной установкой на Руси XVII в. Вопрос о православности архиереев и священнослужителей мог ставиться мирянами очень остро еще до патриаршества Никона. Брестская уния 1596 г. и ее последствия, расколовшие Западнорусскую Церковь, разъединившие иерархию и народ, стали проблемой и Московской Руси с момента воссоединения ее с Украиной.
Конец XVI – начало XVII вв. – время раскола в Малороссии: уния, явившаяся делом архиереев, действовавших без свободного и соборного согласия православной паствы, была отторгнута церковным народом и названа делом «скрытым и потаенным». Иерархия «противление народа рассматривала как каноническое своеволие и мятеж, восстание непокорной паствы против законной власти», православные же, включая московских владык, видели в этой неизбежной антииерархической борьбе исполнение христианского долга, «долга верности и веры»1484.
Этот болезненный разрыв чрезвычайно напоминает случившийся через пятьдесят лет в самой Москве раскол: по крайней мере идеология борцов с униатами-архиереями была воспринята старообрядцами, отстаивавшими перед лицом послушной Патриарху Никону иерархии истины «древлей веры отцов».
В связи с этим поучительны творения афонского инока Иоанна Вишенского, деятельно участвовавшего в борьбе с униатами. «Не попы бо нас спасут или владыки, или митрополиты, – пишет он, – но веры нашея таинство с хранением заповедей Божиих, тое нас спасти мает. Церковный народ имеет право низлагать и изгонять епископов-отступников: да не с тым блазненным оком или пастырем в геену внидут»1485.
Возникшие в 80-х гг. XVI в. Виленское, Львовское, Киевское, Луцкое, Слуцкое и прочие братства, независимые от местных архиереев и подчинявшиеся непосредственно Константинопольскому Патриарху (ставропигиальные), деятельно воплощали эти мысли Иоанна Вишенского в жизнь, наблюдая и даже судя «без всякого прекословия» епископов, реализуя право, полученное от четырех Восточных Патриархов.
***
Описав эти значимые, на наш взгляд, в деле книжного исправления исторические факторы, необходимо остановиться также на отношении русских к книге и письменному наследию вообще, рассмотреть вопрос восприятия подлинной учености на Руси и главные требования к книжнику и справщику как носителю этой учености.
Много написано о значении книги в Средние века. Образ священного текста, богодухновенность, подчеркнутое безавторство средневековой книги – сознательная и глубокая установка всего уклада культуры тех времен; книга содержит истину… Конечно, христианское отношение к тексту отлично от талмудического или исламского, где происходят магическое обожествление и абсолютизация роли книги. «Буква убивает, а Дух животворит» (2Кор.3:6), – говорит апостол. Путь, Истина и Жизнь – Сам Господь Иисус Христос («не Его учение или Его “слово”, как нечто отличное от Его Личности, но Его Личность как Слово»1486).
Книга учит святости и раскрывает подлинную суть вещей. Через нее человек приобщается к тайне. «Велика ведь бывает польза от учения книжного, – на заре Русского государства восклицает Нестор-летописец, – книгами наставляемы и поучаемы на путь покаяния, ибо от слов книжных обретаем мудрость и воздержание. Это ведь реки, напояющие вселенную, это источники мудрости; в книгах ведь неизмеримая глубина; ими мы в печали утешаемся; они – узда воздержания… Если прилежно поищешь в книгах мудрости, то найдешь великую пользу душе своей. Ибо кто часто читает книги, тот беседует с Богом и со святыми мужами»1487.
Итак, книга – беседа с Богом и святыми, она важнейший путь к миру Небесному, потому в церковном богослужении, которое и есть полнота присутствия Божия на земле, книга играет великую роль.
Средние века – эпоха книжности. Книга – учитель, она чрезвычайно практична и служит лишь на пользу души. Поэтому древнерусский переводчик крайне избирателен. Лучше молчати, чем зло глаголати, – максима, известная еще «Изборнику» Изяслава 1076 г. И нет большего зла, чем «богоотменная», «отреченная» книга, вдохновителем которой может быть только сам сатана – настоящая книга учить злу не может.
Это отношение к письменному слову в корне отличается от античного: Платон называл письменность сокрытием смысла, а Плотин безразличен к записи своих произведений. Переписывание книг в эпоху эллинизма – «низкий» труд, презренное занятие для рабов. Но уже в IV в. Палладий в «Лавсаике» с большим уважением говорит об авве Евагрии: «Он преизящно писал оксиринхским пошибом». Мастерство переписывания возвысилось настолько, что «даже такого видного теолога, как Евагрий, ничуть не стыдно и не смешно похвалить за его каллиграфическое искусство»1488.
Менее всего той эпохе свойственны новоевропейская свобода творчества, его абсолютная независимость, авторская индивидуальность. По словам О. Э. Мандельштама, Данте писал «Божественную комедию» «под диктовку, он переписчик, он переводчик… Он весь изогнулся в позе писца, испуганно косящегося на иллюминированный подлинник, одолженный ему из библиотеки приора… И когда уже написано и готово, на это еще не ставится точка… необходимо куда-то понести, кому-то показать, чтобы поверили и похвалили»1489.
Нет в Средневековье не только индивидуального творчества, но и самовольного переписывания текста с любого списка. Писание должно быть чистописанием, благоговейным, безошибочным, осознанным копированием самого верного и почитаемого извода.
Алкуин поучает работников скриптория:
…Пусть берегутся они предерзко вносить добавленья,
Дерзкой небрежностью пусть не погрешает рука;
Верную рукопись пусть поищут себе поприлежней,
Где по неложной тропе шло неизменно перо.
Точкою иль запятой пусть смысл пояснят без ошибки,
Знак препинанья любой ставят на месте своем,
Чтобы чтецу не пришлось сбиваться иль смолкнуть нежданно,
Братье читая честной или толпе прихожан1490.
Средние века и на Востоке, и на Западе, – «времена “писцов” как хранителей культуры и “Писания”, как ориентира жизни, это времена трепетного преклонения перед святыней пергамента и букв»1491, – писал С. С. Аверинцев. Жития русских святых дают многочисленные примеры благочестивого усердия подвижников (святителя Алексия, преп. Сергия Радонежского, преп. Нила Сорского, преп. Иосифа Волоцкого и др.), бравших на себя труд переписчиков священных книг.
По глубокому убеждению русского книжника, священный текст как богодухновенный содержит слова Божии в их полноте. Изменение их человеком, замена даже на «близкие по смыслу» уже чревата ересью и богохульством. В полемике с новообрядцами, например, автор «Дьяконовских ответов» А. Денисов приводит пример исправления святителем Спиридоном Тримифийским проповеди епископа Трифилия. Тот, уча в церкви, «премени речь евангельскую в сказании, юже рече Христос к расслабленному: “возьми ложе свое…”. Святитель Спиридон “не стерпе единыя речи пременение” и, обличая Трифилия, рек: “Или ты мнишися лучше быти глаголавшаго: Возьми одр свой”. После чего покинул церковь»1492. Слово Божие не могло заменяться человеческим речением, ибо «елико бо житие святых лучшее, толика их и словеса наших лучше словес и действителнейша суть»1493.
В сознании древнерусского книжника отсутствует позднейшее четкое разделение Священного Писания и Священного Предания. «Словеса святых» и библейский текст едины в своей освященности и почитании.
У того же Павла Алеппского мы находим важное свидетельство, что в самое время богослужения уставщики вслух поправляли ошибающегося чтеца. Эта традиция сохранилась у старообрядцев до сегодняшнего дня1494. Причем ошибкой почиталось даже малейшее отклонение в чтении сакрального текста (например, неразличение в произношении букв ѣ и Е). Объясняется это тщательное соблюдение орфографических и орфоэпических норм представлением древних книжников о единстве формы и содержания, смысла и его выражения. Форма и содержание принципиально отождествляются, богооткровенный смысл может иметь только одно-единственное выражение, также дарованное Богом. Язык – далеко не просто средство передачи мысли, он не безразличен к самой тайне обозначаемого, он символически един с сутью вещи. Оттого изменение в обозначении неизбежно ведет к искажению содержания. Потому даже ошибиться в ударении и акцентуации очень опасно: «Страшно бо есть, братие, не точию сие рещи, но и помыслити»1495.
Б. А. Успенский справедливо отметил, что в сознании древнерусского книжника слова священных текстов «функционируют так, как в обычном случае функционируют только имена собственные» (курсив мой. – Д. Л.). В самом деле, именно собственные имена характеризуются непосредственной и однозначной связью обозначения и обозначаемого. Изменение в форме имени связывается обычно с другим денотатом (содержанием), т.е. измененная форма естественно понимается как другое имя. Именно поэтому новая форма Имени Божия – Иисус, введенная справой при Патриархе Никоне вместо прежней Исус, – могла рассматриваться убежденным в неразделимости имени и именуемого религиозным сознанием как наименование Антихриста. Вообще говоря, древнерусскому книжнику в высшей степени свойствен «имяславческий» взгляд на мир, присущий многим цивилизациям начиная с древнеегипетской (так его рассматривал священник П. Флоренский)1496.
В русских Требниках мы находим специальную «Молитву разрешения писарем», где, в частности, переписчик исповедуется: «…согреших, переписываа святаа и божественнаа писания святых апостол и Святых отец по своей воли и по своему недоразумию, а не яко писано»1497. В то же время обязанностью писца было и исправление ошибок копируемого текста, поэтому среди покаянных ответов, ожидаемых от писца на исповеди, находим и следующее: «Книги писах и не правих»1498. Да и само слово «погрешность», производное от «грех», означает именно ошибку.
В этом контексте становятся понятными борьба и готовность так называемых старообрядцев умереть за единый «аз» (например, в «Символе веры» в прежнем чтении значилось: «Рожденна, а не сотворенна»); противление чисто грамматическим исправлениям: «во веки веков» вместо «во веки веком», «аминь» вместо «аминъ» и др. Ибо «единым азбучным словом (т.е. буквой. – Д. Л.) ересь вносится»; «малое слово велику ересь содевает».
Такое отношение к ошибкам и исправлениям устной или письменной речи было нехарактерно для католического Запада: там невольная ошибка не связывалась с искажением содержания и не рассматривалась как грех.
В приведенных выше стихах Алкуина опасность ошибки – в неясности текста, в возможности запинки чтеца при храмовом чтении, но не в еретическом искажении. Через 800 лет после Алкуина Петр (Могила), выражая западнорусский взгляд на эту проблему, также писал, что, если в требниках встречаются какие-либо погрешности или ошибки, то они нисколько не вредят «нашему спасению, ибо не уничтожают числа, силы, материи, формы и плодов святых таинств»1499.
Отношение древнерусского писца к переписываемому тексту ярко раскрыто в предисловии к «Сборнику житий святых Отец» из библиотеки митрополита Иоасафа (Скрипицына) (первая половина XVI в.): «Писах же с разных списков, тщася обрести правыи. И обретох в списках онех многа неисправна. И елика возможна моему худому разуму, сия исправлях, а яже невозможна, сия оставлях, да имущи разум больше нас, тии исправят неисправленная и наполнят недостаточная. Аз же что написах, и аще кая обрящутся в них несогласна разуму истины, и аз о сих прощениа прошу. А хто имать сия преписовати или прочитати, да не преписует тако, не прочитает, но истинное да пишет и глаголет, еже есть угодно Богу и полезно души, понеже и аз грешный тако хощу»1500.
***
В русской традиции язык освящается, становясь «школой Православия», образом, таинственно соответствующим первообразу. Этим языком становится церковно-славянский язык, воспринимаемый целиком как «система символического представления православного вероисповедования», а вовсе не как одна из возможных знаковых форм передачи информации.
Русские авторы разработали целое учение о церковно-славянском языке, противопоставляя его языкам «басурманским», латыни, в некоторых случаях даже греческому. Для русского книжника очевидно, что правильная вера определяет правильный способ выражения, т.е. язык. А к XVI–XVII вв. чистотой веры обладало лишь Московское царство, что было однозначно определено концепцией «Москва – Третий Рим». Славянский язык становится символом чистоты Православной веры, в то время как татарский язык ассоциируется с мусульманством, латынь – с католичеством и т. д.
Восприятие славянского языка как самого высокого и Богом внушенного идет издревле. Уже автор IX–X вв. Храбр Черноризец пишет: «Ведь если спросишь книжников греческих, говоря: кто создал вам письмена или книги перевел и в какое время, то мало кто среди них [это] знает. Если же спросишь славянских книжников: кто вам письмена создал или книги перевел, то все знают и, отвечая, говорят: святой Константин Философ, названный Кириллом, он и письмена создал, и книги перевел, и Мефодий, брат его. Ведь еще живы те, кто их видели… И потому [еще] славянские письмена более святы и более достойны почитания, ибо создал их святой муж, а греческие – язычники эллины»1501.
Этот аргумент повторяет и Епифаний Премудрый в «Житии Стефана Пермского», говоря, что русская грамота честнейши есть еллинския: свят бо муж сотворил ю есть, Кирилла реку философа. А греческую алфавиту Еллини некрещени, погане суще, составили суть.
После падения Константинополя в 1453 г. это мнение получает еще большее значение. В «Толковой Палее» 1494 г. находим оригинальное русское произведение «Сказание о славянской письменности». Здесь уже сама русская грамота (подобно «русской вере» в сочинениях Ивана Грозного) признается богооткровенной и независимой от греческого влияния: «Еже ведомо всем людем буди, яко русский язык ни откуду прия веры святые сея; и грамота русская никим же явленна, но токмо Самим Богом Вседержителем, Отцом и Сыном и Святым Духом. Володимиру Дух Святый вдохнул веру приняти, а крещение от грек… а грамота русская явленна Богом и дана в Корсуне русину (выделено мной. – Д. Л.), от него же научися Костянтин Философ, оттуду же сложив и написав книги русским языком…»1502.
Иоанн Вишенский пишет в «Книжке»: «Славянский язык есть плодоноснейший от всех языков и Богу любимший, понеж без поганских хитростей и руководств, се ж ест краматик, рыторык, диалектик и прочих коварст тщеславных, диавола вместных, простым прилежным читанием без всякого ухищрения к Богу приводит, простоту и смирение будует и Духа Святаго подъемлет»1503.
Таким образом, славянский язык – язык подлинной книжности, т.е. язык общения с Богом и святыми мужами. Наиболее хорош он потому, что святыми создан, и святые писали на нем. В XVII в. образованные русские люди ясно видели, как мало книг «внешней мудрости» существует на славянском языке, что практически вся славянская письменность – православное переводное и оригинальное наследие. Чистота языка становилась уже не простой данностью, но даром Божиим, который необходимо было оберегать от «тьмы века сего», хранить от всяких искажений и нововведений.
Именно славянский язык в отличие от латыни и даже греческого «истиною, правдою Божиею основан, збудован и огорожен есть». «Желающий спастись, – продолжает Иоанн Вишенский, – если до простоты и правды покорнаго языка словенского не доступит, аки спасения, аки освящения не получит» (выделено мной. – Д. Л.). На славянском языке вообще невозможна ложь, ибо сам он по своим речевым нормам – язык богооткровенной истины. В нем «лжа и прелесть никакого же места имети не может», потому диавол простого языка словенского не любит и борется с ним1504. Эти места в сочинениях Иоанна Вишенского особенно были любимы в раскольнической среде, поскольку «старобрядческие» писания соответствовали точке зрения афонского учителя.
Протопоп Аввакум в «Книге Толкований», обращаясь к Царю Алексею Михайловичу, говорит: «Ведаю разум твой, умеешь многи языки говорить: да чиго в том прибыли? С сим веком останется здесь, а во грядушем ничимже ползует тя. Воздохни-тко по-старому. И рцы по русскому языку: Господи, помилуй мя, грешнаго! А «киръ елеисон» («Господи, помилуй» по-гречески) оставь: так елленя говорят, плюнь на них! Ты ведь, Михайлович, русак, а не грек. Говори своим природным языком; не уничижай ево и в церкви, и в дому, и в пословицах. Как нас Христос научил, так и подобает говорить (т.е. Сам Христос научил русской речи! Можно вспомнить здесь убеждение многих «простецов», что и Богородица, и Николай Чудотворец – русские. – Д. Л.). Любит нас Бог не меньше греков: предал нам и грамоту нашим языком Кириллом святым и братом его, чево же нам еще хочется лутче тово? Разве языка ангельска?»1505. Таким образом, славянский язык – совершеннейший после недоступной ангельской речи непрестанного славословия.
Если в писаниях XVI–XVII вв. славянский язык сравнивается с греческим, причем оценивается часто выше последнего, то латынь, вне всякого сомнения, воспринимается как типично еретический язык, который по самой своей природе искажает содержание христианского учения, неадекватно передает его («Бог не говорит на этом языке»). Собственно, и Патриарх Никон во время полемики с Паисием Лигаридом назвал Газского митрополита неправославным из-за того, что тот начал возражать Патриарху по-латыни: «Рабе лукавый, от уст твоих сужду тя, яко не си православен, понеже и языком латинским блядословиши нас»1506.
Бытовало убеждение, что «кто де по латыни научится, и тот де с правого пути совратится». В виршах, приписываемых известному московскому книжнику, судье «Учительного Евангелия» Кирилла Транквиллиона Ивану Наседке, читаем:
И латинскую грамоту свою [католики] всех болши похваляют.
И глаголют про нея, яко всех мудряе,
Мы же глаголем: несть латыни зляе.
Паче же рещи, не от свята мужа грамота их сотворена,
Но от поганых и некрещеных еллин изложена…1507
Еретичность латыни усматривается уже в том, что на ней «растленно» произносятся священные имена: «Самого Сына Божия спасительное имя Иисус глаголют Иезус, святых имена – Михаель, Даниель, Израель, Иерузалем, Грегор. Всех же стыднейшее – святаго многострадального праведнаго Иова зовут срамно Йоб…»1508.
Потому уверен русский книжник: без латинского языка «мощно и премощно нам быти… Не Бог их посылает на нас, но сатана – на прельщение, а не на исправление». Ученые книжники, например, Захария Копыстинский, говорят, что латынь – «язык оскудный есть же так реку до трудных высоких и Богословных речи недоволный и недостаточный», в отличие от славянского, который во всем «природно» согласуется с греческим1509.
Другие книжники не без гордости сообщают, что латинский язык им не знаком, как и «многия в нем ереси». Если приверженцы новой мудрости обвиняли их в невежестве и грубости, в темноте и непросвещенности, то они соглашались с этими высказываниями, говоря, что полезнее не учиться грамматике, риторике и философии, но «в простоте Богу угождати».
Теперь необходимо перейти к другому существенному для понимания природы споров середины XVII в. вопросу – о роли и месте учености, знаний вообще в системе культурных ценностей Древней Руси.
***
Подлинная ученость была укоренена, по мнению святых мужей Древней Руси, в неустанной молитве, богослужебной жизни и внимательном вчитывании в освященные традицией книги. Быть может, этот традиционализм и убежденность, что у Руси есть все для того, чтобы смиренно идти по пути спасения, сделали ее замкнутой для проникновения новых писаний и переводов. Исключительно редки были в московский период и знатоки языков.
Одним из первых забил тревогу князь Андрей Курбский (1528–1583). Видя успехи «скверных сект» и неподготовленность к борьбе с ними православных, он пишет: «А мы неискусны и учиться ленивы, а вопрошати о неведомых горды и презоривы». Будучи ревнителем отеческих преданий, князь сожалел, что православные так мало знают и читают творения Святых Отцов: «Наших учителей чуждые наслаждаются, а мы гладом духовным таем, на свои зряще»1510. Видя, что многие творения Святых Отцов не переведены на славянский язык, он сам берется за это сложное дело и переводит с латыни, так как именно на Западе, по мысли Курбского, после падения Константинополя сосредоточиваются сокровища святоотеческого наследия.
Однако к тому времени на Руси уже вполне сформировалась область учености и были четко расставлены акценты. И на напоминание Курбского, что «древние учителя наши в обоих научены и искусны, сиречь во внешних учениях философских и Священных Писаниях», у русских книжников был выработан вполне традиционный ответ.
Еще Нестор Летописец в предисловии к житию преп. Феодосия Печерского смиренно заявляет: «Невежда я и недалек умом, необучен к тому же я никакому искусству, но вспомнил я, Господи, слово Твое, вещающее: “Если имеете веру с горчичное зерно и скажете горе сойди с места и низвергнись в море, тотчас же повинуется вам”»1511. Таким образом, знания и умения и при отсутствии серьезной школы могут быть чудесным способом восполнены Всемогущим Богом.
Образованнейший Епифаний Премудрый, автор «Жития преподобного Сергия Радонежского», многократно называет себя «немощным», «грубым» и «неразумным» (и это не риторический прием!). Епифаний глубоко уверен, что «дар слова и разума, и памяти» дается лишь по милости Божией, что все человеческие познания, которых у Епифания немало, суть слепота, хромота, глухота, немота и помрачение ума без всепокрывающей Божьей благодати.
В «Житии Стефана Пермского» он выражается еще определеннее: «Аз бо есмь умом груб и словом невежа, худ имея разум и промысл вредоумен. Не бывашу ми во Афинех от юности, и не научихся у философов их ни плетениа риторска, ни витийскых глагол, ни Платоновых, ни Аристотелевых бесед не стяжах, ни философий, ни хитроречиа не навыков, испроста – отинудь весь недоумениа исполнихся. Но надеюся на Бога всемилостиваго и всемогущаго, от Него же вся возможна суть»1512.
В конце XV – начале XVI в. подобное незнакомство со светской премудростью выставляется образованными русскими людьми как своего рода достоинство, так как незнание – лучший гарант незараженности «хитроумными и льстивыми учениями». Притом далеко не всегда можно на слово верить московскому писателю, в крайних формах утверждающему свое невежество и абсолютную непричастность к канону «septem artes liberales».
Старец Филофей пишет дьяку Мисюрю Григорьевичу: «И тебе, моему государю, ведомо, что яз сельской человек, учился буквам, а еллинских борзостей не текох, а риторских астроном не читах, ни с мудрыми философы в беседе не бывах: учуся книгам благодатного закона, аще бы мощно моя грешная душа очистити от грех, о сем молю милостиваго Бога»1513.
Здесь речь идет уже не просто об авторском самоуничижении, но о принципиальном отказе от этих наук, воспринимаемых как языческое мудрование, вредящее делу спасения. Усиливающееся западное влияние, в том числе и культурно-просветительское, встречает и более резкий отпор. Так, Иоанн Вишенский в своих писаниях, несмотря на знакомство со святоотеческим наследием, включая и «Ареопагитики», называет себя «голяком-странником» и, не приемля «поганской латинской мудрости», схоластического стиля и метода, «художества риторского ремесла» и «плотского внешнего мудрования», восхваляет «простоту голубиную» и «глупство перед Богом». Он пишет: «А о собе аз и сам свидетельство вам даю, яко грамматического дробязку не изучих, риторичные игрушки не видах [вариант: ведах], философского высокомечтателного ни слыхах. Мой есть даскал (т.е. Христос – дидаскал, учитель. – Д. Л.) простак, оле от всех мудрейший, который бес книг упремудряет; мой даскал – простак, который рыболовцы в человеколюбцы претворяет; мой даскал, который простотою философы посмевает; мой даскал, который смирением горъдость потлумляет»1514.
Мы уже приводили высказывание Иоанна Вишенского, где он называет славянский язык «плодоноснейшим от всех языков и Богу любимшим» из-за того, что нет в нем «кграматик, рыторык, диалектик и прочих коварств тщеславных», что, минуя их, приводит он к Богу «простым прилежным читанием». «Чи не лепше тобе, – продолжает он, – изучити часословец, псалтыр, охтаик, Апостол и Евангелие с иншими, Церкви свойственными, и быти простым богоугодником, и жизнь вечную получити, нежели постигнути Аристотеля и Платона и философом мудрым ся в жизни сей звати – и в геену отъити». «Машкарному разуму» и хитросплетениям схоластики Иоанн Вишенский противопоставляет простоту незыблемой веры – «смиренномудривый охтаик»: «Ты же, простой, неученый, и смиренный Русине, простого Евангелия ся крепко держи, в нем живот вечный тебе сокровенно есть»1515.
Таким образом, философия, риторика, диалектика, грамматика представляют собой, по мысли Иоанна Вишенского, а вслед за ним многих русских писателей, систему наук, изучение которой лишь уводит от истинного христианства.
Цель подлинной науки – раскрывать истину и приводить к Богу. Но именно это бессильны совершить «свободные науки» и сама философия. Архимандрит Покровского монастыря Спиридон Потемкин (50-е гг. XVII в.) вопрошает: «Како наставит философия на путь истинный: един бо философ ариянин, а другий македонянин, а третий – лютер, ин же калвин, а ин – римлянин, и иних множество, но сии вси учатся в римских училищах, яже суть школы латынския, а за учение не дают ничесоже, кроме душ своих»1516 (выделено мной. – Д. Л.).
Здесь уже подчеркивается опасность самих новых школ, заводимых по западному, латинскому образцу: в то время в Москве наука уже вполне отождествляется с католичеством. По убеждению русских книжников, постижение философии почти всегда сопровождалось вероотступничеством. Арсений Грек «трижды Христа отрекшася учения ради философскаго», – писал старец Авраамий в 1670 г.
Сторонники Патриарха Никона, смело заявляя, что «святые отцы у нас в русской земле до сей поры нынешнея веры не знали того ради, что грамматического учения и прочих мудрых книг не умели», задавали язвительные вопросы поборникам старины: «Како можети разумети, не ведуще многих языков, ниже риторства, ни философии учащеся?». Традиционный ответ таков: «Понеже буйством проповеди благоизволи Бог верующих спасти, а не философством, ни риторством. И Ефрем Сирин глаголет: верну о Христе возможно препрети и риторов, и философов, истине противляющихся, кроме риторства, философства и грамматического учения1517.
Грамматика, риторика и философия явно ассоциируются в этом контексте с язычеством и латинством, являясь чуждыми истине и противостоя Священному Писанию.
Еще в XVI в. русские книжники обвиняли «папежников» в том, что они больше «внешнему диалектику, сиречь спирательному (т.е. спиритуалистическому. – Д. Л.) ведению последуют, анжли внутрьной церковной богодарованной философии», признавая таким образом возможность подлинной «внутренней» философии, не имеющей ничего общего с «суемудрыми учениями латинников» (Острожский священник Василий. О единой вере1518).
Именно таков смысл филиппик мнимых староверов против «крамолы суемудрого знания» и «пакостной латинской лести». В их полемических писаниях противопоставление грамматики и Писания, философии и истины достигает высшего напряжения и трагизма. Старец Епифаний, духовный отец протопопа Аввакума, начинает свое жизнеописание следующими словами: «Не позазрите скудоумию моему и простоте моей, понеже грамотики и философии не учился, и не желаю сего, и не ищу, но сего ищу, како бы ми Христа милостива сотворити себе и людем, и Богородицу, и святых Его»1519. Епифаний не только высказывает отрицательное отношение к внешним наукам, но и выражает убеждение в невозможности спасения занимающихся философией и грамматикой.
В небольшой «Похвале русскому природному языку» протопоп Аввакум обращается к своим читателям: «Не позазрите просторечию нашему, понеже люблю свой русской природной язык, виршами философскими не обык речи красить, понеже не словес красных Бог слушает, но дел наших хощет. И Павел пишет: “Аще языки человеческими глаголю и ангельскими, любви же не имам – ничто же есмь”. Вот, что много рассуждать: не латиньским языком, ни греческим, ни еврейским, ни же иными коими ищет от нас говора Господь, но любви с прочими добродетельми хощет, того ради и я не брегу о красноречии и не унижаю своего языка русскаго»1520.
В «Книге Толкований» (1673–1677) Аввакум говорит о «бесослужении» свободных наук. «Не ищите риторики и философии, ни красноречия, но здравым истинным глаголам последующе, поживите. Понеже ритор и философ не может быть християнин. Григорий Нисский пишет, и Златоуст тому же согласует, яко ни на праг церковный ритор и философ достоин внити… (выделено мной. – Д. Л.). Да и все святии нас научают, яко риторство и философство – внешняя блядь, свойственная огню негасимому. От того бо раждается гордость, мати пагубе. И несть ми о сем радения. Аз есмь ни ритор, ни философ, дидаскалства и логофетства неискусен, простец человек и зело исполнен неведения»1521, – пишет он.
Здесь в резкой форме противопоставлены внешняя, абстрактная, не обращенная ни к чему ученость и Божье дело: все, по мысли Аввакума, должно служить «единому на потребу». Аввакум уверен: знание языков, а соответственно и приобщенность к мировой культуре, не являются необходимыми в деле спасения. Такая же реакция последовала и на книгу «Скрижаль», переведенную при попечении Святейшего Патриарха Никона1522.
Излишне говорить, что эта позиция полемистов XVII в. вполне осознана и принципиальна; объяснить ее невежеством и обскурантизмом просто невозможно. Известные «хранители старины» становились на защиту традиционной русской системы образования, не включавшей в себя «trivium» и «quadrivium». По выражению Иоанна Вишенского, обучение осуществлялось «простым прилежным читанием» «книг благодатного закона» на родном славянском языке, признанном самым непорочным и наиболее соответствующим богодухновенным текстам. Корпус канонических текстов был священен: его многократно прочитывали, заучивали наизусть, запоминая малейший знак или речевой оборот. Эти тексты были всегда на слуху, ибо практически все являлись богослужебными. При овладении книжным языком учащийся шел от текста к смыслу, сама грамматическая форма книги была учительна, и потому священна. Выше уже отмечалось принципиальное неразделение древнерусским книжником формы и содержания.
Исправления этих текстов (во время патриаршества Святейшего Никона первыми были справлены «Псалтирь» – важнейшая учительная книга Древней Руси – и «Служебник»), приведение речевых форм священных книг в соответствие с грамматическими правилами (по «Грамматике» Мелетия Смотрицкого) не могли не вызвать глубинных потрясений в традиционном, не знавшем школьного (академического) образования, русском обществе и воспринимались как сознательная порча священных книг. Ориентация на формальную грамматику приводила к тому, что, по мнению многих людей середины XVII в., преданных русской старине, книги наполнялись еретическими смыслом и искажениями.
Серьезное всматривание в культурно-исторический фон трагической и великой эпохи конца XVII – начала XVIII в., когда Русь входила в период Нового времени, вдумчивый анализ истоков почитания письменного слова, отношения к внешним наукам и иностранным языкам в Древней Руси служат необходимым основанием для правильного понимания событий, которые в тот период потрясли российскую обыденность.
Патриарх Никон: традиция и современность (русское певческое искусство второй половины XVII – начала XVIII в.). (Васильева Е. Е., Кручинина А. Н., Заболотная Н. В.)
К середине XVII в. в Русской Церкви и Российском государстве разворачивается мощное движение: собирание святынь, книжная справа, попечение о единстве мира – православной Эйкумены. Святейший Патриарх Никон в этом движении – центральная фигура; главная задача и основная трудность его деятельности заключалась в выработке и утверждении «симфонии» властей. Политические события (войны, дипломатия), социальные катаклизмы (бунты, эпидемии), экономические проблемы – все стороны управлявшейся царем-самодержцем жизни России в тех условиях становились неотъемлемой областью попечения со стороны Церкви и ее Предстоятеля, но теперь с иной позиции – позиции ответственности за судьбы Вселенского Православия, всей православной Эйкумены.
Грандиозность надвигавшихся перемен в масштабе цивилизационного взаимодействия роковым образом совпала с неготовностью русского общества воспринять их. Наиболее проблемным и нестабильным звеном в многосложной структуре социокультурного взаимодействия и преобразований явился аппарат управления, который после Смутного времени формировался из заново приближенных к Государю дворянских родов1523.
Успешные польские походы Алексея Михайловича возвратили Москве города, земли, принесли тишайшему Царю предложение Польской короны. Тем временем моровое поветрие опустошило столицу; ее заполнили православные, пришедшие с Царем из Литвы. Действия Патриарха дополняют действия Царя в области дипломатии (покровительство Богдану Хмельницкому и последовавшее воссоединение Украины с Россией) и военной политики (снаряжение обозов для войск). Попечение Патриарха Никона о порученной ему царем семье спасает династию и уберегает войско от эпидемии.
На вершине этого периода начинается история Святого Живоносного Воскресения Христова монастыря Нового Иерусалима – созидание Русской Палестины (после Русского Афона – Иверского монастыря). Братия и строители – новый народ, собранный «от моря и от юга»; здесь начинается их новая жизнь, благословение Патриарха определяет предназначение и судьбу. Не было вкладов в этот монастырь, не было записей в книги, неизвестны мирские имена монахов. Известны имена мастеров, «ценинников», музыкантов, «боярских детей», служивших Патриарху. А.В. Позднеев, самый неспешный и независимый исследователь XX в., открывший Новоиерусалимскую школу песенной поэзии и посвятивший ее рукописным сборникам многолетние труды, перечисляет имена с некоторым изумлением – кажется, нет имени, существенного для культурной жизни России, которое не входило в орбиту монастыря Нового Иерусалима1524.
Монастырский устав, усвоенный из Иерусалимской традиции и от храма Гроба Господня1525, заключает в себе много важных особенностей: непрерывная служба, особые чинопоследования, процессии, звоны и др. Этот порядок должны были обеспечить своды песнопений (многороспевные комплексы, исходя из вековой практики Русской Церкви); массив монодийной службы иногда размечается многоголосными эпизодами. Столь же строго, полно и точно осмысляется здание Великой церкви: внутреннее ее пространство опоясывает надпись из Скрижали, толкующая церковно-литургические предметы, символы, а все приделы, алтари и примечательные места сопровождают надписания, отсылающие к соответствующим святым местам Храма Гроба Господня и Святой Палестины1526.
Ставропигиальные монастыри, основанные Патриархом, составляли живое единство; между ними шли деятельная переписка, пересылка книг, припасов, передвижение братии и трудников. Особенно прочными были связи между Иверской и Воскресенской обителями. И «спеваки-черкасы» из Украины, и кутеинские монахи, приведенные вместе со своим печатным хозяйством из разоренного монастыря из-под Орши, и «концерты» в зеленой сафьяновой книге участвуют в общении обителей (между многими другими реалиями они упоминаются в переписке). Любимое творение Патриарха Никона – монастырь Нового Иерусалима стал уникальным центром, влекущим к себе и оказывавшим серьезное влияние на творческие процессы в разных областях культуры.
В этих обстоятельствах начинается история Новоиерусалимской школы песнотворчества, закладываются гомилетические, экзегетические, историософские традиции – начинает формироваться новая эпоха русской истории и культуры – эпоха Нового времени…
***
Историософская, искусствоведческая и музыковедческая литература оценивает культуру конца XVI – первой половины XVII в. как период наивысшего расцвета певческого искусства Руси. Древнерусские нотированные рукописи представляют собой хранилище звучащих эйдосов, постигаемо-непостижимых обыденным человеческим знанием. Обращенные к миру Небесному, звучащие эйдосы проецируют мир Горний в образах мира дольнего. В нотированных рукописях собран свод идеальных представлений эпохи о мире, об обществе, о себе, воплощенный в нераздельном единстве поэтического текста и роспева – в песнопении. Объединенные в книги согласно Уставу, лунному и солнечному кругу, они создавали звучащую картину мира Древней Руси.
В нотированных рукописях «звучит» история христианства – Вселенской Церкви и история России. Эта тема обозначена еще в древнейших нотированных рукописях, а в историческом времени Церкви переходит в формы внебогослужебной практики. Пример тому – Новоиерусалимская школа песенной поэзии.
Сложившийся в дониконовскую эпоху корпус богослужебных песнопений оказался избыточным по отношению к реальной литургической практике1527. При этом следует иметь в виду, что нотированные книги воплощали не норму, а безграничные возможности выбора, что в определенной степени противоречило самой задаче письменной фиксации как воплощенного идеала церковного пения. Перед Патриархом Никоном стояла труднейшая задача – упорядочить корпус и выработать отношение к спонтанным процессам развития церковно-певческого искусства. Если при первом русском Патриархе Иове возникает стремление к полноте, расширению состава распеваемой гимнографии, при Патриархе Гермогене появляются вновь распетые корпусы служб, при Патриархе Иоасафе начинаются работа по изменению фонетических редакций (правка на речь), а в связи с этим и редактура напевов, то главнейшим попечением Патриарха Никона явилась реализация равновесия между литургической полнотой и реальными возможностями богослужебной практики.
Особого внимания требовала певческая подготовка текстов, вновь переведенных с греческого. Позиции Патриарха в этом многотрудном деле, как показывают наши исследования, реализовывались не через словесные формулировки, а в практическом действии: не закрепленные документами, наказами, эти позиции становятся известными и понятными благодаря нотированным рукописям, восходящим к Никоновскому кругу. Точнее всего они определяются через отношение к Воскресенскому монастырю Нового Иерусалима: некоторые рукописи приходили в монастырь, другие создавались или собирались его братией.
В научной литературе прочно утвердилось мнение, что Патриарх Никон особенно любил пение партесное, пренебрегая древними, освященными традицией формами церковно-певческого искусства. Однако оно не подтверждено источниками – их изучение приводит к иным и даже противоположным бытующей позиции выводам1528.
Любовь к церковному пению и знание его древней традиции Патриарх Никон приобрел еще в Желтоводском монастыре, исполняя послушание на клиросе, когда традиция монастырского песнотворчества в начале XVII в. переживала пору наивысшего расцвета. Все распри, столкновения, споры были еще впереди. Святейший воспринял лучшее – высочайшие достижения монодической традиции; мог он знать и ранние формы русского многоголосия. Став митрополитом Новгородским, Никон «превелие име прилежание до пения, и на славу прибрав крылосы предивными певчими и гласы преизбранными, пение одушевленное, паче органа бездушнаго. И такаго пения, яко же у митрополита Никона, ни у кого не было» (см. в ч. III наст. сб. «Известие о рождении и воспитании и о житии Святейшего Никона…»).
И тем не менее на протяжении XIX и XX вв. в научной литературе, посвященной истории и теории церковного пения, сложилась устойчивая концепция о разрушительной роли Патриарха Никона по отношению к традиционному богослужебному певческому искусству. Из работы в работу переходят одни и те же суждения, не подкрепленные объективным анализом дошедших до нас источников.
Эти источники – богослужебные нотированные рукописи, созданные после 60-х гг. XVII в. Круг их обширен: певческие книги, воспроизводящие всю полноту церковного пения в его реальной связи с чином, авторские теоретические руководства, изъясняющие «тонкость и дробь» церковных напевов. Эти памятники к настоящему времени хорошо изучены, изданы, введены в педагогическую практику и современную литургическую практику и по праву считаются высшими достижениями русской церковно-певческой традиции. Высоко оценивая значимость этих памятников, исследователи не учитывают того, что их создание было «санкционировано» деятельностью Патриарха Никона.
Корпус гимнографических поющихся текстов сохранился в рукописях послениконовской поры с небольшими изменениями, касающимися как орфографии, так и редакционной правки; новоистинноречная редакция вошла в практику церковного пения уже к 50-м гг. XVII в., а многогласие, выхолащивавшее смысл, содержание и догматическую сущность богослужения, подверглось осуждению еще на Стоглавом соборе. В связи с этим ни одно из порицаемых деяний Патриарха Никона не соответствует термину «реформа», поскольку Патриарх не изменял сути древнерусской певческой традиции, но стремился исправить накопившиеся нестроения.
В вину Святейшему ставится особая любовь его к пению партесному, ориентированному на культуру Нового времени. Однако расширение средств выразительности, введение новых певческих стилей, авторские богато украшенные роспевы, существование одного текста с разными напевами получили повсеместное распространение с XVI в. Церковное пение (не только эпохи Средневековья, но и Нового времени) по определению многороспевно. Это связано и с многофункциональностью одного гимнографического текста в службе, и с художественными задачами и риторическими приемами выявления кульминаций в драматургии службы. Многоголосие, как строчное, так и впоследствии партесное, есть частный случай многороспевности, добавляющий церковному пению художественную полноту, особую красочность, стилевое многообразие.
Тем не менее певческие нотированные рукописи, созданные в 60–90-х гг. XVII в., обладают особыми качествами. Суть не только в книжной справе, нашедшей отражение в них. Суть в ином по сравнению с предшествующим (от начала XVII в.) периодом порядке расположения материала, а также в новом отношении к выразительным средствам знаменного роспева.
Для того, чтобы определить новые, связанные с влиянием идей Патриарха Никона, особенности нотированных рукописей, необходимо выявить круг достоверных письменных источников (хранятся в Государственном историческом музее – Воскр. перг. № 27, 28; Син. певч. № 1357–1381)1529. Прежде всего это нотированные рукописи, имевшие владельческие и вкладные записи самого Святейшего, которые составляют первый ряд источников (Воскр. № 28 перг., Син. певч. № 1357, 1358, 1360, 1362, 1363, 1368)1530. Шесть рукописей, созданных в 40–50-х гг. XVII в., подробно фиксируют церковное пение дониконовской поры (монодия разных роспевов, знаменная нотация): они содержат полный круг церковного пения, записанный знаменной нотацией. Среди них только одна выпадает из этого круга – Син. певч. 1368 «Ирмологион нотный». Этот кодекс создан в 1652 г. в Орше и пришел к Патриарху от кутеинских монахов.
История этой рукописи чрезвычайно показательна: она сохранила подробные записи о своем происхождении и бытовании (написана священником Тимофеем Куликовичем для Иоанно-Предтеченской церкви православного братства «в Белом Ковлю», с 1657 г. принадлежала Воскресенскому монастырю Нового Иерусалима, имеет внизу листов скрепу рукой Патриарха Никона). Нельзя не обратить внимание на тонкое художественное оформление книги, а главное – на полноту состава и профессионализм музыкального письма.
Специального рассмотрения заслуживает вопрос о взаимодействии восточнославянских церковно-певческих традиций. В связи с этим был проанализирован круг богослужебных нотолинейных сборников церковной монодии, получивших наименование ирмологион (самоназвание – ирмолой). Это рукописные певческие книги белорусского и украинского происхождения, которые бытовали также на Руси. На протяжении второй половины XVII–XVIII в. ирмологионы, появившиеся первоначально в Юго-Западной Руси на рубеже XVI–XVII вв., активно использовались в различных певческих центрах от окраин до столиц, были широко представлены во многих рукописных собраниях, в том числе в монастырских библиотеках.
Церковная монодия, которую содержат эти рукописные памятники, опирается на различные локальные источники. В пределах одной книги представлен избранный репертуар певческих книг: Обиход, Октоих, Праздники, Триодь.
На примере этого певческого памятника хорошо видны функциональные черты Ирмологиона как типового певческого сборника: сочетая в себе стабильные содержательно-структурные признаки и гибкость в представлении певческого репертуара, Ирмологион является компендиумом певческого мастерства – кратким суммарным изложением основ певческого дела, сформировавшимся к середине XVII в. в православной традиции Великого княжества Литовского.
В каждой конкретной рукописи при сохранении общей логики и функциональной направленности индивидуальны порядок разделов, количество песнопений в них, а также степень проявления многороспевности: напевы приведены в различных мелодических вариантах. В упомянутой рукописи зафиксированы болгарский, киевский, острожский, греческий, сербский, могилевский напевы, расширяющие интонационное поле церковной монодии. Основу же интонационного облика Ирмологиона создают киевские и болгарские песнопения, что отмечено не только в заголовках, но и в упоминавшемся автографе Патриарха Никона: «Ирмологий напеву киевскаго и болгарского…» (Син. певч. 1368. Л. 2–8, запись срезана при изготовлении переплета).
Подводя краткий итог, укажем, что стержнем Ирмологиона как типа книги является фиксация певческого оформления избранных церковных служб с учетом различных местных напевов. Особенно важно, что музыкальное содержание рукописной книги опирается как на письменный пласт певческого искусства, так и на устную трансмиссию церковной монодии. Это сочетание представляет собой характерную черту эпохи: оно позволяет обеспечить историческую преемственность в церковно-певческом искусстве эпохи Патриарха Никона и подчеркнуть родство восточнославянских музыкальных традиций, произрастающих из одного корня, – православного богослужебного пения. Этим обусловлена широкая востребованность Ирмологионов как в эпоху Патриарха Никона, так и на протяжении всего последующего столетия. Структурно-типологические особенности и интонационные процессы, зафиксированные в Ирмологионах, предстают как важное связующее звено в развитии церковно-певческого искусства от Средневековья к Новому времени.
Второй круг источников – нотированные рукописи, собиравшиеся в течение тридцати лет (с 1674 по 1706 г.) постриженником Святейшего, головщиком иеродиаконом Кирилло-Белозерского монастыря Григорием Жерновым (Кир.-Бел. 666/923, 632/889, 700/957, 631/888, 678/935, 670/927). Эти кодексы обладают общими признаками, касающимися порядка изложения, особенностей роспевов, а также текстуальными совпадениями в ремарках. По данным признакам удалось выявить еще несколько десятков рукописей, созданных в это же время (последняя треть XVII – начало XVIII в.) в Соловецком монастыре. Найденные источники позволяют судить об устойчивости нововведений в церковно-певческих рукописях и о непротиворечивости этих новаций относительно сложившейся еще в конце XVI в. системы пения.
Определим прежде всего новое качество в сравнении с предшествующим периодом (началом XVII в.) корпуса нотированных рукописей. Это качество – практичность, направленность на богослужение в его реальном временно´ м статусе. Именно поэтому в рукописях послениконовской поры нет ни одного Стихираря, равного по составу памятей и количеству песнопений Стихирарю «Дьячее око», созданному в середине XVII в.
Стихирарь конца XVII в. представляет собой очень краткий набор памятей. Каждая служба оказалась представленной только славниками. Составители Стихираря исключили и русские, и студийские памяти, сохранив имена и песнопения русских основателей монастырей, подвижников-исихастов. Из книги Стихирарь ушли не только памяти солнечного круга, но и песнопения двунадесятым праздникам. Они составили книгу Праздники. Оставшиеся же службы особо чтимым общехристианским святым образовали книгу Трезвоны. Это разделение по книгам прежде единого и безбрежного моря песнопений святым разных разрядов было связано с установлением зримой и слышимой иерархии праздников церковного года. В Праздниках запечатлен круг самых торжественных и особо почитаемых дней церковного года. Этот круг начинается и завершается Богородичными праздниками – Рождеством и Успением.
Все службы организованы в согласии с Уставом, т.е. имеют общую структуру и, за некоторыми исключениями, одинаковое количество песнопений. Устав тем не менее предписывает такое разнообразие музыкальных решений (оно проявляется в указаниях гласовой системы и в наличии ремарок, определяющих особые отношения текста и напева), что певческая реализация каждой службы представляет собой самостоятельную музыкально-поэтическую концепцию. В отличие от старших списков в книги, созданные после 60-х гг. XVII в., вошли только стихиры и славники – песнопения, максимально точно отражавшие историческую, догматическую и молитвенную сущность воспоминаний о земной жизни Иисуса Христа и Богородицы. Пострадала полнота состава, свойственная спискам начала XVII в., но книга стала не иллюстрацией Устава, а его музыкально-литургическим художественным обобщением.
В Трезвонах запечатлен следующий круг последований: это стихиры и славники особо значимым службам. Этот круг начинается службой Новолетия или службой Покрова, а заканчивается подборкой служб Иоанну Крестителю. В средней же части календарный принцип изложения сочетается с «именным». Так, рядом расположены службы Николаю Мирликийскому (декабрьская и майская) и обе службы преп. Сергию Радонежскому (сентябрьская и июльская).
И, наконец, Стихирарь, по преимуществу связанный со службами русским святым, представляет собой малый круг памятей. В том же порядке годового круга (солнечного) представлены избранные службы русским святым, причем каждое последование состоит только из славников. Таким образом, Стихирарь конца XVII в. вернулся к объемам списков первой половины XVI в., отказавшись от избыточной полноты стихирарей типа «Дьячее око».
Число памятей, иконописный принцип организации каждого последования, разнообразие художественных решений каждого песнопения и сложившаяся в результате временна´ я протяженность пений суточного круга характеризуют тип книги «Дьячее око» как энциклопедию, своеобразный певческий пантеон русских святых, развернутый в связи с концепцией «Москва – Третий Рим». Каким было практическое применение этой книги, нам неизвестно. Скорее всего этот корпус песнопений – умозрительное последование, едва ли реальное для певческой практики. Стихирарь же конца XVII в. представляет литургическую реальность.
Разделение прежде единого годового последования на три круга сопровождалось стилевой дифференциацией песнопений, которые по-разному реализуют возможности знаменного роспева.
Для Праздников характерна риторическая организация музыкального материала: напев, состоящий из гласовых формул, подчинен риторическим приемам вербального ряда;
стихиры «на подобен» точно следуют своему образцу, данному в подборке роспевочных подобнов;
для славников характерен протяженный внутрислоговой роспев.
В целом каждое последование ориентировано на свойственный только ему «текст в тексте». Он выявляется эмфазисами роспева (протяженными фитами и лицами), «продлевающими» звучание ключевых слов, что создает особую систему координат. В разводы фит, помимо устойчивой системы степенных и указательных помет, включаются так называемые «странные пометы». Они, по-видимому, фиксируют давно сложившуюся в устной традиции манеру ладовой модуляции, своеобразный выход за пределы ладовой реальности знаменного роспева. Не порывая с предшествующей традицией, композиция, стиль, музыкальный язык песнопений из книги Праздники обретают четкость и законченность. Безусловно, не последнюю роль в этом сыграла книжная справа, санкционированная Патриархом Никоном, и прежде всего окончательно утвержденная новоистинноречная редакция. Именно она и способствовала императивности, ритмичности, устойчивости словесных формул, что в свою очередь проявилось и в музыкальном тексте. Однако в раздельноречной редакции (дониконовской) присутствовало особое музыкальное «плетение» стиха: ассонансы, аллитерации, певучесть, мягкие переходы гласных, протяженность роспева. В новой редакции этим пришлось пожертвовать ради максимально полного выявления в форме и напеве богословской концепции каждого праздника.
Если в Праздниках сократился состав (и количественный, и жанровый) песнопений, то в Ирмологии, напротив, количество ирмосов, служащих образцами для пения тропарей канона, существенно увеличилось; в Розниках (раздел Ирмология) как устойчивое дополнение помещаются каноны на умирение Церквей со стихирами на проклятие еретиков, ирмосы канонов св. Ольги.
Ирмологий в это время оказался своеобразной лабораторией, где экспериментальным путем вырабатывалась идеальная просодия, точно соответствующая акцентности слова. Не случайно на протяжении XVII в. строки из Ирмология включались в трактаты выдающихся русских теоретиков – от инока Христофора до Тихона Макарьевского, – служа идеальными примерами сопряжения напева и текста.
Особым образом живет в эту эпоху нотированная Триодь. Здесь важно отметить не увеличение или уменьшение количества песнопений (объем, равный спискам конца XVI в., для этого времени невозможен), а другое качество роспева, ярче всего представленное в предуготовительных неделях Великого Поста. Знаменный роспев выступает здесь в особом, «песенном изводе»: песнопение вырастает из начального вздоха-возгласа («Увы мне!», «О горе мне!» и т.д.), запечатленного краткой мелодической фразой. Вариантное развитие этого «тезиса» составляет всю форму песнопения (особо отметим принципиальное соответствие протяжной формы этой структуре, описанной И. И. Земцовским: в основе этой песенной формы лежит сопряжение интонационного тезиса и его развертывания).
Вторая особенность Триоди заключается в фиксации возгласов, ранее входивших в область устной формы передачи («Слава долготерпению Твоему» из службы Страстей). И, наконец, третья особенность – своеобразие многороспевности. Многороспевность здесь связана прежде всего с литургической многофункциональностью поэтического текста («Царю Небесный» в службе Пятидесятницы звучит шесть раз в разных функциях, соответственно этому и шесть роспевов).
Книга Обиход в рукописях конца XVII в. достигла исчерпывающей полноты, став своеобразной музыкальной иллюстрацией Служебника и Требника. Исследователям известно, что в Обиход, помимо песнопений, включались статьи из Устава, напоминавшие об особенностях монастырского богослужения. Устойчивым признаком Обиходов Никоновой и послениконовой поры оказывается цитирование (парафраз) текстов «Проскинитария» Арсения Суханова об особенностях служения в Иерусалиме и на Афоне: «Величания же во Святей горе Афонстей и в прочих местех во Греции не поют нигде, но великороссийски; … в Грецех же и во Афонстей горе и в Сербах, и в Болгарех, и в Белороссии прежде начинает первый лик». Что же касается песнопений, то в Обиходе присутствовали как традиционные, давно известные («сии два троична выписаны из старых знаменных преводов», «выписано из старых московских триодей»), так и новые роспевы, вошедшие в певческую практику во второй половине XVII в. («по-киевски путь», «преводне по-киевски», «”Преблагословенна еси” по-киевски», «болгарской светилен Пасхи», «канон Пасхи греческим согласием»). Заметим, что эти новые роспевы и ремарки, отмечающие их, мы видели в рукописи 1654 г. из коллекции Патриарха Никона.
Следующий слой ремарок указывает на местные и монастырские роспевы: «ярославское Святися», «путь соловецкой», «тихвинское Достойно», «опекаловское Трисвятое». Состав песнопений, многороспевность как типовая особенность этой книги, тексты ремарок оказываются общими для Обиходов послениконовской поры, независимо от места создания.
Подавляющее большинство дошедших до нас певческих книг, созданных в третьей четверти XVII в., репрезентируют культуру монодического типа в ее максимально полном и системном виде. В них собран общеславянский православный репертуар напевов: сербский, греческий, болгарский, киевский, знаменный. Каждому из них соответствует свой круг поэтических текстов. Если в начале XVII в. стволовым, устойчивым для певческой культуры был знаменный роспев (именно им определялась гимнография), то в конце XVII в. – ситуация иная. В гимнографии этого периода выстраивается некий свод текстов многороспевных, принадлежавших разным литургическим кругам. Каждый круг литургически приуроченных текстов обладает своим интонационным полем, своей выразительностью. Именно с этого времени можно говорить о стремлении к индивидуализации средств музыкального языка монодии, о становлении литургически приуроченных характерных интонаций-знаков в рамках непротиворечивой музыкальной реальности конца XVII в.
Описываемый нами этап развития церковно-певческого искусства характеризуется двумя важными явлениями: кодификацией монодии и расцветом русского многоголосия, которое также представлено в рукописях в системном виде. Существование разных стилей пения создает полноту певческого богословствования, целостность и красоту звучащего Божьего мира, симфонию, к которой стремился Святейший Патриарх Никон.
Не менее значительны были достижения Новоиерусалимской традиции и во внебогослужебном творчестве; современная наука именует их Новоиерусалимской школой песенной поэзии.
Новоиерусалимские псалмы (применяем аутентичный термин, заимствованный из рукописей) составляют содержание «рукописных песенников», принадлежащих концу XVII – началу XVIII в. Это музыкально-поэтические произведения, изложение которых графически передает песенную форму: на каждом листе под трехстрочной партитурой помещены линия за линией строфы, причем каждый стих соотнесен с музыкальной фразой. Вертикали (начала стихов) некоторых псалмов содержат акростихи. Имена, прочитанные в акростихах (и в маргиналиях одной из рукописей), были соотнесены А.В. Позднеевым с историческими сведениями и «поэзией в камне» (стихотворными эпитафиями и летописью), сохранившимися до наших дней в Воскресенском на Истре, новый Иерусалим именуемом монастыре.
В работах А.В. Позднеева Новоиерусалимская школа описана как факт истории литературы. Другой, не менее важный компонент текстов, музыкальный, более труден для осмысления и практически не изучен. В этом русле выявляются стилистические характеристики, собиравшие свойства языка и техники: они определили корпус книжных песен, бытование и обновление которого продолжалось на протяжении еще полутора столетий. Они вошли важной составляющей в историю культуры. Однако выяснение культурных связей, впечатлений и импульсов, без чего невозможно понять феномен нового стиля, заставляет погрузиться в глубину исторической проблематики XVII в. Здесь и политические претензии, осуществленные и неосуществленные намерения. В этот период границы государств подвижны, их статус изменчив; волны религиозных движений сменяют друг друга; самоидентификация народов ориентируется на конфессиональные, этно-национальные, династические, культурные приоритеты, которые причудливо накладываются друг на друга. В этих обстоятельствах начинается формирование Новоиерусалимской школы песнотворчества, об истории которой из документов мы ничего не знаем.
Перед нами только рукописные песенники, передающие устойчивый континуум текстов. Около 200 псалмов встречается в полутора десятках рукописей неоднократно, что свидетельствует об устойчивом их бытовании. Книги сохраняют черты, свойственные древнерусской книжной традиции: они принципиально анонимны (это качество рукописные песенники сохраняют и в XVIII в.: популярные песни и оды А. П. Сумарокова, В. К. Тредиаковского, М. В. Ломоносова, Г.Р. Державина никогда не помечались именами авторов), ничего не сообщают о месте, времени написания и о том, что послужило источниками для их составления. Единственное исключение – рукопись иеродиакона Дамаскина, хранящаяся в ГИМ (Муз. собр. 1743). Она представляет два этапа работы: фиксация полноты вариантов всех псалмов и утверждение лучших в незаконченном чистовом своде. Именно эта рукопись, щедро оснащенная рабочими пометами, послужила открытию Новоиерусалимской школы.
В некотором роде рукописные песенники продолжают устные песенные традиции, в которых сохраняются отпечатки непрерывной жизни песни, осуществляющей себя во множестве творческих актов созидания. На данном этапе исследования нет оснований рассчитывать на установление основного (авторизованного) текста конкретного произведения, равно как на разыскание черновика, принадлежащего руке автора. Все дошедшие до нас рукописные песенники Новоиерусалимского круга находятся на некоторой дистанции от акта творения; они сохраняют и передают уже совершенное.
В то же время рукописи несут огромный объем информации; каждая из них индивидуальна: выстроена по собственному плану, сформированному определенным замыслом; в каждой есть большее или меньшее число уникальных, не повторяющихся текстов. Свобода состава и последования исходит из внебогослужебной природы новоиерусалимских псалмов – они не предназначались для богослужения. Порядок, в котором они размещены – алфавит или группировка по содержанию, – выдерживается строго или с некоторыми отступлениями; основной корпус бывает дополнен более поздними приписками; случается соединение частей в конволюте.
Другой круг информации составляют разного рода надписания и маргиналии: пометы, определяющие содержание псалма, отсылающие к другой партитуре (на подобен), отмечающие краегранесие (акростих), удостоверяющие справу текста. К сожалению, среди них нет владельческих записей (в более поздних песенниках XVIII в. они встречаются) и записей писцов, как в более ранних и современных богослужебных рукописях. Сопоставление всех этих данных со сведениями общего порядка, установленными историей фактами позволяет сформулировать хотя бы в качестве предположения некоторые позиции.
Состав произведений, входящих в песенники Новоиерусалимского круга, разнороден. Среди них псалмы, посвященные Богородице, праздникам, святым, событиям политическим (отражение врагов и гражданские войны); псалмы покаянные; переложения нескольких глав Песни Песней, песенные версии псалмов Псалтири, некоторых частей молитвенного правила.
Впрочем, не всегда возможно однозначное утверждение об источниках и прообразах – так прочно они соединены и перевиты аллюзиями; многие образы и словесные формулы присутствуют в большом числе литургических текстов. Разнообразие тематики приводит исследователя к попытке определить мотивы выбора – стоят ли за ним связи с определенными богослужебными или чисто окказиональными ситуациями. Таков способ рассуждения А.В. Позднеева по отношению к творениям архимандрита Германа – каждый из псалмов он связывает с каким-либо внешним обстоятельством1531. Такой подход, вполне уместный для изучения индивидуального творчества, по отношению ко всему континууму текстов не работает. Прежде всего он не помогает понять функции Новоиерусалимских псалмов и побудительные мотивы их возникновения.
Основанием для трактовки остается назначение этих текстов: это – духовная лирика, не входящая в круг богослужения, не имеющая конкретной привязки к чину и порядку службы (неслучайно построение песенных книг так свободно и так велики между ними различия). В целом они отражают спектр подвижной части литургической практики, составляющей большую часть содержания Вечерни, Часов, Утрени, за которыми поются стихиры, каноны, кондаки, тропари праздникам и святым. Здесь происходят применение временного, изменяющегося к вечному, обращение к издавна утвержденным священным ´ памятям; осмысление новых памятей, только входящих в этот круг (почитание святых, свидетельство великих событий, таких, как защита при нападении врагов, явленная от икон Божией Матери).
Неизменная сфера – покаяние, чтение в определенном порядке кафизм Псалтири. Это темы и формы принципиально открытые; они переходят в область личной молитвы, становясь импульсом к творчеству. Монашеская жизнь, «высочайшее художество», не может заключать в себе случайного; созидание песнопений – особое послушание, направляемое благословением. Песнотворчество, равно как и исполнение песнопений, относятся к области келейного послушания, молитвенного правила.
Особенная музыкально-поэтическая форма, единая для всех новоиерусалимских псалмов, ярко демонстрирует различия между ними: в объеме поэтических текстов, мастерстве исполнения, соотношении с партитурами (среди которых немалое число политекстовых), в композиционных приемах, организующих музыкальную строфу. Пожалуй, самые яркие различия – языковые. Вся эта пестрая и подвижная картина свидетельствует о неоднородном по времени и происхождению составе рукописных песенников Новоиерусалимского круга. В каждом из них наряду с текстами на церковно-славянском языке присутствует большее или меньшее число текстов, записанных кириллицей по фонетическому принципу, с обилием специфических черт западных говоров.
Серьезное лингвистическое исследование этих текстов еще не было проведено; принято называть их польскими, что скорее всего соответствует действительности. Церковно-славянский был основным письменным языком Великого княжества Литовского, и осваивавшиеся (по мере изживания самостоятельности этой части Польско-Литовского государства) в его пределах поляки в XVII в. продолжали эту традицию. Кириллица использовалась польщиной кресовой – польским диалектом, который сложился на белорусско-литовских землях и стал одной из ветвей литературного языка (на нем писал, в частности, Мицкевич). Наряду с польскими встречаются тексты, в которых можно распознать черты малороссийские и белорусские (это уже не столько языковые приметы, сколько содержательные моменты).
В странах Европы, подлежащих Римской Церкви, сакральная латынь и профанные диалекты существовали как будто в разных мирах. Духовная поэзия, переносящая высокий стиль на народный, свой язык, являлась важным этапом становления литературы. Вместе с тем духовная поэзия на родном языке оказалась мощным орудием Реформации – богослужение (проповедь, пение и чтение) без латыни, независимое от католической иерархии, составляло путь, форму и символ протестантских движений. Первой была Чехия, находившаяся в сфере римского влияния, но хранившая наследие первоучителей словенских – Кирилла и Мефодия. Проповедь Яна Гуса, лагеря таборитов в самом сердце Священной Римской империи оказались не тупиком, как многие ереси, но началом эпохи. Таборитские песни не сохранились в книгах – все книжные люди Чехии и Моравии погибли у Белой горы. Но протестантизм захватывал страны, языки, народы, развертывался в Германии, Франции, Швейцарии.
И Восточная Европа вошла в это движение, знаменем которого везде становились духовные песни на родном языке. Протестантизм в Речи Посполитой и Великом княжестве Литовском, которые отличались веротерпимостью и были погружены в династические, но не религиозные войны, напитал музыкальную культуру – от крупных городов, живших самостоятельно (по Магдебургскому праву), до украин. Когда контрреформация с помощью победоносной просветительской деятельности иезуитов овладела Польшей, и влияние католической Польши все больше деформировало сложившееся в Литовском княжестве подвижное равновесие народов, династий, конфессий, языков, такую малость, как духовные песни (кантычки), не преследовали. Тем более что они уже сжились с бытом, переплетались с песнями-хрониками о знаменитых битвах, с забавными и озорными песенками, любовной лирикой. Как многие явления городской культуры, они перенимали (иногда осознано, иногда стихийно) влияние соседних городов, идеи проповедников и идеалы рыцарства.
Двигаясь дальше на восток, в Московское царство, переходя в пределы православной традиции, духовная поэзия попадала в иное пространство. Византийская традиция предоставляла каждому языку славить Бога. Литургические тексты, Священное писание на церковно-славянском языке были постоянной составляющей жизни православных христиан, и, если не всякий их читал (напомним, что и читать учились по Псалтири), то всякий слушал. Язык Библии и молитвы отличался от разговорной речи в диалектных формах, однако их относительная самостоятельность не составляла непроходимой границы и служила главным образом стилистическому разделению.
Духовная лирика, выходившая за пределы богослужебной практики, постепенно вырастала в выработанной этой практикой системе поэтики, музыкального интонирования и нотации. Так, покаянные стихи, расположенные по гласам, помещались в обиходе в ряду чинопоследований. По мере увеличения их числа и осознания их особой лирической (необязательной для обряда) функции они стали составлять особые разделы, а изредка даже самостоятельные книги1532. Название покаянны не столько указывает на сюжеты или эмоциональную окраску, сколько относит весь разряд текстов к покаянной дисциплине, в которой индивидуальная воля и духовный труд должны дополнять общие формы (чтение канонов, Псалтири, молитвословия).
Вернемся к уже упомянутому выше обстоятельству – индивидуальности рукописных песенников, проявляющейся в расположении текстов и их взаимоотношениях.
Два генеральных принципа – алфавит и тематическая группировка – так или иначе организуют длинные ряды текстов, часто дополняют друг друга. Алфавит – совершенный порядок, организация универсальная и безусловная, не имеющая собственной семантики. Систематика, расположение по группам (псалмы псалтирные, псалмы Богородице, псалмы Рождеству Христову и др.) – аналитическая, она упорядочивает всю имеющуюся в наличии массу текстов. Оба эти принципа не имеют отношения к замыслу, процессу создания. Но встречается среди «старейших песенников» иной порядок, который позволяет приблизиться к ним. Мы знаем две таких книги в рукописном отделе РНБ – Тит. 4172 с особенно выразительной и внятной структурой и Пог. 426, в которой тот же порядок несколько смещен.
В рукописи Тит. 4172, оставшейся вне поля зрения А.В. Позднеева, после посвящения и оглавления (позже этот справочный раздел создатели песенников называли реэстром) следует первая группа текстов – двенадцать псалмов, каждый из которых собирает имена святых, поминаемых на протяжении месяца (Месяцеслов); вторая группа – цикл из 37 псалмов, каждая часть псалма соответствует букве алфавита, а для букв, на которые не найти слово для начала псалма, составлено дополнение – Алфавит (в рукописи циклы не имеют названий, они введены ради удобства описания и анализа).
В особенной, новой и привлекательной песенной форме (которая в русской культуре принадлежала до тех пор исключительно устной традиции, главным образом обрядовой песенности) выстроены два измерения православного предания. Первое – почитание памяти святых (именно в середине XVII в. изменялись богослужебные формы и объем служб святым, уменьшалось число имен и объем чинопоследований). Через именование в песенной «месячной минее» святых, просиявших в разных православных землях и в разные времена, утверждалось представление о едином теле Церкви. Второе – символическое толкование частей храма, включающее аллюзии литургических текстов, почитания праздников и святых.
Поэтические тексты Месяцеслова и Алфавита опубликованы полностью1533. Оба цикла при специфических отличиях каждого и разнообразии их частей по ряду композиционных и стилистических свойств (в первую очередь музыкального компонента) родственны друг другу. К ним можно присоединить еще некоторые тексты из второй половины рукописи.
Следующий раздел рукописи по объему равен двум предыдущим. Это 51-й текст на польщине кресовой, записанный кириллицей. Соседство это имеет особый смысл: два массива текстов противопоставлены друг другу и являют контраст по многим параметрам. Самый заметный уже назван – язык. Другой, не менее существенный, но не столь заметный – тексты из книг, записанные не по слуху, не с собственного пения, что является обычной практикой для рукописных песенников. Об этом свидетельствуют характерные ошибки, сделанные при переписке, а также пометы в рукописи иеродиакона Дамаскина (против многих текстов «польского корпуса», который в этой рукописи «растворен» в общей алфавитной последовательности, проставлена помета справлено, которая не встречается около других псалмов; есть и прямые отсылки к тетради или к печатным кантычкам).
Различается объем тем – прежде всего за счет текстов, посвященных святым и иконам (их нет, за одним исключением). Стилистическая пестрота «польского корпуса» поразительна, особенно заметны простые песенные формы, которых почти нет в предшествующих разделах рукописи.
Своеобразные отношения поэтических текстов и музыки, родство, сходство, заимствование пронизывают весь объем песенника и перекликаются с другими рукописями (в некоторых книгах мы встречаем надпись подобен с указанием другого текста, но при записи, как правило, эта связь не осознавалась). Вышесказанное позволяет уточнить характер отношений поэтического и музыкального компонентов, а также способ сочинения, овладения формой.
Одной из граней новотворчества было постепенное усвоение кантычек языком, другой – сочинение «на подобен», «на голос». Причем далеко не всегда это было прямое использование мелодии. Чаще партитура (напев) служила моделью стиха и побудительным мотивом для развертывания образа. Здесь кроется еще одно отличие двух циклов Новоиерусалимских псалмов от «польского корпуса» – псалмы Месяцеслова и основной части Алфавита не имеют перекрестов с другими партитурами и текстами; они созданы как единые музыкально-поэтические тексты; первые строфы с поразительной точностью воплощены в интонировании, последующие заставляют певцов переосмысливать мелодический и ритмический рельеф партитуры.
Лишь немногие польские тексты были переведены; чаще случалось, что они просто «обрусели»: заменялись непонятные слова, снимались «лишние» буквы, упрощались произношение и грамматические конструкции. Некоторые кантычки порождали целые грозди текстов, продолжающих и толкующих предыдущие и вовсе с ними не связанные1534.
Менее всего участвует в этой общей работе группа покаянных кантычек. Своеобразие образного строя, ритмики и мелодики, по-видимому, не вызывало желания продолжить их, принять в свой актив. Напоминая приведенные выше рассуждения об общем мыслительном поле христианской культуры, мы должны признать, что песенные формы духовной лирики принесли в русское песенное искусство иное стилистическое выражение близких образов, идей. Два плана выражения создали резко расширившееся пространство, в котором было довольно простора для авторской воли, выбора и изобретения. Поэты Новоиерусалимской школы создавали псалмы покаянные в песенных формах, но их образная система и лексика сохраняют высокий стиль, близкий Псалтири, литургическим текстам и тем одам, которые нам представляются архаическими, но были написаны далекими наследниками новоиерусалимских песнотворцев.
Уже в следующем поколении изменяется процесс творчества, расходятся пути поэтов и композиторов, а нераздельное бытие музыкально-поэтических текстов уходит в русло устно-письменной традиции книжных песен, постоянно и устойчиво сообщающихся с миром песенного фольклора. В устных песенных традициях мы до сих пор встречаемся с активным бытованием мотивов покаянных, узнаем их образы, а иногда и устойчивые формулы.
Новоиерусалимские псалмы песенной формы родились как часть монастырского быта, как особое послушание. Затем эта камерная духовная музыка вышла за монастырские стены, воцерковляя быт. Войдя в русло духовных стихов, она становилась необходимой частью народной традиционной культуры. При этом продолжал существовать прежний способ создания новых произведений и сохранялся устно-письменный характер их бытования. Однако высочайшие достижения новоиерусалимских песнотворцев этой традицией не были удержаны. В рукописные песенники с начала XVIII в. входили произведения следующих поколений песнотворцев (среди них свят. Димитрий, митрополит Ростовский, Стефан Яворский, Феофан Прокопович и др.). В среде старообрядческой под одним именем духовных стихов удерживались и формы, сохранявшие роспев, и песенные1535. Похоронно-поминальная обрядность «безбожного» времени (особенно в послевоенный период) при отсутствии церковного окормления стала насыщаться духовными стихами, незаметно сближающимися с причитаниями.
Духовная лирика в пространстве традиционной культуры являет единство. Оно реализуется в многообразии форм, складывавшихся не одновременно, вызревавших постепенно, в соответствии с развертыванием культуры во времени. При этом возникновение новых форм не отменяло предшествующих. Это было обусловлено разветвленной системой традиционной культуры, сопряженные сферы которой – церковное предание, церковно-певческое искусство (литургические формы) и устные песенные традиции – существовали параллельно. Не нуждаясь в заимствовании или переводе, они переживали сходные процессы. Эта позиция уже в достаточной мере осмыслена в отраслевой гуманитарной науке1536, но время больших исследований только начинается.
***
В книжных хранилищах много тайн, и самые глубокие из них не те, о которых еще никто не полюбопытствовал, но иные, обозначенные и закрытые вновь какими-либо простыми ответами. Войти в такое заколдованное царство и выйти из него, ничего существенного не обретя, становится обыкновенным и даже скучным делом. Но тайна не убывает и тихо понуждает, приоткрыв ее, в нее углубиться. Такая попытка предпринята с осознанием того, что окончательной ясности и полноты достичь не суждено, что в лучшем случае мы сможем сформулировать вопросы, высказать некоторые предположения ради открытия хотя бы немногих заповедных уголков живой и прекрасной страны – духовного творчества, созидавшего монастырский мир Нового Иерусалима в созерцании образов Небесного Иерусалима во славу Святой Руси.
Роль государства и Церкви в развитии русского искусства XVII в. (Бусева-Давыдова И. Л.)
Роль государства и Церкви можно без преувеличения назвать определяющей для искусства Древней Руси на всех этапах его развития. Прежде всего княжеская власть и Церковь стояли у истоков нового типа русской культуры, начавшей формироваться после крещения Руси. Благодаря принятию христианства, инициированному князем Владимиром Святославичем, а также последовательному насаждению культуры и искусства византийского образца, стала возможной их адаптация, предопределившая культурное, а во многом и социально-политическое, развитие Руси вплоть до наших дней. На долю светской и церковной власти выпало обеспечение русских земель эталонными произведениями нового, т.е. христианского, логосно-гуманизированного искусства. Этот ряд эталонов-архетипов начался с Десятинной церкви князя Владимира и продолжился домонгольскими городскими и монастырскими соборами, мозаиками и росписями приезжих греков, работами византийских ювелиров.
Основа, заложенная в Киевской Руси, позднее устойчиво сохранялась в любых условиях, причем гарантами ее стабильности выступали Церковь и государственная власть. Охранительная роль этих институтов хорошо известна и изучена. Она наиболее полно проявляется и обладает особой важностью в кризисные эпохи, отмеченные вторжениями извне и угрозами в конечном счете самому существованию нации (татаро-монгольское иго, интервенция Смутного времени). В эти времена национальное сознание может фактически заменяться конфессиональным, а государственная власть превращается в символ нации1537.
Значительно меньше внимания привлекала инновационная роль государства и Церкви в Древней Руси. Средневековая культура вообще склонна к стагнации, которая субъективно выступает как «суперстабилизация», т.е. как положительное качество. Нежелание перемен в принципе естественно для любого общества как структуры, стремящейся к самовоспроизведению, но в средневековой Руси это нежелание усиливалось рядом факторов. Большую роль играли общий для Средневековья эсхатологизм, а также ригидность психологического стереотипа славян – оседлого земледельческого народа. Несомненно, как самостоятельный фактор следует рассматривать вторичность русской христианской культуры по отношению к византийской. Эта вторичность, в отличие от современных представлений о ней, осознавалась как благо: получив веру, обряды и связанные с ними культурные феномены из первых рук (т.е. из первой христианской империи), Русь обрела истину, которую оставалось только хранить в неизменном виде.
Показательна в этом плане история литургических справ (унификации) в Русской Церкви, исследованная А. Пентковским1538. Он писал: «Сопоставляя развитие литургической традиции в Византии и на Руси, следует отметить, что в византийской традиции (оригинале) богослужение развивалось достаточно плавно… Внутреннее развитие традиции-реплики (русской литургической традиции. – И. Б.-Д.) принципиально отличалось от развития традиции-оригинала, поскольку новые тексты создавались главным образом в традиции-оригинале и переносились в традицию-реплику при реформировании последней. Традиция-оригинал развивалась непрерывно (для достаточно больших периодов времени), тогда как традиция-реплика – скачкообразно (от реформы к реформе)». Автор выделяет три таких «реформы»1539: прп. Феодосия Печерского (введение Студийско-Алексиевского устава), митрополитов Московских Алексия и Киприана (введение константинопольской редакции Иерусалимского устава) и Патриархов Никона и Иоакима (современная редакция Иерусалимского устава).
Все справы-«реформы» проводились наиболее авторитетными на тот момент представителями Церкви и внедрялись как духовенством, так и светской властью, находя отражение в искусстве. А. Пентковский полагает, что строительство по образцу Успенского собора Киево-Печерского монастыря городского собора в Ростове князем Владимиром Мономахом, а в Суздале – князем Юрием Долгоруким «сопровождалось и воспроизведением богослужебной традиции, с этим образцом связанной». С реформой митрополитов Алексия и Киприана О. Г. Ульянов соотносил строительство в 1404 г. знаменитой часозвони на княжеском дворе за кремлевским Благовещенским собором. Ее автором был афонский монах Лазарь Сербин. При отправлении богослужения по Иерусалимскому уставу, принятому на Афоне, важную роль играет точный отсчет времени, обеспечиваемый часами; отсюда возникла потребность в часозвони, ставшей первым сооружением такого рода на Руси1540.
Некоторые исследователи полагают, что русский высокий иконостас, появившийся в те же годы, был введен в употребление митрополитом Киприаном. Отметим, что первый или один из первых высоких иконостасов был установлен в великокняжеском домовом храме – Благовещенском соборе.
История неоспоримо показывает, что новации, даже подготовленные внутренним развитием русской культуры, всегда артикулировались и внедрялись представителями высшей светской и духовной власти. Это объяснялось не только вертикально-иерархической организацией культуры Средневековья, имевшей сакральную подоснову, но и прерогативой власти на любые значимые преобразования. Безусловно, только Великий Князь мог пригласить итальянцев для возведения Московского Кремля: помимо наличия денег и дипломатических связей, он должен был взять на себя ответственность за допуск к строительству (и вообще за допуск на территорию Русского государства) иноземцев и иноверцев, а также за конкретные результаты их деятельности.
Надо признать, что Иван III успешно справился с возложенной на себя задачей: все итальянские кремлевские постройки удачно вписались в русскую архитектуру и сыграли предназначенную им роль. Показательный материал в отношении культуртрегерской миссии власти дает также эпоха Ивана Грозного и митрополита Макария с лавинообразным расширением круга сюжетов и тем как светского (летописный Лицевой свод), так и церковного искусства. Тогда, в частности, в русскую иконопись впервые попали детали или композиции, заимствованные из западноевропейских гравюр1541. Известна роль Царя в санкционировании явно «чужих» элементов живописи на Стоглавом соборе. Историки архитектуры обращали внимание на программно-«нездешние» особенности главной постройки царствования Ивана Грозного – собора Покрова на Рву, – объясняя это связью с идеей Иерусалима1542.
Если посмотреть под этим углом зрения на культуру XVII в., то в 20–30-х гг. союз государства и Церкви, олицетворенный дуумвиратом Царя Михаила Романова и его отца Патриарха Филарета, был направлен преимущественно на охранительство и реставрацию. Однако в связи с необходимостью утверждения новой династии на европейском поле существовала и потребность в новациях, которые свидетельствовали бы о равенстве Романовых с другими европейскими царствующими домами.
В правление Михаила Феодоровича наглядными знаками таких новаций стали заказ государственных регалий («Большого наряда») и строительство некоторых зданий в Московском Кремле. Как регалии, так и постройки были выполнены руками иноземцев. Мастера «золотого дела Немецкой палаты», выделившейся в 1624 г. вместе с приказом Золотых дел из царской ювелирной мастерской, приезжие иноземцы, в том же году изготовили для Царя Михаила Романова «коруну золоту с каменьем». В архиве сохранилось описание этого венца, сделанное в 1642 г.: «Нижняя часть венца была разделена на четыре части поперечными дугами с драгоценными камнями. Завершали этот головной убор три короны, поставленные одна на другую»1543. Так как эта «коруна» оказалась слишком тяжелой (она весила более 11 фунтов, т.е. около 4,5 кг), в 1627 г. те же мастера сделали более легкий венец аналогичного вида, убрав с него одну из корон. Он сохранился до наших дней и по форме представляет собой традиционную княжескую шапку, не вполне органично завершенную двумя ажурными коронами. Их «фряжская» природа была вполне очевидна, почему венец иногда называли «фряжской шапкой»1544.
Почему была предпринята модификация исконного головного убора русских князей и царей? М. В. Мартынова, исследовавшая комплекс регалий первых Романовых, отметила, что Михаилу Федоровичу особенно важно было получить международное признание, поскольку на титул «Государя всея Руси» претендовал Польский Король Владислав IV1545. Поэтому в состав главной регалии включили общепринятую в Европе эмблему верховной власти. Преемственность Романовых по отношению к династии Рюриковичей манифестировалась через венчание шапкой Мономаха; для европейских же венценосцев шапка выглядела низкостатусным и «варварским» убором1546. Несколько странный гибрид русской шапки с западноевропейской короной, изготовленный по особому заказу, отвечал идее, высказанной Филаретом Никитичем при поставлении его на Патриаршество в 1619 г., – о будущем «вселенском царстве» Царя Михаила1547.
В том же 1624 г. производились работы на Фроловской башне Кремля, построенной в 1491 г. итальянцем Пьетро Антонио Солари. В литературе обычно указывается, что автором часового механизма и надстройки в виде увенчанного шатром вытянутого восьмерика на двухуступчатом четверике был англичанин Христофор Галовей, работавший вместе с русским мастером Баженом Огурцовым. Однако архивные документы не упоминают имени Огурцова, хотя содержат указание на еще одно лицо, причастное к строительству, – англичанина Вилима Графа1548. Возможно, именно он, а не часовщик Галовей, проектировал собственно архитектурную часть. Во всяком случае нет сомнений, что проект надстройки принадлежал иностранному зодчему (аркбутаны, пинакли, скульптура, резьба деталей и пр.). А ведь эта башня служила главными воротами Кремля и в определенном смысле лицом русской столицы!
Почти одновременно с реконструкцией Фроловских ворот у Петроковой звонницы при Иване Великом делали новую пристройку для колоколов, получившую название Филаретовой. Она имела важное идейное значение, поскольку возводилась в благодарность за возвращение Патриарха Филарета из польского плена. На строительстве новой «колокольницы», которую один исследователь назвал «готической кампанилой», работал еще один англичанин – палатный мастер Джантолер (Джон Талер)1549. Он же построил церкви св. Екатерины и Сретения в Кремлевском дворце и, возможно, был причастен к проектированию верхних этажей наиболее нетрадиционного дворцового здания XVII в. – Теремного дворца. В связи со строительством (1636–1637) упоминаются подмастерья каменных дел Бажен Огурцов, Антипа Константинов, Трефил Шарутин и Ларион Ушаков. Однако обилие новых для русского зодчества форм и выраженная тектоничность фасадного декора дворца заставляют предположить, что его замысел принадлежал иноземцу. Трудно сказать, был ли им Талер, последние сведения о котором относятся к 1629 г., или Христофор Галовей. Не исключено также, что в строительстве принимал участие Христофор Христофоров, в 1644 г. украсивший резьбой ворота Печатного двора1550, – в случае, если он не был одним лицом с Христофором Галовеем и не являлся или тезкой, или сыном последнего. Как бы то ни было, архитектура Теремного дворца неоспоримо свидетельствует о руке иноземного зодчего (или хотя бы резчика).
Параллельно с перечисленными мастерами в России первой половины XVII в. активно работали иноземные инженеры-фортификаторы, приглашенные по инициативе Царя и с санкции Патриарха. С 1621 по 1630 г. в документах фигурирует «англинской земли немчин» горододелец Вилим Томосов1551. В 1623 г. прибыл голландец, городовой мастер Кузьма Демушерон, а в 1634 г. пожалован за приезд его сын «Ондрей Кузьмин сын Демушарон», которому велено было быть в инженерах1552. В 1626 г. впервые упоминается «городовой и подкопный мастер, Цесарской земли немчин» по имени Иван, который был пожалован 18 сентября 1628 г. за то, что он «зделал город Волок»1553.
В феврале 1631 г. в Москву приехал голландец, «городового земляного дела горододелец» Ян Корнелий фон Роденбург. Получая месячный оклад в 50 рублей, он в 1632 г. изготовил «земляного города образец» и построил по нему частично сохранившуюся до сих пор земляную крепость в Ростове Великом. В 1635 г. он много работал на засечной черте в Тульской, Веневской и Каширской засеках – на безлесных участках, где необходимы были земляные укрепления. Наиболее интересным из них являлись Грабороновы ворота и Завитай под Тулой, в возведении которых участвовал голландский инженер Краферт1554. В том же году, что и Роденбург, приехали Юст Матсон, «городовой смышленник», вскоре уже трудившийся над восстановлением новгородских укреплений (1632), и «Цесарские земли горододелец» Хриштоп Дальгамер1555. В 1634 г. упоминается еще один городовой мастер, «голландские земли немец» Кашпир (Каспар) Фанбатен1556.
Земляные укрепления были новым словом европейской фортификации. Именно центральная власть оценила их качества и способствовала внедрению на русской почве, в то время как заказчики мелкого масштаба предпочитали устаревшие каменные крепости. Так, монахи Кирилло-Белозерского монастыря отказались от земляных укреплений горододельца Жана де Грона (Антона Алексеевича Грановского) и попросили разрешения у Алексея Михайловича возводить стены как в Троице-Сергиевом монастыре. Царь прислушался к пожеланию монастырских властей, но не исключено, что разрешение было дано потому, что стены Троице-Сергиевой обители также строились по проекту иноземца, «палатного мастера» из Страсбурга Иоганна Кристлера1557.
Таким образом, даже в «послесмутное» время, проникнутое духом реставрации и консерватизма, власть продолжала осуществлять необходимые нововведения, причем не только утилитарные (строительство крепостей), но и знаковые (перестройка зданий Кремлевского ансамбля). В царствование Алексея Михайловича, особенно после воссоединения Левобережной Украины с Россией и успешной русско-польской войны 1654–1656 гг., охранительные тенденции в значительной степени уступили приоритет инновационным. При этом происхождение, характер, механизм, в конечном счете масштаб внедрения новаций оказались существенно отличными от присущих предшествующим эпохам. В этом заключается парадокс особого свойства. От второй половины XVII в. не дошло ни одного имени иноземного зодчего, не считая редких фортификаторов. Живописцы-иноземцы в Оружейной палате также были немногочисленны: с 1643 по 1655 г. там работал единственный портретист Иоганн Детерсон, затем его сменил Станислав Лопуцкий, кстати, высоко ценимый Патриархом Никоном (Святейший пожаловал Лопуцкому на свадьбу в 1657 г. 10 рублей, что равнялось месячному корму мастера).
Все царские иконописцы второй половины 50-х – 60-х гг., периода, когда зародился и расцвел «стиль Оружейной палаты», были русскими; иноземцы не имели никакого отношения к их обучению1558. В то же время и архитектура, и живопись второй половины XVII в. заметно более затронуты новшествами, нежели предшествующее русское искусство. Не значит ли это, что государство и Церковь утратили монополию на введение новаций, которые обеспечивались теперь деятельностью частных лиц?
Действительно, в литературе иногда приводятся сведения об инициативе представителей придворных кругов и посада, которая или опережает нововведения Царя и Патриарха, или даже противоречит позиции властей. Так, существует мнение, что западноевропейские гравированные издания стали служить образцами для русских иконописцев благодаря известной семье московских купцов Никитниковых: якобы один из членов этой семьи приобрел в Архангельске только что вышедшую в Амстердаме иллюстрированную Библию Пискатора (1650) и передал ее художникам, работавшим над росписью церкви Троицы в Никитниках1559. Вместе с тем широко известен факт запрета и уничтожения «фряжских» икон Патриархом Никоном, а в дальнейшем запрет «фряжских листов» Патриархом Иоакимом1560, т.е. налицо борьба высшего духовенства с новыми веяниями в искусстве, зародившимися в демократической среде.
Гипотеза о привозе Библии Пискатора внуком Григория Никитникова, служившим в Архангельске, оказалась несостоятельной: фрески церкви Троицы в Никитниках написаны по другой Библии (Петера ван дер Борхта), вышедшей в 1639 г.1561 Большое количество зеркально перевернутых по отношению к гравюрам композиций, что далеко не всегда объяснимо художественными соображениями, наводит на мысль о том, что художники имели в руках не саму Библию Борхта, а прориси с нее. Это заставляет усомниться в наличии Библии у заказчиков росписи. В любом случае невозможно представить, чтобы православный московский купец дал по собственному почину православным же художникам «латинскую» книгу для росписи храма. Ее употребление в качестве образца должно было опираться на прецедент, который скорее всего имел место в царском обиходе. Логично предположить, что иллюстрированная Библия попала в царскую библиотеку, например, в виде дара европейского посольства или частного лица, а затем (безусловно, с санкции Патриарха) была употреблена при росписи какого-либо из домовых кремлевских храмов. Эта гипотеза представляется тем более вероятной, что, по наблюдениям Т. Л. Никитиной, стенные росписи зародились в XVII в. как элитарное искусство и создавались на первом этапе почти исключительно по царским заказам1562.
Обратимся вновь к известному эпизоду с публичным уничтожением икон франкского письма Патриархом Никоном. По словам греческого архидиакона Павла Алеппского, летом 1654 г., в отсутствие Царя, отправившегося на войну с Польшей, Патриарх повелел собрать и доставить к нему все иконы, «кои некоторые из московских иконописцев стали рисовать по образцам картин франкских и польских». Образа были изъяты отовсюду, в том числе из домов государственных сановников, и Первосвятитель, как сообщает Павел Алеппский, собственноручно выколол на них глаза, «после чего стрельцы, исполнявшие обязанности царских глашатаев, носили их по городу, крича: “Кто отныне будет писать иконы по этому образцу, того постигнет примерное наказание”»1563.
В марте 1655 г. Патриарх вернулся к теме «фряжских» икон. Прочитав в Успенском соборе положенную на день Торжества Православия Беседу св. Иоанна Дамаскина о святых иконах, он «велел принести иконы старые и новые» и «много говорил о том, что такая живопись, какова на этих образах, недозволительна. При этом он сослался на свидетельство нашего владыки Патриарха (Макария, Патриарха Антиохийского. – Авт.) и в доказательство незаконности новой живописи указывал на то, что она подобна изображениям франков… Никон брал эти образа правой рукой один за другим, показывал народу и бросал их на железные плиты пола, так что они разбивались, и… всякий раз при этом восклицал: “Эта икона из дома вельможи такого-то, сына такого-то», т.е. царских сановников”»1564.
Может показаться, что Патриарх выступил здесь как ярый «охранитель» против придворных «новаторов». Однако в таком случае становятся совершенно непонятными обвинения протопопа Аввакума, многократно цитировавшиеся разными авторами: «Есть же дело настоящее, пишут Спасов образ Еммануила: лице одутловато, уста червленая, власы кудрявыя, руки и мышцы толстые, персты надутые, тако ж и у ног бедры… толстыя, и весь яко немчин брюхат и толст учинен, лише сабли той при бедре не написано». Показательно, что Аввакум считал Патриарха Никона не просто любителем, но основоположником подобной живописи: «А все то кобель борзой Никон, враг, умыслил, бутто з живыя писать, устрояет все по-фрязкому, сиречь по-немецкому»1565. Невероятно, чтобы Аввакум не знал о «показательных процессах» Никона над «франкскими» иконами. Столь же невероятно, чтобы протопоп клеветал на Патриарха: безусловно, Аввакум был тенденциозен, но неизменно придерживался фактов. Как же объяснить это противоречие? Какую иконопись предпочитал и какую осуждал Патриарх?
Отметим, что знаменитый художник Оружейной палаты Иосиф Владимиров категорически отвергал мнение «вредоумного» оппонента архидьякона Ивана Плешковича о том, что Никон будто бы не приемлет живописных икон. Патриарх, по словам Иосифа, разбирается в качестве живописи и борется с «грубыми и неистовыми» иконами, «а истоваго живописания не отлагает»1566. «Неистовыми» – значит «неистинными», написанными «не по отеческому преданию с папежскаго и с латынскаго переводу»1567. Слово «перевод» в данном случае употреблено в его точном иконописном значении – прорись. Именно в середине XVII в. началось триумфальное шествие по России западноевропейских иконографических образцов в виде отдельных листов и сборников гравюр, а изредка, очевидно, и картин на религиозные темы. Патриарх Никон боролся с тем же, с чем впоследствии и Патриарх Иоаким: «Пресвятую Богородицу, уже обрученную мужу Иосифу Праведному, и Христа Иисуса родившую, онии еретики пишут, непокровенну главу, и власы украшенну, и многих святых жен непокровенными главами, и мужей своестранскими обличиями. В греческих же переводах, и российских старых, таковым подобием не обретошася»1568. В этом с ними был солидарен и протопоп Аввакум, упоминая беременную Богородицу в «Благовещении»: «…яко же фрязи пишут чреватую, брюхо по колени висит»1569.
Итак, по нашему мнению, Патриарх Никон выступал против католической иконографии и то лишь в той части, которая содержательно противоречила русской традиции. Непокровенная глава Богоматери для русского человека выглядела абсолютно недопустимой не просто из-за несоответствия некоей иконографической схеме, но из-за комплекса представлений, связанных с непристойностью и опасностью непокрытых женских волос. «Своестранские» одежды святых шли вразрез с запретом на ношение иноземного платья. Кстати, возможно, что ссылка на «картины фряжские и польские» и «изображения франков» подразумевала именно изображение святых в иноземном платье, как персонажей европейских картин или портретов. А изображение беременной Богородицы в «Благовещении» расценивалось как кощунство: ведь Непорочное Зачатие произошло «через слышание» в самый момент Благовещения, и Богородица затем носила Младенца во чреве девять месяцев. Следовательно, признаки беремености никак не могли обнаружиться в первый же день Ее чревоношения.
О художественных вкусах Святейшего Никона в области иконописи можно судить на основании некоторых произведений. В первую очередь это заказанная собственно Патриархом икона Господа Вседержителя с припадающими святителем Филиппом и Патриархом Никоном (1657, музей «Новый Иерусалим»). Она была написана в Москве и безусловно входит в число «живоподобных» произведений лучших иконописцев Оружейной палаты1570. Лик Спасителя исполнен объемно, в той технике многослойной плави с сильной разбелкой верхних слоев, которая использовалась художниками «ушаковского» круга. Аналогично написаны лики Богоматери Одигитрии и Спаса Нерукотворного на иконах из Воскресенского Новоиерусалимского монастыря, датируемых третьей четвертью XVII в. (Музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева; живопись сохранилась фрагментарно)1571.
Н. Н. Чугреева предполагает, что заказ «Нерукотворного Образа» исходил от Патриарха Никона1572. Для Святейшего Никона работал иконник Гавриил Афанасьев Кондратьев: в 1657 г. ему было доверено, в частности, писать иконы для благословения семейства Государя Патриархом на праздник Пасхи. Поскольку в 1659 г. Кондратьев исполнил «живоподобный» образ «Благовещение с Акафистом» для церкви Троицы в Никитниках вместе с Симоном Ушаковым и Яковом Казанцем1573, можно заключить, что его работы для Патриарха были выполнены в той же манере.
Особенно интересна для нашей темы икона-мощевик «Усекновенная глава св. Иоанна Предтечи», датированная 28 сентября 1666 г. и находившаяся в Архангельском соборе Московского Кремля (сейчас – в фондах музея-заповедника «Московский Кремль»). В надписи на лицевой стороне иконы сказано: «Бысть ей в вечное благословение ныне же дни ради рождества и благороднаго царевича и великаго князя Иоанна Алексеевича, Крестителя Христова Иоанна ново глава его вапными писмены воображается… и благородному царевичу Иоанну в вечное благословение подносится». Именно о ней идет речь в письме Патриарха Никона к Царю Алексею Михайловичу, написанном в сентябре 1666 г. Святейший благодарит за деньги, пожалованные по случаю рождения царевича Ивана Алексеевича, и сообщает о посылке ответного дара – иконы с вложенной частицей крови св. Иоанна Предтечи. По словам Патриарха, он не обрел «в нищих своих вещех» ничего достойного, «и помыслив трудами своима чтити паче нежели златом и сребром и камений честных имущаго сих, и написав икону святаго славнаго Пророка и Предтечи Крестителя Господня Иоанна, отсеченную главу его; и мало святыя его крови утвердив в тую таблицу, послах во вечное благословение и поклонение сыну вашему, Государеву, а нашему Государю Царевичю и Великому Князю Иоанну Алексиевичю»1574.
Из приведенного текста следует, что икона была написана Патриархом собственноручно. В настоящее время она находится под записями и потемневшей олифой, но тем не менее очевидно, что первоначальная живопись принадлежит к «школе Оружейной палаты». Более того, по иконографии (изображение Усекновенной главы в чаше) образ, присланный Патриархом, является одним из первых примеров этого извода на русской почве. Таким образом, Патриарх Никон, в отличие от протопопа Аввакума, никак не может быть причислен к противникам новой манеры письма. Упомянем также, что, вопреки широко распространенному мнению, особенности художественной формы в иконописании никогда не регламентировались Церковью: и ранние энкаустические иконы, близкие к античному искусству, и средневековые памятники, и иконы академической школы XVIII–XIX вв. с канонической точки зрения представляют абсолютно равноправные (равночестные) моленные образы1575.
Откуда же появилось «живоподобие» в русской иконописи XVII в.? Довольно распространено мнение, что новые приемы были привнесены иноземными художниками и усвоены царскими мастерами. Такой путь выглядит вполне естественным и соответствующим инновационной роли придворного искусства. Однако в действительности было иначе. Западноевропейская живопись технологически строилась принципиально по-другому, и невозможно было имплантировать элементы живописной системы в иконописную. Приезжие портретисты писали маслом на холсте по темным грунтам, светлые и темные участки они исполняли в несовпадающих техниках. Иконописцы работали темперой по меловому грунту-левкасу, светлые и темные участки формировались одинаково.
Реставратор В. В. Голиков отметил, что в такой ситуации иконописцу легче было переквалифицироваться, чем освоить и включить новые приемы в иконописную технику1576. Не годился и опыт греческих иконописцев XVII в. (не случайно в Оружейной палате работал только один грек, и то в течение очень краткого времени). Для личного письма в греческих памятниках типичны сухость и жесткость моделировки с розовато-коричневым вохрением по коричневому санкирю и многочисленными графичными белильными движками. Глаза традиционно написаны по санкирю, белки обозначены условно, в виде серповидных белильных мазков с одной стороны от радужек. Складки одежд моделируются темными ахроматическими притинками, что создает специфический грязноватый колорит. «Ушаковская» же манера фактически представляет вариант той техники, которой пользовались Андрей Рублев «и прочие пресловущии иконописцы». Разница заключается в более глубоком и темном оливковом санкире и сильно разбеленном вохрении, создающих выраженную градацию объема, а также в активном использовании насыщенных привозных органических красок-баканов. Эти приемы были разработаны в иконописной мастерской Оружейной палаты русскими мастерами.
Трудно сказать, была ли новая манера письма инициирована Алексеем Михайловичем, который, по словам А.И. Успенского, «был эстетик и большой любитель искусства»1577, или только одобрена им, но несомненно, что триумфальное шествие по стране модернизированного варианта иконописания было вызвано организацией работ в Оружейной палате. Основной причиной создания при ней крупного иконописного центра была необходимость иметь при дворе достаточно большой штат художников, которые выполняли бы заказы царского двора. Высокопоставленные заказчики весьма требовательно относились к качеству работ, и это вызвало к жизни систему «свидетельствования» профессионального мастерства иконописцев и разделения их на ряд категорий. Высшую составляли жалованные мастера, постоянно числившиеся в штате Оружейной палаты и получавшие годовое жалованье (денежное и натуральное). До конца 60-х гг. их было всего 4–5 человек; затем штат жалованных иконописцев сильно расширился и в 1687–1688 гг. составлял 17 человек1578. Кроме того, в мастерской имелось еще 10 учеников, которые ранее числились кормовыми или даже жалованными мастерами, т.е. в целом штат составлял 27 человек. У жалованных мастеров имелись ученики, которым они обязаны были передавать свое искусство. Ступенью ниже жалованных стояли кормовые иконописцы, которым полагался «корм» только в период непосредственной работы над заказами. По уровню квалификации они делились на три «статьи». Для выполнения работ большого объема могли привлекать и «городовых» иконописцев, обычно работавших в своих городах для местного населения.
Мастера Оружейной палаты необязательно были москвичами: по царским указам в других городах выбирали лучших художников и вместе с семьями переселяли в столицу. Поскольку же художники, как правило, сохраняли связи со своей родиной, это способствовало единству развития русской иконописи XVII в. Постоянное общение художников внутри «круга Оружейной палаты» обеспечило стилевое единство основного русла иконописи XVII в. и его генетическую связь с искусством царских мастеров. Во времена Ивана Грозного роль самодержца ограничивалась санкционированием и участием в разработке новых сюжетов, однако они оставались принадлежностью элитарного искусства и не имели, за немногими исключениями, сколько-нибудь заметного распространения на периферии. Во второй половине XVII в. по воле Царя была создана идеально работавшая система внедрения московских новшеств вплоть до далеких окраин Русского государства.
Итак, в области изобразительного искусства роль власти, и в особенности царской, во второй половине XVII в. не только не уменьшилась, но и возросла в смысле поистине общенародной значимости ее начинаний. То же можно констатировать и по поводу архитектуры. К середине XVII в. в зодчестве посада адаптируются формы, пришедшие из кремлевских построек, хотя, к сожалению, иногда о происхождении той или иной формы (например, лоткового сомкнутого свода в церковном зодчестве) приходится судить лишь предположительно из-за утраты или перестройки памятников в Кремле.
Следующий этап нововведений связан со строительством Патриарха Никона. Восьмигранные барабаны и большие окна в Крестовоздвиженском соборе Крестного монастыря (1656–1660), по мнению Г. В. Алферовой, появились в русском зодчестве как результат особого пиетета Никона к греческой архитектуре1579. Византийские огромные оконные проемы, иногда почти дематериализующие поверхность стен, настолько резко отличались от древнерусских узких, часто щелевидных окон, что не могли остаться незамеченными русскими паломниками и, вероятно, стали предметом специального воспроизведения.
Если Крестовоздвиженский собор действительно имел плоское покрытие с балюстрадой, как предполагала Г. В. Алферова, то оно, несомненно, было навеяно постройками, создававшимися для других климатических условий – сухого и жаркого юга. Подобные балюстрады имеют, например, храмы Афона. Плоскими первоначально были кровли всех ярусов Воскресенского собора и Богоявленской пустыни (скита Патриарха Никона) в монастыре Нового Иерусалима1580.
В соборе Иверского монастыря опять употребляются восьмигранные барабаны; не исключено, что своеобразные боковые крыльца-притворы восходят к известному типу афонских храмов с боковыми капличками-певницами1581. В Новоиерусалимском монастыре восьмигранная форма употреблена в здании скита Патриарха Никона: этот венчающий объем, поставленный на плоскую кровлю, предназначался для размещения в нем самостоятельного храма свв. апостолов Петра и Павла. Архимандрит Леонид указывал, что скит был построен «по образцу подобных зданий на св. Афонской горе, в виде пирга (башни) о четырех ярусах с келиями и церквами»1582. В свою очередь афонские «пирги» ассоциировались с гранеными же столпами – местами уединения столпников, хорошо известными в русской иконографической традиции.
Обращение к греческому зодчеству, несомненно, рассматривалось Патриархом как древняя кафолически-русская традиция – в контексте приглашения или чудесного приведения греческих зодчих в XI в. (согласно рассказу Киево-Печерского патерика). Никон, безусловно, знал, что и сам Киево-Печерский монастырь «от благословеныя Святыя Горы пошел»1583. Однако в действительности такое обращение оказалось новацией, поскольку с момента появления на Руси собственных строительных кадров русское зодчество стало развиваться автономно от византийского, и греческие архитекторы никогда более не работали на Руси. Не прослеживается и ориентация русской архитектуры на греческую: например, «храм на четырех колоннах», ставший ведущим типом средневизантийского зодчества1584, остался неизвестным в русских землях. Поэтому стремление Святейшего Никона возродить греко-русские архитектурные связи обернулось попыткой насадить нечто новое, отсутствовавшее в строительной традиции Древней Руси.
Обращаясь к зодчеству Патриарха Никона (который был одним из наиболее активных заказчиков своего времени), надо учитывать, что его постройки далеко не всегда рассчитывались на подражание. Напротив, монастырь Нового Иерусалима, например, определенно не предполагал тиражирования образца. Возможно, что пресловутый «запрет шатров» в храмозданных грамотах объяснялся стремлением сохранить уникальность шатра возводимого Воскресенского собора1585. Тем не менее декоративное убранство никоновых сооружений вошло в широкий обиход достаточно быстро. Мастера, переселенные в Россию из Вильны, Полоцка, Витебска, Смоленска и других городов, в течение долгого времени входивших в состав Речи Посполитой, в большом количестве изготавливали новые резные иконостасы, получившие название «флемских». Часть резчиков вначале работала для Святейшего в Иверском и Воскресенском монастырях (Никон в 1655 г. перевел в Иверский монастырь братию Оршанского Кутеинского Богоявленского монастыря и отправил вместе с ними «мастеровых людей» из Копыси, Орши и Мстиславля)1586, а после опалы Патриарха мастера в 1667 г. перешли по царскому указу в Оружейную палату. В 1666 г. в Москву были переведены из Воскресенского монастыря мастера-изразечники, открывшие новую эпоху в украшении московских зданий1587.
Нельзя не отметить исключительную роль Патриарха Никона в просвещении духовенства и паствы по вопросам, связанным с символическим толкованием храма и его отдельных частей1588. На Руси такие толкования были известны еще в домонгольское время, но они носили краткий и отрывочный характер. В XV в. получил распространение текст, известный под названием «Служба толковая Иоанна Златоуста, толк Сихиев»1589. Стоглавый собор 1551 г. апеллировал к нему как к каноническому, хотя «Служба толковая» в значительной степени является апокрифом и включает, в частности, выдержку из апокрифического Евангелия Никодима.
Святейший Никон не мог мириться с отсутствием русских переводов развернутых святоотеческих толкований Божественной литургии, содержавших сведения о символике храма, богослужебных одежд и утвари. Очевидно, по его просьбе в 1653 г. Патриарх Константинопольский Паисий прислал в Москву книгу «Божественная Литургия, с изъяснениями различных учителей», составленную в XVI в. греческим иеромонахом Иоанном Нафанаилом. Составитель пользовался в основном «Изложением церковных служб и обрядов» Св. Германа, Патриарха Константинопольского, и «Разговором о Св. Священнодействиях и Таинствах церковных» Архиепископа Симеона Солунского1590. Книга была переведена на русский язык Арсением Греком и напечатана в Москве с некоторыми дополнениями в 1656 г. под названием «Скрижаль». В предисловии пояснялась необходимость такого издания: «Мнози християне приходят в Церковь с великим желанием и благоговением, яко да слыша Священная словеса Святыя Литургии, и да видят страшная Таинства, яже совершаются в ней. Но обаче не разумеют мест, в них же образуется познание единого коегождо таинства»1591.
В «Скрижали» даны толкования храма, алтаря, престола, горнего места, жертвенника, диаконника (сосудохранительницы), восточных столпов, иконостаса (космита), завесы (катапетасмы), амвона, светильников и пр. Книга предназначалась в первую очередь для духовенства, но подобную литературу с интересом читали и представители светской знати, и даже посадские люди.
Просветительский пафос Патриарха сказался также в помещении краткого варианта «Сказания о Церковных Таинствах» на изразцовом фризе в интерьере крестовой части Воскресенского собора (1666). Исследователи подчеркивают, что эта надпись, несомненно, составленная самим Патриархом, отнюдь не являлась декоративной и была рассчитана на чтение ее богомольцами1592.
Поистине революционное изменение композиционного типа русского храма было предпринято по инициативе Царя Федора Алексеевича. Летом 1681 г. в дворцовом селе Воскресенском на Пресне была заложена первая центрическая ярусная церковь. Образцом для такого решения послужили украинские храмы. Их обмеры привез Царю живописец Оружейной палаты Карп Золотарев, специально командированный в Малороссию «для описания церковных чертежей»1593. Не вполне ясно, чем была вызвана необходимость обращения в это время к украинской практике. Возможно, здесь сказались личные вкусы молодого самодержца, который, по словам самих малороссов, «большую любовь до нашего народа имел», но, как бы то ни было, новый тип тут же получил широчайшее распространение сразу в нескольких вариантах и продолжал существовать в иных стилевых обличьях в XVIII–XIX вв.
Федор Алексеевич вошел в историю и как автор проекта Алексеевской церкви Чудова монастыря. Об этом известно из надписи, располагавшейся на стене храма: «Лета 7188 (1680) месяца августа начаты быти созидатися святые храмы … первый храм в честь святого Благовещения, вторый св. Первозваннаго апостола Андрея, третий св. Алексия митрополита Всероссийского… повелением Государя Царя и Великого Князя Феодора Алексиевича… по его Государскому чертежу и указной мере, каков чертеж от него Государя прислан в Чудов монастырь»1594.
Алексеевский храм Чудова монастыря, содержавший гробницу митрополита Алексия, имел необычное устройство. Фактически это были два пятиглавых бесстолпных храма – митрополита Алексия и Благовещения, – имевших общую стену. Эту стену прорезала арка, под которой и размещалась гробница. Алексеевская церковь предназначалась только для мужчин, Благовещенская – для женщин, Андреевская – для монахов. Казалось бы, логично было отвести мужчинам тот храм, который выходил во внутренний двор монастыря, поскольку Чудов монастырь был мужским, однако устроители поступили наоборот. Очевидно, отдавая женскому полу северную, т.е. левую от входа, часть двойного храма, стремились соблюсти обычай Греческой Церкви (до никоновых времен у нас не известный) разделять молящихся, помещая мужчин справа, а женщин слева от солеи.
Уникальной особенностью постройки являлся арочный проход, соединяющий алтари обоих храмов, что вообще категорически запрещалось. Однако в данном случае он был необходим, поскольку, когда Литургия служилась в Алексеевской церкви, то Св. Дары, используя арку-проход, выносили для женщин через алтарь Благовещенского храма. Любопытно также расположение дверных проемов. В Благовещенскую церковь можно было попасть только через трапезную Алексеевского храма, со стороны монастыря входа не было; в церковь апостола Андрея, предназначенную для монахов, наоборот, можно было пройти лишь из монастыря. Столь нетривиальное решение, вероятно, действительно явилось плодом упражнений благочестивого монарха1595.
По словам В. Н. Татищева, Царь Федор Алексеевич «великую охоту к строению имел»1596. В проекте царского указа об устройстве в России училищ предполагалось обучать детей наукам, имеющим практическое применение, в том числе фортификации и архитектуре. Летом 1679 г. восемнадцатилетний Самодержец посетил не достроенный Патриархом Никоном Воскресенский монастырь Нового Иерусалима. По инициативе Царя Федора живописец Оружейной палаты Карп Золотарев произвел обмеры построек, после чего, с одной стороны, возобновились строительные работы в монастыре, с другой – началось сооружение копии Гроба Господня с Голгофой в Теремном дворце (несомненно, идейно связанное с замыслами Святейшего Никона).
В области архитектурного законодательства Федор Алексеевич во многом предвосхитил указы своего младшего брата Петра: особое внимание он уделял противопожарным мерам – таким, как расчистка улиц от лишних строений, мощение их камнем, засыпка землей тесовых или драничных крыш домов, стимулирование каменного жилого строительства путем выдачи из Каменного приказа соответствующих материалов с рассрочкой уплаты на 10 лет и т.п.1597
Итак, новшества в русском искусстве второй половины XVII в. по-прежнему обеспечивались властью. По сравнению с XVI в. они в целом получили более широкий ареал распространения – как социальный, так и территориальный. Очевидно, их элитарное происхождение затушевывалось видимым отсутствием иноземного источника наподобие приезда итальянских мастеров в Москву в XV–XVI вв. Царь и Патриарх в это время почти не нуждались в приглашении иноверцев, поскольку инновационную роль с успехом исполняли выходцы из Белоруссии (реже с Украины). Западноевропейские источники или строительные приемы уже прошли у них адаптацию в системе православной культуры и легко воспринимались разными общественными слоями. Так благодаря рациональной политике власти в XVII в. не только укреплялось социальное единство русского общества, но и обеспечивались кафоличность в масштабах Московско-Ромейского царства и сохранение его наследия.
Зодчество Святейшего Патриарха Никона: истоки и значение. (Бондарева О. Н.)
…в мире все более и более угасает мысль о служении человечеству.
Ф. М. Достоевский. «Братья Карамазовы»
Шел 1666 год. В результате ложного суда Святейший Патриарх Никон был отправлен в заточение в Ферапонтов монастырь. Строительство всех трех возводимых им монастырей – Иверского Валдайского, Крестного Кий-островского и Воскресенского, Новый Иерусалим именуемого, – было остановлено. Враги его, казалось, торжествовали. Однако, лишь получив возможность выходить из своей темной и угарной кельи, старец Никон принялся за устройство острова на Бородавском озере – там часто тонули люди. Очищая землю для хлебопашцев и жнецов, он собирал с полей многопудовые камни, которые перекатывались на плоты и доставлялись к месту будущего острова. Каждый камень в основание острова укладывался собственноручно Патриархом.
Рукотворный остров, явившийся последним зодческим деянием Святейшего Патриарха Никона, несмотря на свои размеры (около 77 м в длину и около 20 м в ширину), стал своеобразным итогом всей его величественной и многотрудной подвижнической деятельности.
Сделав натурные обмеры, исследователи были удивлены тем, что «композиция острова выстроена на основе прямоугольника золотого сечения… Эта система пропорционирования применялась (в Византии и на Руси – О. Б.) одинаково как для архитектуры, так и для иконописи»1598.
Знаменитый американский русист, директор Библиотеки Конгресса США Дж.-Х. Биллингтон также посчитал нужным дать оценку этому рукотворному «каменному кораблю»: «Никон выстроил одну из последних и самых мрачных монашеских пустыней – из камней, которые сам носил с берега в воду, старец сложил остров и на нем возвел надежный скит для уединенной молитвы»1599. Важный факт: на допросе ссыльного Патриарха 18 января 1672 г. голова московских стрельцов Ларион Лопухин записал со слов заточенного старца: «…да на том же де озере поставил он Крест на островку погрузив камение для того, что прежде сего на озере по навету диавольскому многие люди потопали. А по устроении Креста православных христиан от утопления Бог хранит»1600, – но этот факт, как и многое другое, Биллингтон не замечает или старается не замечать.
Ответ Святейшего Патриарха Никона следует понимать в категориях иеротопии: Бог хранит православных христиан по устроении Креста от утопления в волнах житейского моря. И, принимая слова ссыльного святейшего старца как его завет, никак нельзя согласиться с мнением Дж. Биллингтона, что «самый выдающийся церковный лидер» Патриарх Никон, носивший титул Великого Государя, «провоцировал в народе ощущение того, что в эпоху столь ужасающих перемен и массовых страданий история идет к своему концу»1601.
Время недолгого пребывания на кафедре Патриарха Никона (1652–1658) было не только отсчетом середины XVII столетия. Это было время, когда Русь объединилась после Смутного времени, расцвела и входила в новую для себя систему цивилизационного взаимодействия.
Достаточно беглого ретроспективного взгляда, чтобы оценить подвиг крошечного Московского княжества, принимавшего на себя столетие за столетием удары азиатских полчищ – Золотой орды, Тамерлана – и прикрывавшего собой Европу. В начале XVII в. объединенные силы теперь уже самой Европы и прибалтийских княжеств под разными предлогами устремились к захвату Московии. И тем знаменательнее подвиг молодого государства, расположенного на Средне-Русской равнине, если учесть отсутствие каких-либо естественных природно-географических преград, обеспечивающих защиту территории от неприятеля. На равнинных малонаселенных территориях были сооружены православные обители, систематически разоряемые иноземными захватчиками. Влекомые непонятной силой в глухие дебри, русские монахи строили монастыри, уходя все дальше и дальше в глубь континента, именуемого Евразия.
Дж. Биллингтон констатировал: «…сущность России определяется скорее цельностью внутренней духовной жизни, нежели степенью могущества наружной власти. Нам никогда не удастся полностью проникнуть в тайну внутреннего мира молчания и бесконечной молитвы, что определяла – и определяет до сих пор – монашескую культуру России». И добавил, что «монахи оставили нам свои часовни и храмы, отмечающие путь, который они проторили от Арктики на Севере и до Тихого океана на Востоке». Он же отметил: «Никон выстроил свой мессианский редут – Новоиерусалимский монастырь на реке Истра к западу от Москвы»1602.
С высказыванием Дж. Биллингтона перекликается интересное наблюдение русского мыслителя Н. О. Лосского: «…мы, земные люди, воспринимаем жизнь великих людей отрывочно, не понимая смысла и связи многих элементов ее…»1603.
Е. Р. Стрельникова, представитель Комиссии по канонизации при Вологодском епархиальном управлении, курировавшая все сложнейшие этапы восстановления поклонного креста на Никоновом острове, говорит: «Устройство острова и водружение Креста было духовным подвигом Святейшего1604, дающим нам повод для глубоких раздумий о судьбоносности времени его первосвятительского служения»1605.
11 марта 1652 г., в четверг на второй неделе Великого поста, во исполнение постановления церковного Собора и воли Царя Алексея Михайловича митрополит Новгородский Никон возглавил посольство на Соловки за мощами святителя Филиппа.
Строго говоря, путь преосвященнейшего Никона к чудотворцу Филиппу начался еще в 1625 г., когда он стал священником в бывшем родовом владении бояр Колычевых. Безусловно, повествования о житии подвижника оказали на восприимчивую душу будущего Патриарха благотворное влияние. Далее путь привел его к месту упокоения святителя Филиппа1606 – в Соловецкий монастырь.
Потрясающее и ныне возведение 47-летнего монаха, бывшего крестьянина Никиты Минова, на древний престол Московских Святителей чудесно совпало с возвращением мощей митрополита Филиппа в Успенский собор. Явно было, что не Царь и никто другой, но именно сам прославленный священномученик соборным единением со своими «преждебывыми собратьями-первопрестольниками» возвел бывшего крестьянского сироту на вдовствующую по смерти Патриарха Иосифа кафедру. Представлялось, что новый Московский Святитель – Патриарх Никон – продолжит делание митрополита Филиппа. Так и было: первыми действиями Святейшего стали основание и возведение двух монастырей – Иверского Валдайского и Крестного Кий-островского, – посвященных не только Божией Матери, Иверскому ее образу, и Животворящему Кресту Господню, но и памяти святителя Филиппа.
Не только наглядные примеры зодческой и хозяйственной деятельности великих предшественников могли служить руководством для Святейшего Патриарха Никона, но и его обширные богословские и научные познания. Спустя два столетия Московский митрополит Платон скажет о нем: «Патриарх Никон… муж просвещенный выше века своего»1607. При возведении Воскресенского собора в монастыре Нового Иерусалима по указаниям Патриарха на стенах были помещены тексты, разъясняющие смысл Литургии, церковных таинств и священных предметов (определенная часть текстов взята из поучений Иоанна Златоуста и «богомудрой» Скрижали)1608.
Жизнь Святейшего Патриарха Никона во многом совпадает с житием Святителя Иоанна Златоуста, особенно если сравнивать их деятельность во времена патриаршества. Патриарх Никон словно следовал по пути предшественника, ибо Иоанн Златоуст для него во многом являлся образцом. Примечательно, что за последним богослужением в 1658 г. в Успенском соборе Патриарх Никон произнес поучение народу по XXIX Беседе святителя Иоанна Златоуста на Послание к римлянам св. ап. Павла (XV гл., 14)1609.
То, что Патриарх Никон основывал и строил свои монастыри в пустынных сельских местах, было действенным ответом на повеления святителя Иоанна Златоуста: «…убеждаю, умоляю и прошу как милости, или лучше, поставляю даже законом, чтобы никто не имел села без церкви»1610. Святитель пояснил, чем славно селение, имеющее священника: «Здесь нет распутства: оно отвергнуто; нет пьянства и объядения: они изгнаны; нет тщеславия: оно погашено; здесь радушие больше сияет от простосердечия»1611.
Одно из важнейших наставлений Златоуста – «Искать полезного для общества – вот правило совершеннейшего христианства»1612. «Христос… заповедал каждому из нас во время молитвы принимать на себя попечение и о вселенной, – Он не сказал: да будет воля Твоя во мне или в нас, но на всей земли, – т.е., чтобы истребилось всякое заблуждение и насаждена была истина, чтобы изгнана была всякая злоба и возвратилась добродетель и чтобы, таким образом, ничем не различалось небо от земли»1613, – наставлял Иоанн Златоуст.
Не здесь ли корень исключительного гостеприимства, которое оказывал Святейший Никон в Воскресенском монастыре? «Еще же обычай имяше таковый: …странных же и пришельцев с собою в трепезе питаше, и по обеде убо всем оным странным и пришельцем нозе омываше, елико их случашеся. Бяху бо во оныя времяна многия брани с разными государствы, ратныя же люди от путешествия уклоняхуся упокоения ради во обитель его, он же всех приимаше и насыщаше и ноги омываше, елико их не прилучишися, яко бе по сту и по двести и по триста во един день питаше»1614, – писал очевидец. Примеров человеколюбия в таких масштабах Русская Церковь не знала ни до описываемого времени, ни впоследствии. Все поступки Патриарха Никона носили характер духовного собеседования не только с Иоанном Златоустом, но и со всею полнотою Вселенской Церкви, ибо святые Отцы Второго Никейского собора (787) определили: «…исповедуя спасение, мы провозглашаем его делом и словом»1615. «Чтобы быть сыном Божиим, для того нужна не благодать только, но и дела»1616, – учил Иоанн Златоуст.
О призвании Церкви молиться «за всех и за вся» говорил архимандрит Киприан (Керн): «Ходатайственные молитвы, особливо в Литургии Василия Великого, показывают, какое значение придает Церковь всему совершающемуся в жизни человека и как она вникает во все подробности житейского обихода человека. Ни одна сторона жизни не является в глазах Церкви «мелочью», чем-то незначительным и второстепенным. Церковь освящает все своими молитвами и заботами. Она благословляет семью и мирный труд человека; она болеет его скорбями, она радуется его удачам. Она заботливо и попечительно ходатайствует перед милосердием Божиим о всех делах и нуждах людей: она молится о младенцах, юных, старцах и вдовицах, о заключенных, больных, плененных, скорбящих и угнетенных, она молитвенно и духовно сопутствует путникам, она печалуется о гонимых, умилостивляет в гневе власть имущих. Церковь поминает в своей евхаристической молитве и всех отшедших в иной мир, и еще томящихся в этой жизни. Поминовение объединяет и прославленных святых во главе с Пречистой Богоматерью, и усопших, но еще нуждающихся в молитвенном предстательстве и успокоении, а также и живых, начиная с властей, духовных и светских»1617.
Современный швейцарский ученый Т. Бургхардт заметил, что «в силу определенных объективных и всеобщих законов архитектурное окружение увековечивает сияние жертвы Евхаристии»1618.
Невозможно представить себе, чтобы такой гений, зодчий, каким являлся Патриарх Никон, не был в мыслетворческом диалоге с современным ему миром. Удивительно символическим образом строительное творчество Святейшего Патриарха связано с активной деятельностью итальянского архитектора и скульптора Лоренцо Бернини.
Духовная творческая связь двух великих мастеров явилась предметом нашего научного интереса: были подробно рассмотрены фундаментальные принципы, которыми руководствовались два великих зодчих, и сделан вывод: «Бернини землю нивелирует и мостит камнем, Патриарх Никона возводит на ней высоты и венчает ее храмами»1619.
Скульптуры Бернини, изваянные из хрупкого мрамора, подтверждают мастерство и талант этого художника. Монументальные сооружения Патриарха Никона олицетворяют труд и творческий гений самого Святителя и многих мастеров из народа. Излюбленный материал Патриарха – глина. Из нее выделывали обожженный красный кирпич и поливные многоцветные изразцы. Всем его строениям (за исключением Кий-островского монастыря) изначально присуще многоцветье: массивы красных стен, приподнятые над белокаменным цоколем, с окнами, отделанными узорчатыми наличниками, керамические полихромные фризы. На карнизе белоснежные плиты подводят своеобразную черту трудам каменщиков, карниз же есть одновременно и опора для кровли, на которой золотые купола, увенчанные крестами, смотрятся небесными богатырями.
Если все сооружение представить созданным из тесаного известняка, как издревле было на Руси, то, безусловно, здание имело бы более строгий вид. Недостатка ни в камне, ни в мастерах в Московии не было. Но Патриарха привлекал иной материал. В «Повести и сказании о похождении во Иерусалим и во Царьград Троицкого Сергиева монастыря черного диакона Ионы по реклому Маленького (1649–1652 гг.)» говорилось: «Святый бо Иердан… течет меж гор быстро, земля глиниста, вода бела и лехка»1620. По-видимому, это свидетельство паломника Святейшим Никоном было принято во внимание, но еще важнее было сохранить преемственность указаний Священного Писания применительно к строительной деятельности: как преображается глина и становится многоценным материалом, пригодным не только к кладке, но и к возведению иконостасов, так и естество человека может быть преображено его личным совершенствованием и схождением Духа Святого.
Согласно определению Т. Бургхардта, «…грубый материал – это образ души, которая должна быть преобразована Духом»1621. Глина – грубый материал, и в середине XVII в. благовествующий Святейший Патриарх Никон блестяще, подобно Святителю Спиридону Тримифунтскому († 348), решил свои задачи, ибо, по определению М. В. Зызыкина, «Православие было для него строительной силой»1622.
Все исследователи строительной деятельности Патриарха Никона1623 обращали внимание прежде всего на обилие вод, среди которых Святейший располагал монастыри. Устремленные ввысь, к небесам золотые купола храмов, созданных Никоном, сливались с небесами в отражении вод. Становилась осязаемой вертикаль, соединяющая мир Горний с миром дольним. И все это было на приволье, на свободе, где наиболее глубоко чувствует человек драгоценный дар, полученный от Бога, и преисполняется не страха и трепета, а радости пред Его величием. Несколько иначе это сформулировал Т. Бургхардт: «Внутреннее видение, ориентированное на небесный архетип, всегда может сообщить произведению неуловимое качество, проникнутое безмятежностью и полнотой»1624.
Безусловно, и Бернини руководствовался словами псалмопевца, царя и пророка Давида: «Речная устремления веселят град Божий». «Бернини всегда, когда может, проводит воду в центр города», – указывал на характерную особенность творчества архитектора известный итальянский искусствовед Дж. Арган и продолжал: «фонтаны становятся для него основным элементом городского убранства»1625.
Характерным для Бернини явилось сооружение фонтана «Четырех рек». Вот как его описывают исследователи: «…фонтан представляет центр мира. У подножья четырех скал располагаются олицетворения рек, представляющих континенты: Ганг в Азии, Нил в Африке и Ла Плата в Америке. То обстоятельство, что Европу здесь, воздавая хвалу Папству, представляет скорее Дунай, чем Тибр, объясняется тем, что последний находится в центре веры, откуда началось христианское миссионерское завоевание континентов, а территории к северу от Дуная намекают, помимо всего, на новое распространение влияния католичества…»1626.
Догадаться, какое государство располагалось севернее Дуная, для пьющих из фонтана было нетрудно. Там была Русь. Таким образом, аллегорическая сущность этого фонтана соединяла в себе и территориальные, и исторические вожделения. Но даже гению архитектора и инженера неподвластна имитация природы в городской среде: тонкие струи воды, изливающиеся из каменных расщелин, не могли представлять величавую полноводность рек в их свободном и привольном течении. В начале XX в. немецкий мыслитель О. Шпенглер произнес данной грани творчества Бернини свой приговор: «Застывшая символика заковала в камень все живое»1627.
Философ и богослов Н. О. Лосский как бы в подтверждение достойной оценки творческого гения Патриарха Никона обобщил: «Высокую красоту придают земле Воды – моря и океаны, реки и озера»1628. И он же определил: «Сочетания природы и человеческой культуры создают замечательные красоты пейзажа, проникнутого гармоническим соотношением между душою народа и географическою средою, в которой он живет»1629.
Памятником высокого духовного настроя стало Никоновское Патриаршее «Слово благополезное о создании монастыря Пресвятые Богородицы Иверския и святаго новаго исповедника и священномученика Филиппа, Митрополита Московскаго и всея Руси чудотворца, иже на Святее Езере, и о перенесении мощей святаго праведнаго Иакова, иже прежде Боровеческ именовася». Начало «Слова» по-древнему былинно:
Великая от вещей великих требуют и повестей
и светлая дела светлаго и сказания требуют.
… Но Господи, Господи, даждь ми силу словес явити дела Твоя…
Испросив у Царя Алексея Михайловича согласие на создание монастыря, Патриарх Никон послал мастеров, «искус ведущих о строении», которые обрели остров «не зело велик, но зело красен». После этого были начаты работы по расчистке места под строительство и воздвижение деревянной церкви в честь Иверской иконы Божией Матери. В одухотворенном своем повествовании Святейший Патриарх заметил: «Не аз бо един тако о святем месте том творю похвалу, но и вси обретшиеся со мною смиренным, в пути преставшее о всех глаголати, но аки от единых уст о красоте мест того койждо к себе беседоваху, похваляюще святое то место…»1630.
Архидиакон из Антиохии Павел Алеппский, бывший свидетелем первых лет патриаршества Никона, отозвался об избранном для строительства месте так: «Мы дивились на это благословенное место и его приятнее местоположение: поистине нет ему подобного в мире, и в будущем оно станет примером всем векам»1631.
Одновременно с Иверским монастырем Патриарх Никон возводил Воскресенский монастырь Нового Иерусалима. Современному туристу, спешащему в далекие страны, вероятно, странно читать записи венесуэльского генералиссимуса Франсиско де Миранды от 26 мая 1787 г. о «уединенных, и поистине чарующих местах»1632 Ново-Иерусалимского монастыря.
Совершенный образец монашеской пустынной обители дан в описании Крестного Кий-островского монастыря: «Сурова природа этих мест: скалы словно обрезаны надвое тою горизонтальною чертою, до которой поднимаются приливы; под нею не цепляются за скалы ни единой травки, ни единого корешка, и скалы эти вечно лоснятся в своем розовом обнажении, вечно обмываемые; начинаются мхи и травы, и поднимается старый хвойный бор, в гущах которого приютились три монастырские церкви…»1633.
Краткие красочные характеристики российских мест, с любовью облагораживавшихся Святейшим Никоном, дополняя определение Н. О. Лосского, неопровержимо свидетельствуют, что Патриарх Никон вопреки наступательному влиянию западноевропейского Ренессанса1634 упрочивал связь своих монастырских строений с природным окружением, усиливал их связь с миром Горним.
К празднику Рождества Христова 1935–1936 гг. митрополит Антоний (Храповицкий) диктовал статью «Патриарх Никон и Россия». Убеленный сединами иерарх говорил: «Особенно рвется мое сердце к гениальным созданиям величайшего человека русской истории Патриарха Никона – Воскресенскому монастырю (Новому Иерусалиму), как бы сходящему с неба, Крестному монастырю на Белом море и Валдайскому Иверскому монастырю в Новгородской губернии.
Иверский монастырь белеет среди озера с синими куполами и величественным иконостасом…
Великолепная прозелень иконостасного тела и фонов передает особенную духовность многоярусному сочетанию священных изображений: не только сами святые кажутся поднимающимися к небу, но будто поднимают за собой и богомольца»1635 …
Единство устремлений во времени и пространстве верующих христиан необыкновенно ясно выразил французский гуманист П. Тейяр де Шарден (1885–1975), воскликнув: «О Чистота, Вера и Верность, светлые силы покоя и действия, поистине вы являетесь высшими силами в природе, вы придаете Миру, даже материальному, его окончательную форму и его окончательный облик. Вы представляете собой начало, созидающее Новую Землю. Вы составляете три аспекта одного, исполненного уверенности, поклонения Богу. “Ибо всякий рожденный от Бога побеждает мир; и сия есть победа, победившая мир, вера наша (1Ин.5:4)”»1636.
Полагаем, что Патриарх Никон руководствовался наставлением Святителя Иоанна Златоуста о том, что Спаситель «повелел землю сделать небом и, живя на ней, также вести себя во всем, как бы мы находились на небе, и об этом молить Господа»1637.
Невозможно обойти вопрос об именовании Воскресенского монастыря на реке Истре в Подмосковье монастырем Нового Иерусалима – Святого Живоносного Христова Воскресения монастырь Нового Иерусалима. В свое время Патриарху Никону это именование было поставлено в вину боярином Семеном Стрешневым с помощью так называемого Газского митрополита Паисия Лигарида1638.
Сомнительно, чтобы обвинителям Патриарха не было известно, что у строящегося русского монастыря был одноименный предшественник. В столице Византии Константинополе, вблизи Золотых Ворот, с V в. находился монастырь с храмами, посвященными образам Богородицы Иерусалимской, и Живоносный Источник, именуемый «Новый Иерусалим». Об этом свидетельствовал «Типик церкви святой Софии»1639 – цельное описание патриаршего служения IX в. Никон Черногорец, писатель XI в., в своих пандектах, сохранившихся только в славянском переводе, довольно часто ссылается на Устав Великой Церкви, причем обозначает его словом «Соборник»1640.
Никон, Святейший Патриарх, безусловно, зная историю икон Божией Матери Иерусалимской и «Живоносный Источник» и устанавливая на Руси почитание этих образов, опирался на византийскую традицию1641.
Авторитетный знаток древнерусской иконографии академик Б. В. Раушенбах (1915–2001) в конце XX в. дал объяснение явлению, с которым довелось столкнуться Святейшему Патриарху Никону в середине XVII в.: «Падение богословской глубины икон, которое наблюдается в России начиная с середины XVI века и в XVII веке, происходило не без влияния Запада; появившееся стремление к “правильному” рисунку исключало передачу высшего смысла, все это можно хорошо видеть на иконах XVII века. Иконы “Рождество Христово” теряют свой строгий облик. На них нередко изображается масса эпизодов вплоть до “Бегства в Египет”, сообщающих иконе фрагментарный характер … Здесь очевидна поверхностная повествовательность и потеря того поразительного единства, о котором шла речь. На иконах “Сретение” даже иногда исчезает изображение престола – идейного центра высоких композиций XV века»1642.
То, что констатировал Б. В. Раушенбах «сквозь даль времен», Святейший видел гораздо ярче: хлынувший поток ремесленных копий, подделок под иконопись извращал духовное зрение.
Патриарх Никон был воспитан в древнерусской иконописной традиции1643. Доказательством является благословение прп. Елеазара иеромонаху Никону на устроение образа Нерукотворенного Спаса. Это свидетельствует о высокой степени доверия, оказанной мастером своему талантливому ученику: создание подобного монументального произведения невозможно без особого дарования и опыта. «И убо предивно есть, яко и убрусе быше изображен и устроен над входом церковным, со внешнюю страну от запада, и на всяко лето от вара солнечного пожизаем и зноем, и мразом, и вихры, и дождем, и снегом изнуряем, и цел пребывает, чудесно соблюдаем Божиею благодатию за угождших ради преподобного Елеазара и ученика его», – говорится в житии прп. Елеазара Анзерского1644.
Видя постепенную утрату богословской глубины современной ему иконописи, Святейший Патриарх Никон откликнулся дерзновенным поиском новых форм храмоздательства, которые бы возвещали: «Горе имеем сердца…», т.е. устремим сердца и помышления в Горний, святой мир. Результатом этих поисков стало строительство Святого Живоносного Христова Воскресения монастыря Нового Иерусалима – зримого воплощения великой сути Евхаристии.
«Чтобы понять Евхаристическую литургию, в ней нужно прежде всего увидеть шествие или странствие. Это шествие, это восхождение народа Божьего, Церкви на небо, в то Небесное святилище, куда вознесся Христос и нас совознес с Собою»1645, – сказал в 1963 г. известный православный литургист протопресвитер А. Шмеман (1921–1983). Отец Александр, соединявший в себе дарования проповедника, исследователя и историка Церкви, не мог обойти молчанием изменение понятия сути Таинства западными богословами, оказавшими влияние и на православную мысль: «Больше же всего игнорируется здесь Небесная сущность Евхаристии, совершение ее восхождения “на Небо” – увы, все развитие сакраментального богословия – западного в своих источниках, но усвоенного в “темные века” и православным Востоком, прошло по пути не вертикального, а горизонтального определения Таинств, применения к святейшей Тайне Евхаристии категорий и понятий “мира сего”».
Огромная ценность разъяснения отца Александра в том, что он возвращает нас к истокам Церкви: «Первые христиане понимали, что это восхождение Церкви в “вожделенное Отечество” Царства Божия – основное условие христианской миссии в мире. Ибо только там, на Небе, они погружались в иную жизнь нового творения, и когда, после этого восхождения, они возвращались в мир, на их лицах отражался свет, радость и мир Царства и они поистине становились его свидетелями»1646.
Сама «восходящая», словно лестница в небо, архитектура Воскресенского собора, по внешнему своему убранству не имевшая аналогов в мире, призвана была дать человеку свидетельство о подвижничестве. Это был образ проповеди, созданной и увековеченной в камне, завершенной святыми куполами с водруженными на них Крестами. Задолго до того, как современный нам монах Софроний (Сахаров) произнесет, что «Истинное христианство в мире почти не проповедуется»1647, Святейший Никон, воспитанник двух православных обителей, своими зиждительными деяниями будет препятствовать времени малодушия и маловерия.
Величественный замысел зодчего особенно ярко раскрывается во время крестных ходов, совершаемых по стене монастыря. Это шествие с возжженными свечами, пением тропарей, произнесением ектений (прошений) над землей, созерцание устремленного ввысь, к небесам собора пробуждало у каждого паломника небесное вдохновение. Неслучайно монастырь Нового Иерусалима так полюбился Н. Ф. Федорову – мыслителю, мечтавшему об освоении космического пространства. Но у крестного хода, двигавшегося вдоль монастырских башен – Сионской, Гефсиманской, Дамасской, Ефрмовой, Варуха, Иноплеменничьей, Елизаветинской, Давидовой, – была и другая наполненность: он свидетельствовал о связи времен, поколений и объединял пространство.
Итак, монастырь Нового Иерусалима есть образ Откровения, призванный напомнить, возвестить главную мысль: человеку, прежде чем приблизиться к его стенам, следует знать, что «боязливых и неверных, и скверных и убийц, и любодеев и гордецов, и идолослужителей и всех делающих неправду» (Откр.22:8–15) внутри святого града-монастыря не будет.
«Епископи убо во вся дни должны суть учити причет церковный и вся люди своя благоверию и Божественным повелениям»1648, – утверждал Патриарх Никон в «Возражении…», разоряя вопросы-ответы объединившихся против него противников – боярина Стрешнева и Паисия Лигарида (обмирщвляемого государства и латинского прозелитизма). Срединный 16-й вопрос: «Доведется ли архиереом строити обозы и грады, понеже Никон полюбил жить на местех пустых и безжителных, и чтоб наполнил тое место и наемцы и боярскими подданными?» – стал обличительным для задававших его.
Святейший не уточнил, каким образом архиерей должен поучать свою паству – письменными и иными трудами или словесными поучениями. В совершенстве владея даром слова, Патриарх являл собой примеры трудолюбия и смирения. Очевидец писал: «…Святейший Патриарх начат окрест монастыря пруды копати и рыбы плода деля сажати, и мелницы устроив и всякия овощныя сады насаждая, такожде з братиею лес секуще и поля к сеянию разширяше, из болота же рвы копающе сенокошение устрояюще и сено гребуще, везде же всякия труды труждаяся сам собою; во всем образ показуя братиям…»1649.
Митрополит Антоний Храповицкий почтил память Святейшего Патриарха Никона такими словами: «Гений этого великого человека заключался в том, что он глубоко проникал в народную душу, в сокровеннейшие ее тайники, он сливался с народом»1650.
Суть нравственного урока, преподанного Святителем в XVII в., была усвоена в Европе давно – еще в середине XIX в.1651, Россия же начала осознавать этот урок в XX в., а к полному осознанию подходит лишь теперь – в веке XXI. Лучше всего сказал об этом протоиерей Сергий Булгаков: «…история не только не стоит уже перед раздирающим концом, но еще внутренно не окончена, а потому и история Церкви еще имеет перед собой новое, нераскрытое будущее и перед лицом этого будущего уместно думать, может быть, не о конце, но скорее о начале истории. Конечно, никому не дано знать времена и сроки, когда Господь придет … и неизвестность времени конца истории не отменяет необходимости и обязанности жить, – ответственно и сознательно. Историю нужно прожить и изжить, а не то что кое-как окончить, пройдя через нее, как через мрачный пустой коридор в Царствие Небесное»1652.
Обращаясь к современному обществу, английский мыслитель К. Г. Доусон напомнил: «Религия – это ключ к истории. Мы не сможем понять внутренней формы общества, пока не поймем его религию. Мы не сможем понять его культурные достижения, пока не поймем религиозные верования, стоящие за ними. Во все века первые творческие произведения культуры обязаны своим происхождением религиозному вдохновению и посвящены религиозной цели»1653.
Неудивительно, что затерянный в северных просторах России, заросший кустарником и камышом микроскопический в планетарном масштабе рукотворный островок Патриарха Никона (по сути своей он четвертый, где Святитель утвердил Крест Господень; три монастыря, построенные Святейшим на островах, воздают честь Пресвятой Троице1654, раскрывая полноту четвероевангелия…) становится своеобразным камнем преткновения для многих пытающихся понять Россию в ее культурном и историческом наследии, утвержденном на кафолично-экклезиологических началах.
Св. Ириней Лионский находил особый символический смысл в четверичном числе Евангелий: «Так как четыре страны света, в котором мы живем, и так как Церковь рассеяна по всей земле, и свое утверждение имеет в Евангелии, то надлежало ей иметь четыре столпа, отовсюду веющих нетлением и оживляющих человеческий род. Все устрояющее Слово, восседающее на херувимах, дало нам Евангелие в четырех видах, но проникнутое одним духом»1655.
Согласно православной традиции слова Святителя Иринея помещаются в предисловии к богослужебному Евангелию. В послесловии к русскому изданию 1636 г. его мысль была развита от имени главы Русского государства: «Повеле Царь Иоанн Васильевич напечатати сию Боговдухновенную книгу Тетроевангелие, сиречь четвероблаговестие Матфея, Марка, Луки, Иоанна; благовестие же глаголется, зане вестить на вещи благи и добры…»1656.
Патриарх Никон, читавший буквально от доски до доски богослужебные книги, это не только знал, но своим феноменальным аналитическим умом оживотворял. Он жил и действовал не по букве только, но по Духу, – он живил букву: умудренный разумом тысячелетий Святейший творил «неформальный» поступок – среди озера строил остров. Это было продолжение, осуществление его проповеди, возвещенной и отлитой еще в 1658 г. на Воскресенском колоколе в монастыре Нового Иерусалима: «Четыре же Евангелиста, четыре столпи миру, и четыре добродетели от Евангелия научаемся: мужеству, мудрости, целомудрию, правде. Ибо четыре части миру суть: восток, запад, север и полудние, и четверочастно круг лету венчается: весною, летом, осению, и зимою, и четверочастно земля состоится: Европою, Асиею, Америкою, Африкою»1657.
Как христианин, родившийся в крестьянском звании, Патриарх Никон, безусловно, размышлял над словами преподобного Макария Великого: «Познай, человек, свое благородство и достоинство …, а именно, что призван ты в царское достоинство, что ты – “род избран и язык свят (1Пет.2:9). Тайна христианства необычайна и для мира сего”»1658. В следующем, восьмом слове преподобный продолжил: «…чтобы именно тогда, когда начнет [действовать] в нем (человеке. – О. Б.), благодать, он возымел труд, жажду и алчбу, не насыщался и не думал, что он праведник или богат благодатью, но рыдал и плакал»1659.
Вследствие всего указанного необходимо сделать вывод: четвертый остров – это завершенная картина из Откровения св. апостола и евангелиста Иоанна Богослова: «четыре ангела, стоящие на четырех углах земли, держащие четыре ветра земли» (Откр.7:1) есть образ «спокойного исторического развития христианского мира» – по существу, образ христианства; подобно этому и «четвероугольник» небесного града Иерусалима (Откр.21:16) указывает на совершенство, устойчивость и постоянство1660.
Созданием острова и водружением на нем Креста был завершен диалог властей: «…иные пределы царской власти, и иные пределы священства»1661.
Важным аргументом в пользу устроения острова следует считать необычайное природного видение, описанное Святейшим Патриархом в «Слове благополезном о создании монастыря Пресвятыя Богородицы Иверския…»: «Ониже (паломники Симеон, Иоанн и Феодор. – О. Б.) … возревше ко святей обители, видеша над святою тою обителиею четыре столпа огненныя: и един от них велик зело огнен, тии же три менши. Мужие же тии видевше странное и страшное то видение на мног час, постоявше паки пути касахуся; бе же шествия того до святаго места яко пять поприщ или боле. И дóндеже им грядущим, столпи же тии паки невидими быша. Мы же слышавше и о сих немало подивихомся благодаривше Бога и святыя щедроты Его на всех делех Его: близ Господь всем призывающим Его, воистину волю боящихся Его сотворит, и молитву их услышит»1662.
Таким образом, необыкновенное духовное мышление, где дивное и чудное у Патриарха Никона сплетается, сплавляется с его могучей волей, жертвенностью, чтобы возвести молитву о спасении человечества. Только так Патриарх Никон смог утвердительно повторить вслед за святителем Иоанном Златоустом: «Царю вверены тела, а священнику – души; царь прощает недоимки денежные, а священник – недоимки греховные; тот заставляет, этот убеждает; тот действует повелением, этот советом; тот имеет оружие чувственное, этот – оружие духовное… Последняя власть больше…»1663.
Потом будут допросы, уничтожение крестов, поставленных ссыльным печальником за землю Русскую, но остров, созданный Святейшим Патриархом Никоном, навсегда останется заветом спасения.
Во время гонений святитель Иоанн Златоуст поведал своим ученикам: «Велики волны, свирепо волнение, но мы не боимся потопления, ибо стоим на скале. Пусть пенится и ярится море, но оно не может сокрушить скалы. Пусть вздымаются волны, но Иисусова корабля они не смогут потопить»1664.
Итак, деяния Святейшего Патриарха Никона следует видеть во всей полноте Евангельского и святоотеческого учения, как единое с ними и неотделимое от них. И островок на Бородавском озере близ Кириллова монастыря с водруженным крестом есть Корабль Божественный, а ранее возведенные обители на островах есть Флотилия Спасительная. И земля, просвещаемая святыми монастырями, есть также Корабль по именованию «Русь Святая»1665.
Святейший Патриарх прозревал будущее и действовал, вразумляемый Духом любви: разрешал от грехов, врачевал, постригал, благословлял и оказывал помощь вступающим в брак, ибо видел будущее Отечества земного под сенью Спасительного Креста, а это, по его Слову о Животворящем Кресте, «есть бо кто, уповая на силу Святаго Животворящаго креста, творит милостыню, да благословит Бог дело его: и Бог благословляет дело его. Другий творит милостыню, да спасется корабль его: и Бог спасает корабль его… Той бо Честный и Животворящий Крест вселенныя слава и радование, благочестивых царей непобедимое оружие, безсильных сила, благочестивых людей победа и укрепление, доброчестивых воинов дерзновение, путешественников спутник, обуреваемых победа, бедствующих избавление, Трижелаемый и Причестный, плавающих наставление, обуреваемых тишина, монахов сила, мирских хранило, мучеников похвала, постников радование, апостолов проповедание, пророков пророчество, учителей помощь…». Эти светлые, исполненные духовной мудрости строки, написанные бывшим мордовским крестьянином, Святейшим архиепископом великого града Москвы и всей Великой и Малой и Белой России и всех северных стран и поморья и многих государств Патриархом Никоном, станут заветом для сохранения дара жизни.
Нам же, российским людям третьего тысячелетия, – достойно внимать Святейшему Патриарху Никону: «Прочитающии же сие наше общее предложенное всем писание: здравствуйте»1666!
Воплощенное богословие Патриарха Никона: митра-корона. (Тодорова М. А.)
Среди драгоценного изразцового убранства Воскресенского собора монастыря Нового Иерусалима находится обращающий на себя внимание один сюжет, понуждающий к глубокому размышлению.
Это – изображения митры-короны в трех композициях: митра-корона с колосьями и виноградом среди сияющих облаков и почивающих на них херувимов; митра-корона в окружении ангельских крыльев среди облаков с сиянием; митра-корона на колонках иконостасов, венчающая некую завесу с изображением сердца (по толкованию Г. М. Зеленской)1667.
Что это за сюжет? Прежде всего рассмотрим саму митру. Внизу, в основании ее, находится венец, над ним зубцы – их пять (в композициях на столбиках иконостасов корона имеет три зубца, это несколько иной, сокращенный извод того же изображения). Центральный и два боковых зубца – крупные, пышно украшенные, напоминают трилистник. Промежуточные зубцы – поменьше, простой заостренной формы. Над венцом с зубцами полусфера. На верху ее установлен крест, освящающий всю композицию венца. Такие короны – излюбленный геральдический и орнаментальный мотив. Венец с пятью зубцами (без верхней части) часто встретишь на средневековых тканях среди растительных узоров. Эти драгоценные ткани привозились в Россию из Европы1668. Особой роскошью отличались венецианские тяжелые парчовые ткани с крупным орнаментальным раппортом.
Туда, в Европу, обратим мы свой взгляд в поисках аналогий для наших изразцов. И что же? Вот герб города Амстердама. Он тоже европейский гость, но прибыл к нам не на тканях, а вместе с бумагой. Бумагу свою в то время в России не производили, а импортировали из-за границы. На листах бумаги во время отливки ставились водяные знаки – филиграни. Это были «фирменные знаки» – символы производителей. Иногда обозначались и имена владельцев бумажных мельниц1669. Герб города Амстердама – распространенный водяной знак второй половины XVII в.1670 И здесь мы снова увидим нашу митру. Венчает композицию герба императорская корона, точь-в-точь митра с изразцов монастыря Нового Иерусалима.
Корона на гербе – не некий отвлеченный образ. Это корона Великой Римской империи. Она имеет устойчивую иконографию, свой геральдический канон. Значит, и митра с изразцов – тоже императорская корона? Такое подобие не могло быть случайностью. Не в характере Патриарха Никона делать непродуманные изображения, да еще такие важные, на видных местах собора. Известна требовательность, дотошность Святейшего Владыки во всем: и в быту, и в творчестве, и в церковной деятельности. Что бы он ни делал, чем бы ни занимался, всюду вникал во все подробности и тонкости дела. И если таков он был в вещах бытовых, второстепенных, то тем более взыскательно относился Патриарх к делам священным. Создавая великий собор Святого Гроба Господня и Его Воскресения, не мог он допустить случайности или неточности в декоре храма. Напротив, изображения митры находятся на видных, значимых местах. Первые два сюжета, где изображена корона с пятью зубцами, помещались на архивольтах1671 арок порталов придельных церквей: митра-корона с колосьями и виноградом – на порталах церквей во имя Усекновения главы Иоанна Предтечи и Успения Богородицы; митра-корона с ангельскими крыльями – на портале придела во имя архангела Михаила. Третий сюжет с митрой-короной над неким сердцем видим мы на столбиках второго яруса изразцовых иконостасов. Все места расположения изразцов с митрами, действительно, священны и значимы, и, следовательно, такая иконография выбрана Патриархом преднамеренно. Удивительно, но на изразцах изображены реально существовавшие митры, точнее, митры-короны. Эти митры принадлежали Святейшему Никону и были созданы во время его патриаршества. К несчастью, варварство и алчность революционеров-грабителей лишило нас многих шедевров церковного искусства.
В 1918 г., во время разграбления патриаршей ризницы в Кремле, митры погибли. И мы можем представить их себе лишь по описаниям историка И. М. Снегирева и прекрасным рисункам художника Ф. Г. Солнцева. Изображения, созданные Солнцевым, столь точно и скрупулезно передают эти митры, что, рассматривая их, словно бы видишь самый реальный предмет объемно и со всех сторон. Ни одна фотография не смогла бы дать такую полную информацию об изучаемом предмете. Тем более ценны для нас солнцевские рисунки, что подлинники утрачены, и только «Древности Российского государства...» сохраняют для нас их образ.
Итак, обратимся к альбомам «Древности Российского государства...»1672. Перед нами одна за другой предстают пять митр Святейшего Патриарха Никона. Глядя на них, прежде всего изумляешься великолепию сих священных предметов. Это роскошные, драгоценные и по изысканности исполнения, и по благородству материалов архиерейские венцы, драгоценные и по стоимости своей. По золотой основе рассыпаны жемчуга, самоцветные камни, алмазы, эмалевые и сканные украшения. Все средства искусства, все мастерство и наилучшие материалы, кажется, собраны здесь, чтобы почтить, украсить царственное священство, живую икону Христову – Патриарха в Божественной службе. Это те лучшие произведения рук человеческих, что приносятся Богу как жертва, Его достойная, как выражение любви нашей к Нему. Среди этих великолепных патриарших венцов несколько выделяются необычностью своего убранства и названия. Их именовали коронами, и, действительно, имели они корону из 12 зубцов над венцом в основании. Короны украшали главу Патриарха на праздничных торжественных богослужениях и соответствовали определенному комплексу облачений, чаще всего так называемому греческому. Пат риарх облачался в красный греческий саккос или кружчатый красный1673 (по определению Вишневской)3 «Коломенский» саккос. Иконографически эти реально существовавшие короны соответствуют священно-римской императорской короне и митре с изразцов Ново-Иерусалимского собора.
Что же это? Патриаршая митра с короной императорской сходна? Обратимся к самому Патриарху за разъяснениями, не приоткроет ли он нам свой замысел. В «Возражении или Разорении ... против вопросов боярина Симеона Стрешнева...»1674. Владыка Никон несколько раз касается интересующего нас вопроса. Он много размышляет о символике архиерейских облачений, дабы через нее раскрыть учение о священстве; особенно направляет он свое внимание на служение первосвященника.
Многие исследователи обращаются к Патриарху Никону, многие пишут о нем, но часто наши специалисты не придают должного значения тому, что этот великий исторический деятель, государственный, политический, культурный свершитель был прежде всего священником. Прежде и более всего Никон – архиерей! Он живет, мыслит и смотрит на все через свое священство. Таков подлинный служитель Церкви, в нем личность и священный сан неразделимы. Они слиты в нем, взаимно проникая друг в друга. Меняется при сем и самая личность, ее самосознание, самоопределение. Настоящего священника всегда отличишь от мирянина, даже если не облачен он в «специальные» одежды. Тонкая, незримая, но могущественная сила необыкновенно изменяет человека, принявшего рукоположение. Источник ее – Святой престол, Святые таинства Тела и Крови Господней, совершение Богослужений.
Трудно, да и невозможно писать о таких вещах тому, кто сам не причастен священному чину. Но иногда «человек со стороны» более остро ощущает тонкие отличия, важные моменты именно потому, что сам занимает иное положение. Мирские да не судят священный чин – так настойчиво повторяет Патриарх Никон, – именно потому, что мирские не смогут понять по-настоящему тех, кто предстоит самому Страшному Огню, низводит Его своими руками и, проникаясь им, остается неопаляем. Живой Огонь, личный и очень реальный, с которым почти каждый день священник имеет общение, так сильно переплавляет человеческую личность, что она приобретает определенные характерные черты.
Непонимание сего приводит к печальным последствиям, в том числе и в нашем вопросе, когда Патриарха Никона рассматривают с каких угодно сторон, но упускают самое основное. Это глубочайшее непонимание является, на взгляд автора этих строк, причиной и корнем многих сомнительных выводов и несправедливых обвинений, возведенных на Патриарха Никона нашей исторической наукой.
Патриарх Никон – прежде всего священник. Священник от Бога, всем своим существом преданный этому служению, величайшему и труднейшему на земле. Свою жизнь, свой огромный талант, свои недюжинные силы он отдал священству, его осмыслению, его защите. Это нужно помнить нам всем, к несчастью, лишенным церковного воспитания и традиций. Тогда нам станет понятно то значение, что придавал он облачениям, богослужебной утвари, их символике. Священные одежды становились для Патриарха богословием в материале, овеществленным выражением учения о священстве.
В комплексе архиерейских богослужебных одежд митра имеет важное значение. Она возлагается на голову архиерея. Голова, лицо занимают верховное положение в телесном составе человека. Лицо, глаза выражают душу, по лицу судим мы о внутреннем состоянии человека, через черты лица видна бывает святость. По словам профессора А. Б. Зубова1675, специалиста по истории религий, голова уже с раннего палеолита считалась вместилищем человеческой личности. Голова, лик Господа и святых наиболее почитаемы на иконах. Нимб-венец изображает реальное сияние святости, открывавшееся просвещенным от Духа людям. Митра по сути своей имеет то же значение, что и нимб. «Венцом славы» называют ее святые отцы1676. В «Разорении» Патриарха Никона в 23-м вопросе читаем1677: «И венец имамы различный, иже славы, иже щедрот Божиих. Благослови, душе моя, Господа, венчающаго тя милостию и щедротами (Пс.102). И иже славы, славою и честию венчал еси его (Пс.8). И благоволения, яко оружием благоволения венчал еси нас. И иже благодати, венец бо благодати приимеши о твоей главе. Видел ли еси многолепную и благообразнейшую митру…».
Венец славы, венец благоволения, милости и щедрот Божиих, венец благодати – вот духовное значение патриарших митр. Их великолепие воплощает красоту и славу, которыми украшает Бог первосвященника своего. «Положил еси на главе его венец от камене честна» (Пс.20:4) – написано было на «греческой» златокованой короне Патриарха Никона1678. Золото как материал традиционно символизирует сияние Божественной благодати. Оно покрывает фоны и нимбы икон. Знаменательно и то, что в древности «фоны» священных изображений именовались светом. Святые пребывают во свете, сияние окружает их головы. В этом смысле митра есть выражение святости сана, а на изразцах Нового Иерусалима она обозначает собой самого первосвященника.
Итак, венец славы. Но почему же тогда сей священный венец так сходен с императорской короной по своей иконографии? Объяснение находим в возражении на 24-й вопрос. Паисий Лигарид обвиняет Патриарха Никона в гордости и неблагодарности Царю за то, что «тишайший государь наш и всещастливый Царь вручил Никону, чтобы досматривал всяких судеб церковных. И се есть что подарил его всеми привилеи, которые велми почитаючи Константин Великий Папу Римсково Силивестра, вручил ему, Папе. Тако же и Никону на писме подал многие привилеи Государь Царь»1679. Таким образом, Паисий Лигарид в своих обвинениях затрагивает знаменитый документ – «Константинов дар». Документ появился примерно в VIII в., во времена иконоборчества, в римских папских канцеляриях1680. Патриарх Никон в подлинности «Дара» не сомневался1681.
Святейший Владыка, возмущенный самой постановкой вопроса, унижающей священство, дает подробный ответ своим обвинителям. При сем он приводит текст «Константинова дара» и дает свое толкование. Сам документ есть благодарственная грамота Императора Константина Папе Сильвестру, дарующая римскому первосвященнику многочисленные «привилеи». Император, получивший исцеление от тяжкого недуга («еже от проказы моего телесе») после принятия христианской веры и крещения, благодарит Бога за свое спасение. Благодарение он выражает через поднесение первосвященнику, просветившему его святой верой, царственных даров, или привилегий. Дары римскому первосвященнику относятся и ко всей Церкви, и к его преемникам. «Видели, совопросниче, завещание святыя оныя царские души, како почте не единого Сильвестра Папу, но и по нем преемников присных речет быти нам к Богу отцем и ходатаем», – отмечает Патриарх Никон. Здесь не возвеличивается отдельная личность. Император желает почтить всю Церковь и через нее самого Бога, исцелившего его духовно и физически. Хотя в документе имеются характерные для западной церкви идеи, в восприятии Патриарха Никона они сглаживаются. Важным становится само почитание Церкви императором, в котором Никон видит образец истинно христианского царя. Еще до своего ухода из Москвы, будучи на патриаршестве, он часто проводил параллель между Алексеем Михайловичем и Царем Константином. В своих программных наставлениях Патриарх указывал Царю путь и образ, которым должен он следовать. Как первый христианский император почитал Церковь и содействовал ее славе и укреплению, так должен почитать ее Царь державы Московской. Почитать и покоряться духовной власти, не подчиняя ее себе и не пытаясь ею распоряжаться, но, напротив, пребывать в послушании, являясь первым из духовных сынов ее. И тогда, по благословению Божию, будет процветать и его царство.
Как зримое воплощение этих идей достаточно вспомнить иконы-парсуны, помещавшиеся на Голгофе подле Креста Господня в Воскресенском соборе Нового Иерусалима. На них изображены: вверху святой Царь Константин и святая Царица Елена, ниже Царь Алексей Михайлович и Царица Мария Ильинична, а внизу коленопреклоненный Патриарх Никон и стоящий у ног матери царевич Алексей1682.
Примером правильных отношений власти мирской и власти духовной является для Патриарха Никона «Константинов дар». Император, почитая Церковь в лице ее первосвятителя, преемника святых первоверховных апостолов Петра и Павла, желает воздать ей подобающую честь и славу. В «Разорении…» читаем: «Таже паки святая и блаженная душа глаголет: И якоже нашу на земли царьскую власть тако и его священную и святую церковь римскую уставихом чтити со благоговением и священнейшим его седалищем блаженнейшего апостола Петра паче нежели нашего царства. Наипаче бо земнаго престола преславнее превознести и воздати сему власть и славы достоинство, скорость же и господствование и силу и честь царскую». И чуть ниже: «Тамо да поработают Небесному Царю, идеже величеству и гордости земного царя поработаша власти»1683 – слова весьма знаменательные. Рим – столица языческой империи, где развит был культ императора, персона которого обожествлялась; этот Рим должен теперь «поработать Небесному Царю». «Величеством и гордостью земного царя» назван языческий культ императора, как неподобающее возвеличение светской власти. В Римской дохристианской империи царь совмещал в себе верховную светскую и первосвященническую власть, о чем говорят его титулы «принципс» и «понтифик»1684. Это совмещение характерно для многих древнейших культур. Теперь же император подчиняет себя подлинной духовной власти, открывшей ему и его царству истинного Бога.
Признание Царем над собой высшего авторитета власти церковной является основным требованием, основной идеей Патриарха Никона. Идея эта являлась глубинной причиной конфликта Патриарха с Царем Алексеем Михайловичем. Император Константин, служащий для Владыки примером подлинного православного императора, не только подчиняется и почитает Церковь и ее первосвятителя, но и отдает столицу своей империи Рим и все страны во владение и суд Папы. Сам же переселяется в новооснованную столицу Византий.
«Идеже бо святительская власть и христианского благочестия глава Небесным Царем уставлена бысть, недостойно есть тамо власть имети земному царю»1685.
Император перечисляет все поднесенные церкви «привилеи»: созданный им храм в Латеранской палате (имеется в виду знаменитая Латеранская базилика, возведенная в 313 г. на месте явления креста Императору Константину1686. Долгое время Латерана была местом пребывания Римского папского престола. Она стала «матерью» римских церквей); храм, возведенный во имя святых апостолов Петра и Павла, с драгоценными раками для их мощей; земли, дарованные церквам; освобождение церковных владений от вмешательства светских властей; одежды. Остановимся на последних, ибо здесь есть разрешение многих вопросов, в начале статьи обозначенных.
Вместе с прославленной в царстве Римском Латеранской палатой Константин Великий подносит Папе императорские одежды. «В благодарность за таинство крещения и исцеление наше Господу Богу, посетившему нас через апостолов Петра и Павла и их преемника, отца нашего Сильвестра, первосвятителя Римского, подносим:
первое – Латеранскую палату (базилику), прославленную, как и второй дар «…якоже диадима, еже есть венец главы нашея, подобне же и фригион, еже есть покрывало, еже митрою нарицают, и не токмо той, но и епомион, еже есть препоясание, еже обычно есть царьской мышце облагатися, рекше омофор, и еще же и багряная одежда и червленая риза и вся царьская одеяния, но и царьскаго председания достоинство и царьских коней утварение, и царския скипетры, и вся знамения, еще же и колесницы и различныя царьския утвари, и вся, еже в происхождение их, царьскаго верха, славы и силы»1687.
Поднесение императорских одежд для облачения на богослужениях есть выражение в действии и материале тех идей, что описаны были выше. Возвеличивая священнослужителей, царь земной смиряет свой сан и себя самого перед Царем Небесным. Это есть зримое воплощение того утверждения Патриарха Никона, что священство стоит выше царства, и потому ему подобает воздавать все возможные почести, а не земному владыке.
В приведенном отрывке кратко описывается сам царский венец, что преподносится первосвященнику. Он состоит из диадемы-короны, или венца и фригиона, или митры. Значит, головной убор двусоставен и включает в себя нижнюю часть – корону и верхнюю – митру. Это описание буквально соответствует тем венцам Патриарха Никона, что именовались коронами. Их можно было бы изобразить как традиционную митру, основанием своим вставленную в зубчатую корону. Или, пользуясь языком геральдики, иконографию Никоновых митр следует обозначить понятием «закрытая корона»1688.
Следует отметить еще одну деталь: вместе с венцом император передает багряную одежду и червленую ризу. Багряный, червленый, пурпурный – цвета царственные, подобающие носителю высшей власти. Патриарх Никон возлагал на себя митру-корону и облачался при сем в красные саккосы – «греческий» или «коломенский». Значит, корона соответствовала красному багряному облачению, что буквально воплощает слова «Константинова дара». Приведем еще одну цитату: «Узаконополагаем же и крайнему святителю, и всем его, иже по нем приемником, святителем, препоясанием и венцем иже от главы нашея подахом ему, златом чистейшим и каменми многоценными и драгим бисером составленный, должен есть одеватися и на главе носити на славу Божию и на честь блаженного Петра… Не восхоте же ль злата носити венец, мы же венец вместо сего лицем белейшим светлое Воскресение Господне назнаменавше, на священнейшую его главу своими руками положихом и бразды коня его своими руками держаще, чести ради блаженнаго Петра, конюшеским саном ему себе дахом»1689.
Важно то, что почти все митры Патриарха Никона поднесены были ему Царем и царским домом как знак любви и почитания. Это опять соответствует традиции «Константинова дара». Также при чтении этого места вспоминается обряд «шествия на осляти» в Вербное воскресение и подобный ему обряд, совершавшийся при поставлении Патриарха, когда первосвятитель объезжал Кремль «на осляти». Правда, коня под Патриархом вели бояре.
«И паче земного царства саном и славою и честию и силой ея [главу его] украшати подобает»1690.
Этой цитатой как основной мыслью завершим разбор-исследование «Константинова дара» в интерпретации Патриарха Никона. То, что церковные облачения имели своим прототипом облачения императорские, хорошо известно и стало часто встречаемым утверждением. «Митра первосвятителя имела своим прототипом императорский венец, которому изначально соответствовала по форме диадема с двумя перекрещивающимися на голове «лентами», увенчанными крестом», – читаем мы о митре Паисия Иерусалимского в статье В. Г. Ченцовой1691. Но это иконографическое соответствие не является ни подражанием, ни копированием прославленного образца, унижающим священство. Напротив, царская власть, желая почтить власть духовную, подносит первосвященнику те дары, что наиболее соответствуют высоте и значению его служения. Регалии, прославленные среди людей, пользующиеся традиционно особым почитанием и полагающиеся лишь носителям высшей власти, смиренно даруются первосвятителям, как обладающим подлинно верховной властью. Это означает признание царями служителей Божественных таинств выше себя. Те, кто так непосредственно близко соработают Небесному Владыке, кто своими руками и молитвою низводит Святого Духа, кто подает Божественное благословение, кто венчает царей на царство, для верующего правителя стоят неизмеримо выше его земного сана и его самого.
Вот о чем постоянно говорил и писал Патриарх Никон. Если Царь Алексей Михайлович называет себя православным царем, государем христианского царства, заботящимся о святости вверенной ему от Бога державы Московской, то он обязан соблюдать иерархию властей, то есть почитать власть духовную и не превышать тех полномочий, что относятся к его сану. Нарушение гармонии и правильности соотношения властей ведет к трагическим последствиям и в конечном итоге к разрушению самого государства. Эти положения настойчиво проводил в жизнь Патриарх Никон. Они пронизывают всю его деятельность, его творчество. И, конечно, идеи эти воплощены в великолепных венцах, украшавших главу Первосвятителя Московского на богослужениях. Митра-корона, созданная по образу короны императорской, есть наилучшее, зримое выражение вышеизложенного учения.
Интересно и то, что в свою очередь венцы царские ведут свое происхождение от головного убора первосвященника. По словам Ю. В. Арсеньева1692, специалиста по геральдике, «с древнейших времен корона служила признаком священного сана и состояла из венца (обруча) или диадемы, сделанных из драгоценного металла, которые носили в виде головного убора первосвященники. Подражая им, и цари древности носили короны, соединяя в своем лице нередко и духовную, и светскую власть». Здесь автор ссылается на Ветхий Завет, на облачения первосвященника, гораздо ранее появившиеся. Царская власть в древнем народе Божием установлена позже, верховным правителем Израиля считался сам Бог. Теперь же император, подавая первосвященнику новозаветному венец, возвращает то, что по праву должно принадлежать сану духовному.
Совмещение власти духовной и светской в лице царя означало его отеческую ответственность за управляемый народ во всех сферах жизни. Религиозная сфера для древних народов являлась основной, что так ярко показал профессор А. Б. Зубов в своей книге по истории религий.
В этом контексте возложение Римским императором своего венца на голову первосвященника должно означать перенесение акцентов. Патриарх-первосвятитель является духовным отцом своего народа, заботящимся о его спасении, несущим за него всю полноту ответственности перед Богом. Это составляет первейшую обязанность его сана, его служения, что и выражает царский венец, ставший патриаршей митрой.
Рассмотрим теперь собственно форму короны. За толкованием обратимся снова к «Возражению или Разорению…» Патриарха Никона: корона царская «знаменует якобы венец с неким облаком над головою, иже имать четыре лилей или цветы во образ того, яко Царь кроткий изрядный богобоязливый имать быти, такожде и иные люди, яже суть от четырех стихий, благостройне водити имать. Такожде имать быти покорный, милосердый на добрыя, милостивый и негневливый, яко лилия между цветы есть. На том венце есть крест во знаменование, яко да памятствует, еже есть на царство венчан над всеми людьми, их же сын Божий на кресте искупил»1693.
Какой же венец здесь описан? Если вспомнить царские шапки московских государей, то они явным образом под это описание не подходят. Шапки эти имеют своим первообразом «Мономахов венец», которым венчались на царство все русские государи. А у Патриарха Никона в «Возражении или Разорении…» речь идет скорее о короне западноевропейской, причем не древней, открытой, состоявшей лишь из обруча с зубцами, а более поздней, современной самому Владыке. Это корона, именуемая в геральдике закрытой, состоит из обруча с восемью зубцами и верха, образованного перекрещивающимися дугами1694. Четыре лилии в описании соответствуют четырем главным зубцам над венцом короны, пышно украшенным, имеющим форму трилистника. Трилистник, изначальным прообразом которого был лист сельдерея1695, Патриарх трактует по-разному. В «Разорении…» это лилия, образ кротости, милосердия. На одной из его корон также встречаем зубцы в виде лилий. Мы говорим о «греческой» короне, присланной Патриарху с востока. Над венцом ее расположено двенадцать зубцов, формой своей повторяющих рисунок геральдической лилии.
Но самая выдающаяся интерпретация трилистника находится среди ново-иерусалимских изразцов. Это изразцы первой композиции, где митра-корона изображена с литургическими символами – колосьями и виноградом. Здесь трилистник на ее главных зубцах трактуется как лист винограда. Он становится уже литургическим символом. В боковые зубцы короны вписаны виноградные грозди. Они словно вырастают из этих зубцов-листьев. Так Патриарх Никон переосмысляет европейскую императорскую корону, превращая традиционный западный геральдический образ в православную митру и литургический символ.
Да, действительно, и на изразцах Воскресенского собора Нового Иерусалима, и в реальных коронах-митрах Святейшего Патриарха, и в тексте «Разорения…» видим мы один устойчивый прототип. Тот же, что и на гербе Амстердама, водяном знаке с бумаги, привозившейся в Россию в XVII в. Это корона Священной Римской империи, причем не реальный предмет, а скорее его геральдическое изображение. Видимо, сей символ воспринимался Святейшим Владыкой как венец Римского императора, что возложил святой Царь Константин на главу Папы Сильвестра. Теперь, после подробного изучения трактовки «Константинова дара» в сочинении создателя Нового Иерусалима, становится понятным присутствие европейской императорской короны на изразцах в декоре собора. Здесь она уже не царский венец, но корона первосвященника, образ его славы; не земного могущества, а Божественной благодати, небесного света, сходящего на главу служителя Царя истинного – Бога. Корона как знак высшей власти венчает того, кто имеет власть призывать Святого Духа, прилагать хлеб и вино в Тело и Кровь Господню, кто может «вязать и решать» грехи людей. Архиерей есть образ, живая икона Христова, и потому корона несет двоякое значение – это и митра первосвященника, и символ Христа как Царя царей. В этом контексте осмысляется корона на ново-иерусалимских изразцах; Патриарх обращает знак высшей мирской власти в действительно священный предмет.
Внимательно посмотрим еще раз на солнцевские изображения патриарших митр. Здесь важна не только форма, но и количество зубцов. Зубцы короны, символизирующие сияние, славу, у Патриарха соотносятся с двенадцатью апостолами. А на большой короне этот образ приобретает законченную наглядность. Здесь в коронки вписаны ростовые иконы Христа и двенадцати апостолов. Центральный зубец с образом Христовым расположен над челом первосвященника. Интересно символическое соотнесение этого зубца с изображением на центральном зубце митры, что венчает главу Владыки на знаменитой парсуне из Нового Иерусалима1696. Там, над челом его, в зубце короны, помещается держава – царское яблоко, выложенное рубинами. Это ясное указание на то, Кто является истинным царем новозаветного народа Божия, в Чьих руках должна находиться держава, образ власти над миром, на вершине которого установлен символ Его победы. Христос как Царь и первосвященник и двенадцать апостолов – вот подлинный венец славы, что украшает новозаветное священство. Именно во Христе как в Боге слияние власти царской и первосвященнической естественно и гармонично, ибо нет в нем никакого греха и несовершенства. Но как Творец мира и Искупитель его, Он один может быть в полноте и Царем, и первосвященником. Таким образом, только во Христе и Его Царстве снимается то противоречие, то напряжение, что существует в нашем мире между властями духовной и светской.
Завершая эту работу, хочется сказать несколько слов и о других элементах изразцов из Нового Иерусалима. Эти замечания относятся к изразцам архивольтов порталов придельных церквей. Композиция их рисунков может быть названа геральдической и напоминает собою герб или орнамент на тканях. Она символична и написана языком образного богословия. Оба сюжета имеют митру-корону своим центром, она наложена на символическое изображение: в первом случае это колосья и виноград, во втором – ангельские крылья. Схема расположения этих элементов композиций одинакова в обоих случаях. Линии элементов, как на узорах тканей, как бы несут на себе корону, проходят через нее. Колосья белого цвета изображены спелыми, готовыми к жатве. Хлеб и вино – колос и вино град – вещество Таинства Евхаристии. Митра в окружении литургических символов есть образ архиерейской власти в основной, наивысшей области ее служения. Это власть прелагать хлеб и вино в Тело и Кровь Господню. Весь изразец можно прочесть как образ первосвященника, совершителя Литургии.
Вторая композиция, состоящая из митры и ангельских крыльев, встречается на портале церкви во имя предводителя небесных воинств – архангела Михаила. Она отражает слова, что «престол священства на небесах».
Таковы основные идеи, нашедшие воплощение в прекрасных творениях Патриарха Никона, архиерея, богослова и художника.
Домашний быт Патриарха Никона в Богоявленской пустыни (реконструкция по материалам реставрационных работ). (Горячева М. Ю.)
Каждый этап существования здания можно рассматривать только сквозь призму жизни его владельцев. И тогда здание начинает открывать самое потаенное, скрываемое годами и даже столетиями от чужих глаз, – проявлять жизнь его обитателей. Так же и Богоявленская пустынь1697, построенная Святейшим Патриархом Никоном на берегу Истры (Иордана) около Воскресенского монастыря Нового Иерусалима, открывает для современников обыденную жизнь Патриарха.
Неслучайно посещения Воскресенского монастыря представителями царской семьи начинались с Богоявленской пустыни, или скита1698. В 1837 г. цесаревич Александр Николаевич посетил Воскресенскую обитель. «Его Высочеству угодно был идти сперва в Никонов скит, чтобы ознакомиться там с оригинальным характером человека, которому пришло на мысль создать в своем отечестве свой Иерусалим»1699.
История создания Воскресенского монастыря Нового Иерусалима, задуманного и воплощенного как подобие христианских святынь Палестины и во образ Града Небесного1700, начинается с покупки Патриархом Никоном в 1656 г. у стольника Романа Бобарыкина села Воскресенского, что была деревня Сафатово, с тремя деревнями и пустошами в вотчину Иверского Валдайского монастыря1701. По замыслу, все окрестности монастыря получили названия в соответствии с палестинскими прообразами. Посетив Воскресенский монастырь в октябре 1657 г., Царь Алексей Михайлович, «…взойдя на взгорье, находящееся к востоку от монастыря, называемое ныне Елеон… в душевном восторге воскликнул: “Воистину благоволи Бог исперва место сие предуготовати на создание монастыря; понеже прекрасно, подобно Иерусалиму”»1702.
Монастырь был заложен на холме, названном Сионским. Река Истра, петлей огибающая монастырь, была переименована в Иордан. На берегу Иордана, у места, символизирующего место крещения Спасителя, Патриархом была возведена отходная Богоявленская пустынь, в которую он удалялся во время постов. По свидетельству клирика Патриарха Ивана Шушерина, «по все же посты во отходную свою пустынь отхождаше, и тамо жесточайшее житие живяше, всесущие молитвы и поклоны в пост прилагаше, сне же всегда вельми мало требоваше, яко во нощеденствие точию три часа»1703.
Зимой 1658 г. в монастырь привозят белый камень от разобранного в Старице собора XVI в. во имя Михаила Архангела1704, который затем будет использован при устройстве фундаментов и цоколей монастырских построек1705. И уже через несколько месяцев, весной, начинаются работы по устройству отходной Богоявленской пустыни, по всей видимости, одновременно с началом работ по Воскресенскому собору монастыря.1706
При строительстве Воскресенского собора Патриархом Никоном наряду с моделью Иерусалимского храма Гроба Господня, привезенной Арсением Сухановым, использовался им же составленный во время путешествия на Восток «Проскинитарий»; в путеводителях по музею «Новый Иерусалим» 20-х гг. XX в. также упоминаются хранившиеся в музее модели Вифлеемского храма Рождества Христова и скита1707. До настоящего времени модель скита не сохранилась, не установлено и время ее изготовления. Но в комментариях к модели сказано, что скит построен по плану восточных жилых башен.
Сравнение архитектурного облика пустыни с восточными постройками прослеживается во всех описаниях монастыря XVIII–XIX вв. К одному из первых сравнений относится описание пустыни архимандрита Аполлоса: «…начинал Патриарх каменное строение, и прежде всего устроил себе отшельную пустынь недалеко от монастыря, на подобие имеющихся в Афонской горе у пустынных отцов пиргов, то есть каменный столп…»1708. Однако исследователи архитектуры XIX и первой половины ХХ в. склонялись к тому, что пустынь построена в псковско-новгородском стиле1709. Это мнение подтверждается исследованиями памятника, проведенными в 80-х гг. XX в.1710, и сравнительным анализом архитектурного облика пустыни и сохранившихся построек XVII в. в Новгороде.
Небольшое по размерам здание имеет сложную историю строительства. По всей видимости, Патриарх Никон строил пустынь по своему собственному (византийско-русский иконографический образ) замыслу, меняя в ходе работ принятые решения. Изменения первоначальных решений прослеживаются и в Воскресенском соборе монастыря. При натурных исследованиях выявлены участки, в основном откосы проемов, по которым видно, как в ходе строительства менялись форма и габариты того или иного проема. Это в какой-то мере является подтверждением того, что автором как архитектурного замысла, так и решений при строительстве пустыни и собора, был сам Патриарх.
Исследователь русского зодчества М. А. Ильин считал, что автором пустыни был Аверкий Мокеев. По его предположению, именно в пустыни была освящена церковь Преображения Господня: «Государь Святейший Патриарх святил в Воскресенском монастыре церковь Преображену Спасова и после обедни до кушания жаловал … каменных дел подмастерья Аверкию за работу три рубля, да каменщиков 60 человек по полтине человеку что они с подмастерьем Аверкием поставили каменную церковь Преображения Господня»1711. Тем не менее данных о том, что в пустыни была освящена церковь Преображения, до настоящего времени выявлено не было.
У паломников в XVIII–XIX вв. не возникало сомнений в том, что зодчим пустыни был сам Святейший: «И пустынь сия, столь, по-видимому, малая, но не малое в себя вмещающая, и требовавшая немалого искусства и опыта в устроении подобных зданий, и пустынь эта долженствовала занять не менее тогда и делателя своего, как занимает она и теперь и удивляет всех посещающих ее»1712. На протяжении трех с лишним веков посещающие пустынь не перестают удивляться технической мысли ее создателя.
Научно-реставрационные работы по восстановлению скита Патриарха Никона, разграбленного после закрытия монастыря в 1919 г. и сильно пострадавшего во время Великой Отечественной войны, были начаты в 1975 г. архитектором Г. В. Алферовой, а с 1984 г. продолжены автором настоящей статьи. Детали всех архитектурных и конструктивных элементов, позволяющих реконструировать здание по состоянию на начало второй половины XVII в., с разной степенью сохранности имеются на памятнике в натуре1713.
В 1658 г. около монастыря на берегу Иордана на искусственно созданном острове Патриарх Никон построил небольшую кирпичную церковь, к которой с запада примыкали двухэтажные палаты. По церкви, освященной в честь Богоявления Господня, отходная пустынь «на острову» стала называться Богоявленской. Снаружи церковь и палаты были по тонкой штукатурке побелены известковым раствором. Церковь завершалась, по всей видимости, одной небольшой главкой с крестом над глухим барабаном. Декор фасадов был кирпичным, причем наличники были только у окон второго этажа палат. Церковь имела три дверных проема: по одному на северном и южном фасадах и один на западной внутренней стене, выходивший в палаты первого этажа. Над северным дверным проемом этот небольшой четырехстолпный храм имел также окно второго света. Полукруглая в плане алтарная апсида внутри разделялась на три полукружия, завершавшиеся конхами. О наличии тяблового иконостаса свидетельствуют заложенные в северной и южной стенах гнезда.
В 1985 г. при проведении реставрационных работ и закладки шурфа в центральной части апсиды был обнаружен подпрестольный камень, положенный при закладке Богоявленской церкви Патриархом Никоном. Этот «камень» состоит из трех белокаменных блоков, уложенных по форме буквы «Т». Местоположение камней (блоков) и характер их расположения полностью соответствует Чину на основание церкви, напечатанному в Требнике Петра Могилы, который был издан в Киево-Печерской Лавре в 1647 г. Видимо, именно этим Требником пользовался Патриарх Никон при закладке церквей Нового Иерусалима1714.
Полы в храме были выложены из кирпича плашмя в елочку. Храм не отапливался. При строительстве в верхние части стен были заложены керамические голосники для улучшения акустики. Согласно богослужебному монастырскому уставу1715, в Богоявленской пустыни постоянно служили священник и дьякон.
Палаты на первом этаже, кроме дверного проема в церковь, имели еще три двери – на восточном, западном и северном фасадах. Видимо, дверь восточного фасада считалась основной, так как около нее в стене было устроено маленькое смотровое окошко. На первом этаже располагались две кельи. Возможно, в них жили служащие в пустыни священник и дьякон. Кельи отапливались печью, «зеркала»1716 которой выходили в юго-западную и северо-западную палаты. Топилась печь из юго-западной палаты. Оба «зеркала» печи были облицованы терракотовыми изразцами с растительным орнаментом. Лицевая пластина изразцов была побелена известью с добавлением толченой слюды, что при свете свечей давало эффект легкого мерцания. П. П. Никольский, детально обследовавший и описавший пустынь в 1927 г., отмечал, что в юго-западной палате первого этажа сохранялась русская печь1717.
Кельи самого Патриарха располагались на втором этаже. С улицы к ним вела широкая парадная лестница с белокаменными ступенями. Также этажи соединяла небольшая внутренняя винтовая лестница. Юго-западная келья второго этажа, являвшаяся проходной, выполняла роль сеней. В нее выходило две двери: одна – из кельи Святейшего, другая – с открытой площадки над юго-восточным крыльцом. По всей видимости, на этой площадке могла быть устроена небольшая звонница. Келья Патриарха была устроена в северо-западной палате. В восточной стене палаты имеется оконный проем, выходящий в церковь. Находясь в своей келье, Патриарх Никон мог молиться, не спускаясь в церковь, в которой служили священник и дьякон. Как бы присутствуя в церкви, Патриарх мог молиться в уединении (келья с восточным окном являлась, по сути, повторением великокняжеских хор в храмах Великого Новгорода, откуда был избран на Патриарший престол Новгородский митрополит Никон).
Келья обогревалась печью, стоявшей в юго-восточном углу. Оба печных «зеркала» были облицованы муравлеными изразцами с растительным орнаментом и изображениями животных. В основном это были бегущие львы или диковинные животные, имеющие сходство со львами. Изображения животных размещались на карнизных изразцах и ножках печи. Плоская часть «зеркала» заполнена ковровым орнаментом. Несколько вытянутые шестигранные в плане изразцы установлены таким образом, что, соединяясь скошенными углами, они образуют подобие крестов, пространство между ветвей которых заполняют изразцы со стилизованными изображениями вазы с цветами, заключенной в восьмиугольную рамку. Изразцы данного печного набора носят условное название «иверские»1718. Печь не имела топки, а, являясь своего рода проводной трубой, нагревалась теплым воздухом, поступавшим из печи первого этажа. Через небольшое прямоугольное отверстие на уровне пола, обрамленное металлической рамкой и закрывавшееся заслонкой, теплый воздух из нижней печи поступал и в проходную келью. Полы в помещениях второго этажа были дощатыми.
Оконные рамы со слюдяным заполнением вставлялись в специально выложенные четверти на откосах оконных проемов и задвигались горизонтальным брусом, крепящимся в специально устроенных пазах или на металлических скобах, вбитых в стену. Снаружи окна закрывались коваными ставнями. Петля для крюка расположена в наружной четверти проема. Чтобы открыть или закрыть ставень, надо было вынуть закладной брус, снять раму и только после этого произвести нужное действие.
Дверные проемы наружных стен имели по две двери, навешенные на подставы. Наружные двери были кованые, внутренние – деревянные, столярного дела на шпонках. Деревянные двери были обиты сукном красного цвета. Небольшие кусочки сукна сохранились на элементах накладных замков и дверных ручек, обнаруженных во время проведения археологических раскопок в пустыни и на территории около нее. Надо отметить, что ни над одним проемом – как наружных, так и внутренних дверей – не было обнаружено киота для иконы. Нет киотов и над порталами церкви Богоявления и св. первоверховных апостолов Петра и Павла. В таком виде Богоявленская пустынь существовала в 1658 г.
10 июля 1658 г. в Москве, в соборной церкви, происходил следующий разговор, описанный в сказках духовных и мирских лиц, представленных на соборе 1660 г., об оставлении Патриархом Никоном Святительского престола1719: «И Патриарх болярину (Алексею Николаевичу Трубецкому. – М. Г.) сказал: “Бью де челом Великому Государю, чтоб Государь пожаловал велел мне жити в пустыни у Воскресенского монастыря”. И болярин Патриарху говорил, чтоб он Патриархом был по-прежнему и паствы своей Святительской не оставлял. И Патриарх молвил: “Патриархом де быть я не хочу, иду в пустыню”».
17 мая 1659 г. Патриарха посещает в пустыни думный дьяк Дементий Башмаков. «По указу Великого Государя Царя и Великого Князя Алексея Михайловича, всея великия и малыя и белыя России Самодержца, приехал я, Демка, в Воскресенский монастырь к Патриарху Никону мая в 17 день, а в то время Патриарх был в пустыни и по указу Великого Государя спрашивал его, Патриарха, о его спасении, а после того объявил ему, Патриарху, Великого Государя жалованье: присылку вина церковного, и муки пшеничной, и меду сырца, и рыбы… И после Божественной литургии пошел Патриарх из пустыни в большой монастырь. Перед ним шли дети боярские; у монастырских ворот по сторонам стояли стрельцы человек с десять, на монастыре встречал архимандрит с братиею»1720.
К осени 1659 г. в монастыре «начатого строения окончить было некем и нечем», да и сам Святейший собрался ехать в Крестный монастырь; «работы по Воскресенскому монастырю остановились»1721. Осенью 1660 г. Патриарх Никон возвращается из Иверского и Крестного монастырей в свою Воскресенскую обитель и скорее всего уже с весны 1661 г. начинаются работы по перестройке Богоявленской пустыни «на острову».
Разобрав кровли палат и завершение церкви Богоявления, Патриарх надстраивает пустынь третьим этажом.1722 На плоской кровле он устраивает гульбище, в центре которого в барабане главы размещает церковь во имя свв. апостолов Петра и Павла. О церкви Петра и Павла в монастырской описи 1875 г. существует следующая запись: «…устроена самим Святейшим Патриархом Никоном и освящена в 1662 году». И там же упоминается об антиминсе: «… на престоле святой антиминс полотняный в царствование Государя Царя и Великого Князя Алексея Михайловича всея великия и малыя и белыя России Самодержца, освящен (вероятно, самим Патриархом. – М. Г.) в 1662 году»1723.
Престол из нижнего упраздненного храма переносится в храм вновь устроенного третьего этажа. Алтарная апсида нижнего храма и простенки между столбами закладываются кирпичом. Также закладываются арочные проемы юго-восточного крыльца, в результате чего вместо крыльца появляется небольшая «палатка». Открытое гульбище над ней также превращается в палату, сохранившую в названии упоминание о том, что когда-то под ней было крыльцо («палата над крыльцом»). Также разбирается и парадное крыльцо у западного фасада.
Итак, к 1662 г., когда была освящена церковь Петра и Павла, строительство пустыни завершилось. Теперь это небольшое четырехэтажное здание. Окна первого этажа не имеют наличников. Кирпичные наличники окон второго этажа побелены. Оконные наличники третьего и четвертого этажей изразцовые. Междуэтажные и венчающие карнизы всех объемов здания также изразцовые. На венчающем карнизе основного объема чередуются заключенные в рамки изображения херувимов и розеток. На гранях барабана внутри и снаружи – изразцовые изображения херувимов, причем изображение каждого херувима составлено из пяти изразцов. В окна вставлены слюдяные оконницы, снаружи закрытые металлическими ставенками. На плоской кровле устроено гульбище, огороженное по краю кирпичным парапетом. Ходовое покрытие гульбища выполнено из дерева. «Черный» пол, уложенный под наклоном для стока попадающей под доски воды, выполнен из надгробных плит середины XVI в. Видимо, все они сняты с одного из окрестных кладбищ (такое кладбище, например, находилось в деревне Сафатово)1724. Плиты уложены беспорядочно, многие – надписями вниз. На большинстве из них пробиты бороздки для стока воды к водометам1725.
Таким образом, после перестройки здания помещения первого этажа приобретают хозяйственное назначение. Келейники Патриарха размещаются на втором этаже1726. В «палате над крыльцом» устанавливается небольшая прямоугольная в плане печь, облицованная муравлеными изразцами, аналогичными изразцам печи северо-западной палаты. Печь также не имеет топки и нагревается теплым воздухом нижней печи. В «палате над крыльцом» фрагментарно сохранились остатки росписи стен и свода. В распалубках хорошо просматриваются орнамент из системы кругов и зубчатое солнышко. Теперь Патриарх занимает весь третий этаж. К этому времени в монастыре уже довольно хорошо налажено изразцовое производство, полихромный изразцовый декор появляется и на фасадах патриаршей пустыни: келья Патриарха выделена на южном фасаде двойным изразцовым окном.
При входе на третий этаж устроена небольшая прихожая, в которую выходят топки двух печей и дверные проемы в приемную Святейшего и в трапезную церкви Богоявления. Небольшая палата, носящая название «приемная», расположена к югу от прихожей. Дверь на восточной стене соединяет ее с кельей Патриарха. Дверь на западной стене ведет в небольшую «палатку» – ретираду (уборную), к северной стене которой примыкает кирпичное сиденье с прорезанным в плоской верхней части «очком». Вертикальная шахта, над которой прорезано «очко», заканчивается на первом этаже приямком. От чулана на втором этаже шахта отделена кирпичной стенкой, за счет чего ширина чулана несколько меньше ширины ретирады. От приямка в западном направлении отходит белокаменная отводная труба. В этом приямке во время реставрационных работ были найдены осколки стеклянного штофа сложной формы XVII в., по всей видимости, принадлежавшего Святейшему1727. Вдоль всей южной стены прихожей под окном была установлена деревянная скамья.
В келье Патриарха вдоль южной и восточной стен также стояла большая деревянная резная скамья. На стенах до сих пор сохранились следы ее примыкания. По всей видимости, это была спальная скамья, заменявшая Святейшему Патриарху кровать1728. Эти скамьи еще сохранялись в 1927 г., когда их описывал П. П. Никольский: «…деревянные скамьи с фигурным бордюром, по нижнему краю передней части; по форме и орнаментации скамьи можно отнести ко второй половине XVII века»1729. Здесь же находился круглый липовый стол «на вертлюге», отмеченный во всех путеводителях по монастырю XIX в.1730. Также путеводителями упоминается портрет Патриарха Никона, висевший в простенке над окнами южной стены. Но, вероятнее всего, портрет относится к более позднему времени. Деревянные двери на шпонках были обиты сукном красного цвета. Под большие плоские жиковины1731 подкладывалась слюда. На кованых дверных ручках были изображения крестов и соболей1732.
Из кельи Патриарха дверной проем, обрамленный керамическим полихромным порталом, ведет в церковь Богоявления. Между кельей Патриарха и церковью Богоявления располагалась большая проемная изразцовая печь. В келью выходило печное «зеркало», облицованное полихромными пятицветными изразцами с растительным орнаментом. В основании печи были установлены большие изразцы с масками львов. «Зеркало», выходящее в церковь, изразцовой облицовки не имело. Оно было оштукатурено и по побелке расписано красками. Следы покраски до сих пор сохраняются на цокольной части печи.
Печь топилась из прихожей. Затоп печи, имеющий две заслонки, был устроен таким образом, что при закрытом топочном отверстии он мог использоваться как камин. В неработающем состоянии портал камина тоже закрывался заслонкой. Из прихожей топилась и большая подовая печь с лежанкой, которая находилась в трапезной. В облицовке печи был применен тот же печной набор, что и в келье Патриарха. В этой печи пекли просфоры. Дымоходы обеих печей были выведены в одну трубу.
Портал дверного проема, ведущего из трапезной в церковь Богоявления, так же как и портал в келье Святейшего, облицован полихромными изразцами. Церковь Богоявления – четырехстолпная, перекрыта системой крестовых сводов. В церкви был установлен небольшой иконостас. Согласно описи 1679 г. справа от царских врат находился образ Богоявления Господня, слева – образ Богородицы, сидящей на престоле. Деисус состоял из шести икон. На северной двери иконостаса размещался образ Благоразумного разбойника, на южной двери – образ архидиакона Стефана. Также в церкви находились следующие иконы: образ Казанской иконы Божией Матери, образ Пресвятые Богородицы с Иосифом Волоцким в молении, образ Зосимы и Савватия, Соловецких чудотворцев.
«Да в церкви два налоя, на налоях пелены камчатые лазоревые. Да в алтаре престол. На престоле Евангелие обложено бархатом зеленым …Спасов образ и Евангелисты серебряные басемные, позолочены, застежки литые. Крест деревянный греческой, резан на кипарисе. На престоле пелена, участок золотной по серебряной земле, окладины отласные зелены. Крест червчатого атласу, позлощен дорогами красными… На жертвеннике пелены бархатные Церковных служебных сосудов: потир серебряный литой в чекан, позолочен. Лжица и блюдечко маленькое серебряное ж. Антиминс на белом отласе печатной. Воздух да покровца объярь серебряная травчатая; в среднике на воздух и на покровцах нашит Спасов образ. Около воздуха опушка отлас червчатой, а около покровцев отлас зеленой, подложен дорогами, покровцы, червчатыми, а воздух желтыми. Над жертвенником образ Рождества Христова, оклад и венец басемные. Кадило медное. Блюдо оловянное. Два паникадила медных… мантия со источники, ветха, да стол круглый на вертлюге»1733, – такое описание сохранилось в музейном архиве.
Размеры церкви настолько малы, что белокаменные базы колонн специально подтесали, чтобы можно было открыть дьяконские двери иконостаса. В церкви висело два маленьких паникадила по восемь свечей.
Полы во всех помещениях третьего этажа были изразцовыми. В церкви Богоявления – из квадратных в плане плиток с поливой бирюзово-зеленого цвета. В остальных помещениях – из квадратных плиток также бирюзово-зеленого цвета, но меньших по размеру, чем в церкви, и плиток вытянутой шестигранной формы с коричневой поливой, имитирующей текстуру дерева1734. Плитки были уложены таким образом, что из четырех коричневых плиток составлялся рисунок креста. В апсиде церкви Богоявления пол был выложен надгробными белокаменными плитами.
На четвертом этаже винтовая лестница заканчивается своего рода лестничной башней, в ней устроена небольшая келья, которая в путеводителях XIX в. называется опочивальней. Полы в келье из бирюзово-зеленых изразцов несколько меньшего размера, чем в церкви Богоявления. Такого же бирюзово-зеленого цвета и изразцовая скамья, торцы которой упираются в ниши в южной и северной стенах. Сверху на скамье была положена тростниковая подстилка. Согласно монастырским путеводителям, Патриарх отдыхал в этой келье.
Портал церкви Петра и Павла, расположенной в барабане, облицован такими же полихромными изразцами, что и порталы церкви Богоявления. Полы в церкви из бирюзово-зеленых и коричневых изразцов, как и на третьем этаже пустыни. В церкви устроен высокий тябловый иконостас. Верхнее тябло и гнезда для тябел нижних ярусов сохранились до нашего времени. Перед иконостасом висело медное паникадило. Справа от царских врат находился образ свв. апостолов Петра и Павла, слева – образ Всемилостивого Спаса. Из отдельных икон описью 1679 г. упоминается только образ Пресвятой Богородицы.
Такой по материалам исследований представляется Отходная Богоявленская пустынь, реконструированная на 60-е гг. XVII в., когда в ней жил Святейший Патриарх Никон.
До 1666 г. Патриарх проводил в своей отходной Богоявленской пустыни установленные Церковью посты. Сохранились описания видений, бывших Патриарху в пустыни, и воспоминания посещавших пустынь современников Патриарха1735.
«Слыша смятение и молву большую о патриаршем престоле, удалился я 14 ноября в пустыню, вне монастыря, на молитву и пост, дабы известил Господь чему подобает быть; молился долго со слезами и не было мне откровения. Декабрь 13 дня уязвихомся любовию Божиею паче первыя и приложихом пред Господом Богом молитву к молитве, и слезы к слезам, и бдение к бдению, и пост к посту, и постихомся даже до 17 дня; начал поститься со вторника и постился до субботы, ничего не ел, даже и воды не пил, но хлеб заменил молитвою и питье слезами, не ложился спать, а только утомясь садился на час в сутки; но трудился и молился со слезами, доколь известит мне Господь Бог – что подобает сделать и что угодно его святой воле. От многого труда сел я в церкви на своем месте, и так как все четыре ночи и три дня я не отходил ко сну, то несколько воздремал…»1736, – так передает Н. Гиббенет рассказ Святейшего Патриарха о своих молитвах и посте в отходной пустыне.
Описание посещения пустыни имеется в дневнике голландца Николааса Витсена, посетившего Новый Иерусалим в мае 1665 г. Дневник был опубликован в 1966–1967 гг. в Гааге. Текст был приведен на староголландском языке. В России дневник издан в 1996 г. в переводе В. Г. Трисман1737. Литературный язык перевода вносит некоторые неточности в описания увиденного Витсеном (это можно проследить, сравнив приведенные ниже описания пустыни из дневников Витсена в переводе Трисман и из подстрочного перевода, выполненного в конце 90-х гг. XX в. специалистом по голландскому языку Е. А. Трофимовой с ксерокса гаагского издания).
Перевод В. Г. Трисман: «Затем он привел нас в свой скит, куда очень редко кто попадает. Это каменный домик, в нем 16 комнаток, среди них две молельни. Мы все осмотрели. У него там и комната для научных занятий; но кроме русских и славянских книг, других я не видел. Лестницы очень узкие, похоже на лабиринт. Наверху площадка с часовенкой, похожей на беседку. Снаружи она белая, на вид как садовый домик у нас. «Пустынь» (скит) Никона лежит на островке, окружена водой. По примеру Христа Никон уединяется здесь на … дней в году»1738.
10 марта 1716 г. Воскресенский монастырь Нового Иерусалима по дозволению Петра I посетил Брауншвейг-Люнебургский резидент Ф. Х. Вебер, который «много слышал об этом замечательном Никоне» и, как многие русские, считал его святым. Осмотрев достопримечательности монастыря, Вебер знакомит европейцев с увиденным так: «В этот монастырь стекается множество богомольцев, и он у них в большом уважении, потому что Патриарх Никон устроил его внутри по образцу Св. Гроба Иерусалимскаго, самым точным образом, сообразно его величине, укашению и всем вообще принадлежностям… Внутри (монастыря. – М. Г.), по стене кругом, расположены кельи для 80 иноков… Здание Святого Гроба и всего храма сооружено из высеченных четырехугольных камней, точно так же, как почти все другие монастыри в Москве, и точно так же, как в самом Иерусалиме. Он разделяется поверх земли, на земле и под землею на множество отделений, приделов, небольших часовен и галерей, из которых в каждой части свой алтарь, и этих алтарей я насчитал более 70… Я между прочим узнал, что в четверти мили от монастыря, Патриарх Никон прожил в одной пустыни целыя 20 лет; но что к месту этому зимой и по причине весьма глубокаго снегу, добраться мне было нельзя. Я много слышал об этом замечательном Никоне, и так как Русские чтут его весьма высоко, то мне крайне хотелось взглянуть на это уединенное место… Я нашел там весьма небольшую каменную часовню, окруженную несколькими деревьями и деревянным тыном… По чрезвычайно узкой, каменной, винтообразной лестнице, устроенной так, что в ней едва мог пройти один человек, я протеснился в верх и прежде всего вошел в маленькую часовню, в которой Патриарх совершал свое одинокое богослужение; часовня эта была около сажени в длину и столько же в ширину. Жилой покой был немногим более, в нем висела широкая железная пластина с медным изображением креста, на тяжелой цепи, что все вместе весило более 20 фунтов, и такой-то крест помянутый Патриарх, целыя 20 лет, день и ночь, не снимая, носил на шее. Место для сна длиною было два локтя и шириной едва один локоть; вся постель состояла из четырехугольнаго камня, на котором никакой постилки не было, кроме тростниковой, которая доселе хранится в монастыре и показывается; ибо богомольцы смотрят на нее, как на святыню и на половину уже повыдергали из нея тростинки. Внизу этой храмины была небольшая печь, в которой Патриарх варил себе снедь…»1739.
С 1666 г., после ссылки Святителя, отходная пустынь сохранялась монастырем как местная святыня. Здание не претерпело таких крупных перестроек, как Воскресенский собор и весь монастырь. Те незначительные перестройки, которые проводились в пустыни в XIX в., в основном были сделаны с целью лучшего ее сохранения. По данным путеводителей рубежа XIX–ХХ вв. и по воспоминаниям очевидцев, до 1917 г. в патриаршей пустыни на острове обстановка была такой же, как и во времена жизни в ней великого ее устроителя, а также хранились личные вещи Святейшего. Со временем скит Патриарха Никона стал одним из первых мемориальных музеев, а богослужения в церквах проводились два раза в год – на Богоявление Господне и в день свв. первоверховных апостолов Петра и Павла1740. Благодаря такому бережному отношению к зданию отходная Богоявленская пустынь дошла до нашего времени в основном в том виде, в каком существовала при Святейшем Патриархе Никоне.
Сакрализация царства в образах Нового Иерусалима. («Шумаевский крест»: опыт реконструкции замысла). (Яворская С.Л.)
«Шумаевский крест» – один из самых таинственных памятников русской культуры середины XVII – начала XVIII вв.1741 Он представлял собой подобие грандиозного киота или алтаря-ретабля1742, заполненного тысячами разномасштабных скульптур и рельефов на сюжеты Священного Писания. В его центре было установлено Распятие с предстоящими на фоне святого града Иерусалима. За предстоящими размещались фигуры архангелов, по углам центральной части – евангелисты. По бокам были установлены неподвижные створы, сверху донизу покрытые миниатюрными резными композициями, изображающими святые места Палестины. Каждая композиция снабжена номером и сопровождалась пояснительной надписью в нижней части киота. Наверху был закреплён карниз с панорамой Небесного Иерусалима, ещё выше – навершие с выступающей фигурой Саваофа, Святым Духом и ангелами в облаках.
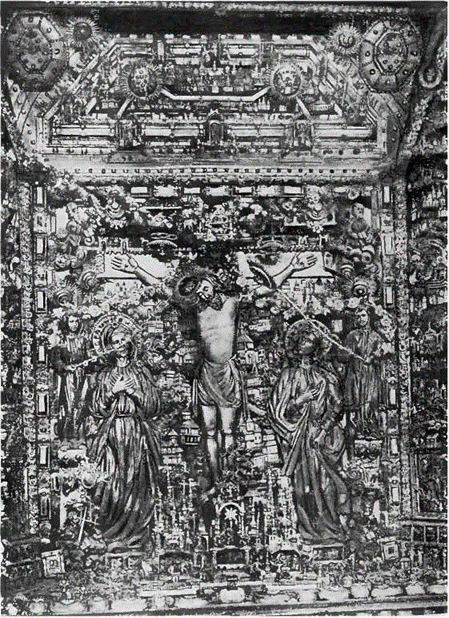
«Шумаевский крест» (общий вид; фото начала 10-х гг. XX в.)
В оформлении ансамбля использовались нетрадиционные для русского христианского искусства материалы – стекло и зеркала. Алтарь закрывался стеклянными дверями. При этом пластическое изображение проецировалось на их поверхность, делая облик ансамбля подобным иконе, более привычным и эмоционально приглушенным. Отражая огоньки лампад и пламя свечей, поверхность стекла должна была затруднять восприятие изображения. Видимо, его создатели желали, чтобы закрытый в обычные дни киот открывался только во время особых богослужений. «Шумаевский Крест», как алтарь-ретабль, ориентирован вперед и должен был устанавливаться у стены1743. Это повторяет устройство Голгофы храма Гроба Господня в Иерусалиме, где иконостас расположен у стены Голгофского придела, а Распятие установлено за престолом.
Резной ансамбль в своих пространственных композициях в наглядной дидактической форме воплощал идею Спасения, пути к Спасению, Слова о Спасении. Здесь Крест выступал главным символом Спасения; путь прочитывался в сюжетах ансамбля как резной проскинитарий с обозначенными святынями Палестины; Слово – Священное Писание было представлено основными сюжетами в композициях ансамбля и начертано в многочисленных картушах. Помещая в центре композиции Распятие с предстоящими и архангелами с рипидами, а по углам центральной части евангелистов с их символами, авторы ансамбля воспроизвели оклад большого напрестольного Евангелия, т.е. Благовествования. Алтарь раскрывался подобно огромной книге. Таким образом, Слово было запечатлено и во внешнем облике складня. Его боковые створы, подобно драгоценному фронтиспису, вводили нас в пространство Священного Писания. Их резные сюжеты – роскошные миниатюры старинной иллюминированной рукописи. Мысленно раскрывая сегодня эту «книгу», мы воспринимаем ее как огромное Евангелие на престоле и обретаем возможность углубиться в медленное прочтение-познание.

Схема расположения основных композиций «Шумаевского креста»:
1. Распятие; 2. Предстоящие: Богоматерь, Иоанн Богослов; 3. Архангелы с рипидами; 4. Евангелисты; 5. Град земной Иерусалим-Москва; 6. Стены города; 7. Сооружение, символизирующее храм Гроба Господня (a – «Вход в Иерусалим», b – «Положение во Гроб», c – «Преображение Господне», d – кувуклия Гроба Господня). 8. Сень с изображением Господа Саваофа; 9. Терновый венец и венец Славы; 10. Боковые створы с миниатюрными сюжетами, иллюстрирующими Священное Писание; 11. «Крещение» и «Рождество»; 12. Иконы на зеркальных фонах – «Воскресение. Сошествие во ад» и «Распятие». 13. Верхний карниз; 14. Град Небесный; 15. Сцены Апокалипсиса; 16. Русские святые; 17. Солнце и Луна; 18. Декоративные элементы; 19. Картуши с подписями; 20. Сцены Страшного суда и грешники в аду; 21. Зеркальные призмы и символические изображения Страстей Христовых; 22. Навершие с сюжетом «Господь Саваоф на облацех»; 23. Стены Града Небесного над облаками
Слово – главный элемент культуры XVII в., сущностное явление. Написанное на иконе, оно воспринималось (как воспринимается и теперь) знаком воплотившегося Логоса1744. Стихотворение Симеона Полоцкого «Мир есть книга» уже в своем названии отражает суть пространственной композиции резного алтаря1745. «Мир сей преукрашенный – книга есть велика, / Еже словом написана всяческих владыка», – писал Симеон Полоцкий. По его представлению, Бог Словом строит мир. И сам Симеон иносказательно представлял мир в виде книги, или алфавита, а элементы мира – как части книги, ее листы, строки, слова, литеры1746.
В самом начале сохранившейся «Подробной описи креста»1747, которая является некомментированной литературной программой ансамбля, мы читаем: «Под Горним Иерусалимом будет. Престол на облацех и видех деснице седящего на престоле книгу написану внутрь юду и вне юду зепечатану седмию печатьми, и видех ангела крепка, проповедующа гласом, кто есть достоин разгнути книгу, а розняти печати ея никтоже можаше ни на небеси ни на земли, аз плакався много, ни един обрести достоин разгнути и почести книгу»1748. Открытие алтаря – КНИГИ-СЛОВА превращается в ритуальное действо.
В современной истории России явственно чувствуются отражения сложных процессов, происходивших в стране в XVII – начале XVIII в. Может быть, поэтому мы воспринимаем идеи, заложенные в создание ансамбля не просто живыми и современными, но весьма актуальными: они выражены в сюжетах и образах «Шумаевского креста» со всей прямолинейной дидактичностью программного памятника. Так что взирающим на него остается лишь их прочитать.

Крепостная стена на переднем плане ансамбля «Шумаевского креста»
Важнейшей особенностью композиции «Шумаевского креста» является то, что Крест с Распятием показывался утвержденным в центре Иерусалима. На переднем плане киота мы видим белые крепостные стены, сооружение, символизирующее храм Гроба Господня, дальше установлен крест с Распятием. Это следует рассматривать не как нарушение иконографии сюжета, но как демонстрацию главной идеи ансамбля. Не случайно, его создатели изобразили Иерусалим в хорошо узнаваемых архитектурных образах Москвы середины – третьей четверти XVII в.1749, а град Небесный в виде идеализированной градостроительной схемы Москвы1750. Показывая Иерусалим-Москву в центре, Палестину на боковых створках, резчики на переднем плане поместили русские домики под двускатными кровлями. Таким образом, сакральное пространство киота охватывало весь христианский мир, включая в единое целое и такие отдаленные от Иерусалима области, как Россия. При этом Святая Земля показывалась обрамлением Москвы и Российского царства1751.

Иерусалим – Москва (фрагмент левой панели панорамы города)
Многословная дидактичность композиций «Шумаевского креста» выражала настойчивое стремление продемонстрировать реальность происходившего и происходящего на Святой Земле, сделать присутствие Иерусалима и Палестинских святых мест зримым, достоверным. Рассматривая проблему под этим углом зрения, мы невольно ставим «Шумаевский крест» в круг явлений русской культуры, реализующих иерусалимскую тему. Такое его прочтение особенно актуально, если вспомнить, что Россия в середине XVII в. переживала экономический и политический подъем1752. После падения Константинополя в 1453 г. Москва все чаще истолковывалась как наследница Византийской империи, что получило политическое подкрепление после брака Ивана III с византийской принцессой Софьей (Зоей) Палеолог. По мере того, как ареал Православной Церкви сокращался под натиском турок с востока и католиков с запада, Россия становилась наиболее сильным православным государством Европы и вторым православным царством Всемирной истории. «Ветхий Рим падеся аполинариевой ересью; вторый же Рим, еже есть Константинополь… от безбожных турок обладаем; твое же… Российское царствие, третей Рим… благочестием всех привзыде и вся благочестивая царствие в твое едино собрася, и ты един под небесем христианский царь именуешись во всей вселенной, во всех христианех»1753.
«Шумаевский крест» демонстрирует связь с идеями, инициированными на протяжении нескольких веков русскими правителями, – создания подобия Иерусалимских святынь и сакрализации образа Руси1754. Первыми из известных сегодня памятников, материализующих идею богоизбранности русского народа и Москвы – не столько третьего Рима, сколько – третьего Иерусалима, – были построенные в начале XVI в. итальянскими архитекторами центрические храмы: церковь Иоанна Лествичника в Кремле с двумя ярусами колокольного звона (архитектор Бон Фрязин, 1505–1508 гг.) и церковь Петра митрополита в Высокопетровском монастыре (Алевиз Фрязин, 1515–1517 гг.)1755. Многие христианские центрические храмы имеют прообразом ротонду Анастасиса, построенную Царем Константином над Гробом Господним в его Новом Иерусалиме1756. Следующей попыткой воплощения этой идеи было строительство Покровского собора во времена Ивана Грозного. Восемь башнеобразных восьмигранных храмов окружают церковь Покрова Пресвятой Богородицы. Весь комплекс называли Иерусалимской церковью1757. Он воплощал образ Иерусалима в обряде «шествия на осляти», которое следовало из Кремля ко Входоиерусалимской церкви Покровского собора.

После смерти Царя Федора Иоанновича и избрания на Российский престол Бориса Годунова, ввиду необходимости поддержания авторитета и укрепления легитимности власти нового монарха, идея превращения Москвы в столицу Православия, создания ее образа во образ Иерусалима становится особенно актуальной. Принципиальное значение здесь имело утверждение Патриаршества на Руси в 1589 г. Реальное и масштабное воплощение замысла должно было подтвердить богоизбранность нового Царя и вселенское значение Русской Православной Церкви. Этому были призваны служить не только новый чин венчания на Царство1758, но и замысел строительства «Святая Святых». Невероятно энергично Борис приступил к реализации грандиозного плана. По словам Авраамия Палицына, «Царь убо Борис мысля храм нов воздвигнути во имя Воскресения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, и по образу сделанного сметив…», т.е. по образу Иерусалимского храма Воскресения – храма Гроба Господня. Известный голландский купец и дипломат, дважды посещавший Россию и подолгу живший здесь, И. Масса, в своих «Известиях о Московии» писал: «Образец был деревяной зделан по подлиннику как составляется святая святых» (курсив мой. – С. Я.)1759. Видимо, образцом для строителей была сборная архитектурная модель Иерусалимского храма Воскресения, подобная той, которая хранится сегодня в собрании Историко-архитектурного и художественного музея «Новый Иерусалим» (Истра Московской обл.)1760, а также распространенные в то время гравированные иллюстрации к паломническим описаниям Святой Земли и Иерусалима, подробные чертежи и рисунки1761.
На начальном этапе реализации замысла предпринимается перестройка центрической ярусной церкви Иоанна Лествичника («иже под колоколы») в высокую колокольню, которая, видимо, должна была составить новый ансамбль с храмом на Соборной площади (к Иерусалимскому храму Гроба Господня примыкает колокольня). Эта святыня имела бы для православных христиан такое же значение, как Первый ветхозаветный храм Соломона – «Святая Святых» иудеев, и воплощала бы образ Первого новозаветного храма – «Нового Иерусалима» Константина Великого1762. Значение этого храма подчеркивалось в самом его именовании: «Святая Святых»1763. Следует вспомнить, что одновременно с перестройкой церкви идет строительство стен Белого города. Создание Белого города, помимо утилитарного оборонительного значения, воплощало идею Москвы – иконы Небесного Иерусалима. Все эти работы служили реализации единого замысла, в рамках которого одним из наиболее устойчивых иконографических мотивов Небесного Града были белые стены с двенадцатью вратами. В стенах Белого города было множество башен. Но именно двенадцать из них были проездными. Башни и стены Белого города и Кремля, построенные из красного кирпича, были выбелены. Настойчивое стремление создать светлый, сияющий, священный, сакрализованный облик московских укреплений только подтверждает наше предположение о стремлении достичь облика Москвы – иконы не земного, но Небесного Иерусалима. Белый город называли также «Царь-град». О сакральном характере этого именования достаточно убедительно говорит в своих исследованиях Е. Емченко1764.
В контексте раскрытия замысла резного ансамбля «Шумаевского креста», важно вспомнить, что для «Святая Святых» Бориса Годунова были сделаны модели и отлиты скульптуры, которые должны были играть центральную роль в новом чине богослужения в этом храме: фигуры Христа, Пречистой Богородицы, Гавриила со архангелы, ангелов и 12 апостолов. В центре должна была быть установлена плащаница – «господень гроб злат, кован весь и ангели великие литы…». Готовые скульптуры погибли во время польского нашествия Лжедмитрия1765.
Идея помещения Гроба Господня и большой пластической пространственной композиции в задуманном Годуновым храме связана в Москве с введением нового чина погребения. Развитие подобных обрядов, творимых во образ евангельских событий, вводивших в храм зримый образ Святого Гроба, было заимствовано из Новгорода. Но мысль о введении его в Москве была связана с иерусалимской ориентацией всего замысла. Программа храма стимулировала изменение богослужебного чина, выбор из местной практики того типа службы, который делал более четкими и читаемыми иерусалимские прототипы1766. Следовательно, мы можем говорить о попытке создания главнейшей святыни христианства в Московском Кремле в конце XVI в.
Перечень скульптур, их описание, косвенное указание на размер, приближенный к человеческому росту, – все это прямо указывает на аналогии со «священными представлениями», традиционными в Западной Европе, в них наравне с живыми людьми участвовали манекены, или куклы. Такие религиозные представления, которыми создавался особый театральный эффект богослужебного чина, породили длительную традицию составления живых картин и мистерий (особенно популярны были сюжеты Рождества и Оплакивания Христа). Известны примеры создания многофигурных мобильных композиций, воспроизводящих евангельские события, – так называемые «Sacra Monte» («Голгофа»). Населяющие пространство фигуры и фигурки на фоне макета Иерусалима и перспективной живописи на стенах воспроизводили священные события. Сюжет диорамы продолжался в пространстве капеллы, где помещались скульптуры в рост человека, изображавшие «Оплакивание Христа» или «Положение во гроб».
Такие комплексы создавались как высокопрофессиональными скульпторами, декораторами и живописцами, такими как Н. дель Арка и Г. Маццони, работавшими в конце XV в., так и неизвестными народными мастерами1767. В 1439 г. подобное представление, сценографическое решение которого связано с именем знаменитого итальянского архитектора Ф. Брунеллески, посмотрел Авраамий Суздальский, прибывший в Италию в свите митрополита Исидора для участия в церковном Соборе, происходившем в Ферраре и Флоренции. Он оставил описание этого представления. «В церкви Санта Мария дель Кармине на преграде, слева у стены, была установлена декорация, изображавшая каменный город с воротами и башнями, который обозначал Иерусалим. Его легко себе представить по аналогии с многочисленными изображениями Иерусалима в живописи тех лет; по-видимому, эта модель города была сделана из дерева»1768. Соразмерность масштаба фигур Христа и предстоящих зрителям и реальность перспективного изображения города делают «Шумаевский крест» похожим на такой макет Иерусалима. Очевидно, он предполагал особый, может быть, несколько театрализованный чин богослужения с раскрыванием дверей. Зрители должны были становиться участниками действа. Представляется важным отметить, что именно скульптурный комплекс, задуманный Борисом Годуновым для Святая Святых, стал началом новой традиции многофигурных пластических композиций «Распятие» и «Положение во гроб», которые предполагали особый чин богослужения1769.
Традиция создания разного рода пластических композиций не угасла и сегодня. Во всех католических храмах накануне Рождества устанавливаются макеты сцен Рождества Христова – вертепы. В декабре 2005 г. в Храме Христа Спасителя проходила выставка вертепов. В Санкт-Петербурге, как и во многих других городах России, возобновлена традиция театральных конкурсов Рождественских вертепов.
Итак, по замыслу Царей Федора Иоанновича и Бориса Годунова, – Москва сама должна была воплощать образ Иерусалима, уподобляться Небесному Иерусалиму: светоносные высокие стены, множество храмов, прекрасные дома-дворцы, сады за стенами Кремля и «Святая Святых» в центре его, – то есть стать Новым Иерусалимом. Смутные времена отодвинули на более поздние сроки создание этого образа. Проект сакрализации резиденции русских царей и создания сакрального центра русского православного самодержавного государства был одной из главных общественно-политической идей и оставался актуальным в жизни города вплоть до конца XVII в. Именно в рамках этой идеи в 1625–1627 гг., при Царе Михаиле Федоровиче и непосредственном участии Патриарха Филарета в Успенском соборе Кремля был создан Гроб Господень1770.
Идея самоидентификации Москвы с Царьградом, с XI в. уже осознававшимся на Руси Новым Иерусалимом1771, Русского государства с Византией и русских правителей с царем Константином достигла высшей точки официального развития к венчанию на царство Алексея Михайловича в 1645 году1772. Она получила свое закономерное завершение в теории «Москва – Новый Иерусалим», акцентирующей миссионерскую роль России – Нового Израиля, наделяющей ее сакральными свойствами нового центра христианского мира, хранителя истинной веры1773.
Таким образом, становится очевидным различие «доромановского» представления о Российском православном царстве и «романовского». Москва – теперь уже не представляется Третьим Римом, а Россия – наследницей Римской империи. Российское царство – царство Нового Израиля. Строительство Святейшим Патриархом Никоном Воскресенского монастыря в 1656 г. также следует рассматривать в этом контексте.
В 1657 г. Царь Алексей Михайлович, посетив Воскресенский монастырь, на освящении деревянного и закладке каменного храма Воскресения1774 сказал: «Воистину благоволит Бог исперва место сие предуготовати на создание монастыря; понеже прекрасно, подобно Иерусалиму». Об этом свидетельствовала надпись на памятном кресте на Елеонской горе: «Водрузися Святый Божественный Крест Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа на горе сей Елеон, от востока прямо Лавры Святаго Живоноснаго Воскресения на Святом Сионе благословением Великаго Господина и Государя Никона, Святейшаго Архиепископа царствующего великаго града Москвы и всея великия и малыя и белыя России Патриарха, того ради, понеже тишайший Великий Государь и Царь и Великий Князь Алексей Михайлович всея великия и малыя и белыя России Самодержец, будучи в зачатии Лавры сея на освящении храма Святаго Живоноснаго Воскресения древянаго и по освящении церкви, проходя окрест монастырскаго основания и дошед сего места взошед на него, посмотря сюду и сюду на широту пространства полнаго, и возлюби е и нарече имя монастырю Новый Иерусалим и честныя своея руки писанием изобрази, его же Патриарх в ковчежец сребрен вложи, в вечное благословение в Лавре Святаго Воскресения положи. Лета 7166 года, а от еже по плоти Рождества Бога Слова 1657 года, октября в 18 день»1775.
Именно со времени этого посещения патриаршего Воскресенского монастыря начинается осуществление наиболее амбициозного проекта русских самодержцев. Именование Царем Алексеем Михайловичем монастыря Новым Иерусалимом, по нашему представлению, свидетельствовало не столько о переименовании монастыря, сколько о переориентации всего замысла1776. Текст сохранившейся пространной стихотворной надписи, вырезанной у южных врат входа в Воскресенский собор и созданной архимандритом Никанором, вторит надписи на Елеонском кресте:
«Царь благочестивый мнение всем отрази,
Иже глаголют Никон яко сам прорече:
Еже Новый Иерусалим, (тако бо) царь нарече,
То писание Патриарх в ковчежец вложи,
Ради вечного благословения положи…»1777
В понимании значения этого ансамбля важнейшую роль играют разного рода надписи, документально подтверждающие следование аутентичному образу, т.е. документирующие святыню. К такого рода надписям относятся и указанные выше.
Конечной целью этого проекта было создание грандиозной национальной святыни, первой русской кальварии – Нового Иерусалима, и утверждение в центре её образа-эквивалента реликвии1778 – Животворящего Креста Христова с Распятием, созданным в меру Тела Христова, как важнейшей национальной и государственной святыни1779. Постепенно замысел разрастался и в своем окончательном варианте приобрел совершенно иные масштабы строительства Русской Палестины. Устроение топографического подобия «Нового Иерусалима» Константина Великого как пространства Страстей и Спасения должно было неоспоримо свидетельствовать о том, что Русское самодержавное царство заняло первенствующую роль в Христианском мире и теперь является хранителем Ромейского1780.
Не затрагивая подробностей переименования и истории строительства Русской Палестины, отраженных в большом количестве исследований1781, остановимся на особенностях сопряжения двух уникальных памятников, – Нового Иерусалима царя Алексея Михайловича и патриарха Никона и «Шумаевского креста». По нашему представлению, «Шумаевский крест» следует рассматривать как образную модель пространства Страстей и Спасения, имеющую своим первообразом всю Святую Землю и всю Священную историю, которую продолжала русская история.
В раскрытии идеи резного алтаря-реликвария важнейшими факторами являются: – Абсолютная идентичность Шумаевского Распятия и Распятия, установленного на Голгофе Воскресенского собора Воскресенского Новоиерусалимского монастыря1782.
– «Шумаевское» Распятие – не повторение, а эквивалент реликвии Новоиерусалимского Распятия, и самостоятельная реликвия.
– Резной алтарь со стеклянными дверями устроен как драгоценный реликварий-монстранц, призванный не только хранить, но и демонстрировать обладание столь значимой святыней.


Распятие с Голгофы Воскресенского собора Воскресенского Новоиерусалимского монастыря (слева) и Шумаевское Распятие (справа)
– В программе «Шумаевского креста», сохранившейся в «Подробной описи креста»1783, повторяется программа строительства Воскресенского собора, Нового Иерусалима и всей Русской Палестины1784;
– Размеры конструктивных элементов киота отвечают параметрам ниши Голгофы Воскресенского собора1785.
– «Шумаевский крест» – рельефная карта христианского космоса. Карта является образной моделью мира, что предполагает создание аналога действительности1786. В этой действительности, в центре христианского мира находятся Москва и Кремль.
– Распятие утверждено в центре Кремля.
– Град Небесный показан в виде идеализированной градостроительной схемы Москвы.
– Град земной изображается непосредственным отражением Небесного Иерусалима: от первообраза его отделяет только перекладина креста, как обрез воды. Достоверность, с которой он изображен, утверждает его свершившимся Новым Иерусалимом.
Технологические особенности создания деревянной скульптуры свидетельствуют о том, что «Шумаевское» Распятие было создано в непосредственной близости от Ново-Иерусалимского и до того, как первое было установлено на Голгофе1787. Размеры Креста, самого Распятия, параметры конструктивных элементов ансамбля, говорят о том, что оба этих комплекса создавались в рамках единого грандиозного замысла. Его особенности в деталях нам неизвестны, однако сам ансамбль реалистичен настолько, что историческая реконструкция события превращается в рассказ об очевидном.
После ссылки Патриарха работы в монастыре были приостановлены и мастера отозваны (их вывозили в Москву в конце 1666 г. с семьями, материалами, инструментом и книгами). Н. Н. Соболев, основываясь на документах Оружейной палаты, пишет о «…громадном резном распятии, сделанном для Воскресенского Новоиерусалимского монастыря и перенесенном оттуда в Москву» для создания Голгофы-кальварии в теремных церквях1788. Следует уточнить: 1) Шумаевское Распятие, действительно, самое большое из всех, о которых известно, что они созданы в Меру Тела Христова; 2) Голгофа-кальвария – это модель пространства Страстей и Спасения. Известно, что именно во дворце Византийских императоров в Константинополе постепенно были сосредоточены все реликвии Страстей, вывезенные из «Нового Иерусалима» Константина Великого, которые маркировали и формировали пространство Страстей и Спасения во дворцовом храме Богоматери. Именно это делало Константинополь Новым Иерусалимом.
Со строительством Голгофы-кальварии резиденция русских правителей должна была уподобиться дворцовому комплексу византийских базилевсов. Возможно, важнейшей реликвией этого пространства должны были стать Крест с Распятием, созданным в меру Тела Христова, вывезенные из Воскресенского монастыря. Голгофа-кальвария Алексея Михайловича по неизвестным нам причинам не была создана. Несомненно, Царь Федор Алексеевич унаследовал важнейшие идеи своего отца и его предшественников. Федору Алексеевичу принадлежит заслуга возвращения Патриарха Никона из ссылки и возобновления строительства монастыря Нового Иерусалима. Московский Кремль, в котором сосредоточивались христианские святыни1789, также постепенно осознавался Новым Иерусалимом1790.
«Малым подобием» или «воспоминанием о Новом Иерусалиме» называет А. Н. Муравьев комплекс теремных церквей Кремля, в котором прослеживается тема Страстей Господних и последующего Светлого Воскресения Христова. Церкви перестроены по указу Царя Федора Алексеевича, в период принятия решения о возвращении Патриарха1791. В рамках создания «малого подобия» на уровне хор церкви Воскресения Словущего были созданы Распятская церковь и так называемая Голгофа. В проходе между двумя церквами под наблюдением живописца Дорофея Ермолаева Золотарева был устроен Гроб Господень. Алебастровый свод, изображавший пещеру, опирался на колонны и был расписан под мрамор (черепашьим аспидом). Под ним стояла плащаница, сверху на проволоках висело шестьдесят расписных алебастровых херувимов с золочеными крыльями и венцами. Против плащаницы на каменном основании стояло Распятие. На свободных стенах «Голгофы» помещались писанные на полотне картины, изображавшие евангельские события и притчи1792.
В своем исследовании замысла «Святая Святых» Бориса Годунова А. Л. Баталов говорит о том, что «подобие Христовы телеси», плащаница относятся к скульптурному изображению Христа во гробе1793. Подобные скульптуры описывает Н. Н. Соболев и помещает в своей работе фотографию плащаницы из церкви погоста Хворостьево Торопецкого уезда Псковской губернии1794. Такая же плащаница находится в экспозиции Ростовского музея-заповедника. 21 декабря 1681 г. «Государь повелел устроить между новою церковью Распятия и своих деревянных комнат, в особой небольшой каменной палатке, Вертоград с Господним Гробом». Окончить это дело Царь Федор Алексеевич велел к 10 апреля 1682 г., поэтому работы не прекращались даже по ночам. В документах сохранились распоряжения, касающиеся срочного строительства «Вертограда» в теремных церквах, но, к сожалению, не сохранилось ни описания замысла, ни того, что было сделано1795. И. М. Соколова убедительно показывает параллели в замыслах Царя Алексея Михайловича и Патриарха Никона и Царя Федора Алексеевича. Статья дает новый импульс для исследования копий иерусалимских святынь на русской земле и пространства Спасения в Кремле.
Как было отмечено, ансамбль «Шумаевского креста» представляет собой реликварий-монстранц, созданный для хранения и демонстрации креста с Распятием, вывезенного из Нового Иерусалима. Он не был рассчитан на большой приходский храм и большое стечение паломников, что подтверждается особенностями его композиции и его пропорциями. Реликварий должен был находиться в небольшом по площади приделе, часовне или центрическом храме, «небольшой каменной палатке», где его удобно будет «прочитывать». Его размеры, повторяющие размеры Голгофы Воскресенского собора Нового Иерусалима, заставляют предположить, что планировалось создание пространства, повторяющего образ исторической Голгофы. Тем самым Алексей Михайлович уподоблял себя Константину Великому, перенесшему реликвии Креста из Палестины в Константинополь и начавшему формирование сакрального пространства византийской столицы. Судя по ориентации композиций ансамбля вовне, вперед, главная святыня должна была располагаться перед ним. Возможно, алтарь-реликварий предполагал особый чин богослужения с выносом плащаницы. Он отражал идеи и новый литургический опыт, который в какой-то степени знаком нам по замыслам Царя Бориса Годунова, Царя Алексея Михайловича, Патриарха Никона и Царя Федора Алексеевича1796.
Изображая семиконечный1797 Крест с Распятием в центре Москвы, идеологи «Шумаевского креста» утверждали значение Москвы как центра царства истинной веры, взамен утратившего свое значение Константинополя – второго Нового Иерусалима1798.
Идейные уподобления России Византийской империи, русского царя – Византийскому императору, а русского Патриарха – Вселенскому Патриарху, может быть, еще только начинают осознаваться во всей полноте парадигмы построения Царства истинной Православной веры. Это стало возможным лишь в контексте иеротопической методологии. Иеротопия как наука, изучающая принципы построения сакрального пространства, дает новый импульс к осмыслению именования Царем Алексеем Михайловичем Воскресенского монастыря Новым Иерусалимом, замысла создания Русской Палестины. Этот монастырь и вся Русская Палестина должны были стать сакральным центром России – Нового Израиля, с утвержденным в центре его образом-реликвией Животворящего Креста Христова.
Перенесение из Нового Иерусалима в Москву эквивалента реликвии обретенного Животворящего Креста Христова – еще один шаг из цепи иконических деяний царя Алексея Михайловича – второго Константина Великого1799, что должно было придать полноту образу Москвы – третьего Нового Иерусалима. Образ-реликвия Креста Христова в ансамбле «Шумаевского креста» утверждает новый центр пространства истинной веры, т.е. Всемирного православного царства и пространства грядущего Царства Божия на земле, в Москве1800. И, если Святая Русь – удел Богоматери и находится под Ее благодатным покровом, то Российское православное царство представляется уделом Христа и защищается Крестом Христовым1801. В «Слове о Животворящем Кресте» Патриарх Никон пишет: «Веруем же в Господа нашего Иисуса Христа, яко Той силою того Честнаго и Животворящаго Креста его Царскому Величеству подаст на всех врагов его и супостатов совершенную победу и одоление, и возвысит державу царствия его, и миром оградит, и исполнит всякия благодати, яже к житию человеческому потребно, и дарует под державою его сущим вся благая и радостная»1802.
Сакрализация образа столицы была насущной потребностью общественно-политической жизни государства1803. Это в полной мере демонстрируют все «новоиерусалимские» замыслы русских правителей. Но особенно ярко тема создания Нового Иерусалима в Кремле, Москвы – Нового Иерусалима, прозвучала в исследованных нами замыслах царей Федора Иоанновича и Бориса Годунова, Алексея Михайловича и Федора Алексеевича. Подобные идеи получили свое иконическое воплощение в «Шумаевском кресте».
Исследование замысла создания реликвария-монстранца продолжается. Ансамбль, долгое время считавшийся произведением народного умельца, сегодня почти забыт. Очевидно, что долгие годы умолчания и непонимания значения «Шумаевского креста» в истории русской культуры во многом ограничили наше представление о процессах, протекавших в Русском государстве в XVII–XVIII веках.
Православная святыня России, которой старый мастер отдал свою жизнь, сегодня находится на перекрестье, перепутье, переломе своей судьбы. Переживший на чердаке шумаевского дома годы и десятилетия небытия, оккупацию и вандализм французов в 1812 г., революцию 1917-го, культуроборческое рвение Союза воинствующих безбожников в 1928 г., разграбление в 30-х, заключение и забвение 60–80-х гг., «Шумаевский крест» как единое целое не существует. Увидим ли мы когда-нибудь вновь грандиозный резной ансамбль во всем его великолепии – неизвестно.
Как справедливо было отмечено Ю. Лотманом, XVII–XVIII вв. русской культуры – века эксперимента. Оглядываясь в прошлое, мы совершаем новые открытия. Рассмотрение «тупиковых» ветвей великого культурологического эксперимента не менее интересно и поучительно, чем прослеживание путей последовательного развития. Культура XVII–XVIII вв., – первооснова современной русской культуры, – еще таит в себе запас неисчерпанных возможностей. То, что в ней было исторически реализовано, не охватывает всех ее идей, многое не нашло применения в последующие периоды развития и, может быть, ждет своего второго рождения. «Шумаевский крест», резная икона «Москвы – Нового Иерусалима», является серьезной политической декларацией, в которой державная идея была облечена в формы «ученого» искусства, свидетельствующего о воплотившемся Логосе. Сегодня, чувствуя недостаток подобной объединительной идеи в нашем обществе, мы читаем его как послание сквозь века.
«Новый Иерусалим» в Кремле: незавершенный замысел Царя Федора Алексеевича1804 (Соколова И. М.)
Импульсом для нашей работы послужила мысль А. Н. Муравьева из его книги «Путешествие по святым местам русским», изданной в 1846 г. Описывая церкви Распятия и Воскресения Словущего в кремлевском Теремном дворце, он пишет: «Не было ли это малым подобием или воспоминанием Нового Иерусалима? Ибо и здесь церковь Распятия, подобно Голгофе, находится в верхнем ярусе церкви Воскресения, а самый праздник обновления (т.е. Воскресения Словущего – в честь обновления Иерусалимского храма Воскресения. – И. С.) знаменует, может быть, общий подвиг Царя и Патриарха при создании обители по образцу Святого Гроба»1805.
Слова о малом подобии замечательно перекликаются с определением, которое дано созданию Патриарха Никона – Воскресенскому монастырю под Москвой – в челобитной от братии монастыря Царю Федору Алексеевичу. Он назван великим подобием первого храма, устроенного на месте страданий Христовых1806.
Более полувека спустя после А. Н. Муравьева С. П. Бартенев в путеводителе по Большому Кремлевскому Дворцу замечает: «Церковь Распятия – придельный храм церкви Воскресения Словущего и находится в одном уровне с ее хорами, наподобие Иерусалимской Распятской церкви в храме Воскресения»1807.
Автор новейшей книги о Большом Кремлевском Дворце Н. А. Вьюева пишет: «В 1678– 1682 гг. в теремных церквах Кремлевского дворца по указу Царя Федора Алексеевича … начались большие перестройки. Именно в этот период возник комплекс церквей, в котором четко прослеживается тема «страстей Господних» и последующего Светлого Воскресения. Бывшая церковь преподобномученицы Евдокии, построенная еще в 1627 г., была заново украшена и освящена в честь праздника Воскресения Христова, сопредельно с ней устроена церковь Воздвижения Креста, или Распятия, рядом возведена Голгофа, где находились алебастровый Гроб Господень и деревянное резное Распятие … Воскресенский собор Ново-Иерусалимского монастыря с его многочисленными приделами, возможно, вдохновил и молодого Царя на создание подобного комплекса в своей кремлевской резиденции»1808.
Концепция, изложенная в этих строках и сформулированная впервые полтора века назад, настолько увлекательна, что побуждает рассмотреть ее пристальнее1809.
Короткое царствование царя Федора Алексеевича (1676–1682), сына Царя Алексея Михайловича и внука первого Романова, обычно заслоняется бурными и необычными событиями правления его младшего сводного брата – Петра I (по линии Нарышкиных). Однако многие историки XVIII в. (начиная с В. Н. Татищева, Г. Ф. Миллера) высоко оценивали как личность, так и государственные деяния Царя Федора Алексеевича, предвосхитившие некоторые из грядущих реформ Петра. Не все разделяли мнение о Царе Федоре как о реформаторе, считая его скорее продолжателем идей предшествующей поры, а его царствование – завершением целого периода русской истории, начавшегося с царствования Михаила Романова1810.
Царь Федор вступил на престол четырнадцати лет. Ученик Симеона Полоцкого, питомца Киевской академии, он по своему воспитанию явно выделялся из общей среды. В то время в царском обиходе, сохранявшем древний благочестивый уклад, ощутимо было влияние малороссийской и польской культуры1811. Это влияние вполне проявилось уже во времена Алексея Михайловича: оно выражалось в покрое одежд, убранстве дворцов и церквей. Юный Царь свободно разговаривал по-польски, изучал латынь и математику, слагал «изрядные вирши», прекрасно разбирался в музыке (сохранилось его музыкальное сочинение на текст «Достойно есть»1812).
Несмотря на слабое здоровье, Царь быстро взрослел, освобождаясь от влияния приближенных, демонстрируя самостоятельный взгляд на государственное управление, что доказывают важнейшие деяния и проекты его царствования. Назовем прежде всего уничтожение многовекового обычая местничества и связанную с этим реформу воинского строя1813. Царь Федор Алексеевич провел ряд реформ, способствующих упрощению государственного управления и налоговой системы. Он заключил мир с турками (1681 г.), отменил членовредительские казни, учреждал богадельни и казенные приюты для сирот с обучением грамоте и ремеслам. Царь предложил проект реформы церковного управления, занимался обращением в христианство иноверцев. По его настоянию был возвращен из ссылки Патриарх Никон, по его ходатайству были получены от Восточных Патриархов грамоты о прощении и возвращении Никону патриаршего достоинства, что произошло уже после смерти Патриарха1814.
Царь Федор уделял много внимания строительству, например, в последний год царствования он издал указы о строительстве 55 объектов в Москве и дворцовых подмосковных селах1815. В дворцовом обиходе он заменил длинные охабни на короткие кафтаны по европейскому образцу.
Осознавая необходимость просвещения и образования, Царь возобновил начатую Патриархом Никоном деятельность по утверждению в великой России ученого сословия: он вынашивал проект создания академии по образцу европейских университетов с обучением представителей разных сословий. Масштабно этот проект не был осуществлен, но, как ранее в Андреевском Преображенском монастыре, где было собрано ученое монашество, призванное для книжной справы и обучения способных к наукам, теперь была открыта греческая Типографская школа – одно из первых общественных учебных заведений, вошедшее затем в состав Славяно-греко-латинской академии, созданной уже после смерти Царя1816. При Заиконоспасском монастыре была открыта типография, в которой печатали не только религиозные, но и светские книги. Стремясь просветить и прославить свой народ, Федор Алексеевич обосновал в своем указе необходимость издания печатной истории русского народа1817. В период патриаршества Никона работа над популярными изданиями велась в Посольском приказе, а Большой летописный свод создавался в монастыре Нового Иерусалима1818.
Как отметил в свое время академик Г. Ф. Миллер, «то, в чем природа отказала телесному составу Федора», с избытком вознаграждали его душевные качества1819. Мы уже упоминали о любви Царя к поэзии, церковному пению, архитектуре, которым он предавался всей душой. Вот как вспоминает об этом современник Сильвестр Медведев: «…художников всякого мастерства и рукоделия, в палаты свои государевы мастерские собирая, сам прилежно смотряше деланию их, внемля, да не когда же ум его празден обрящется и поползнется в кую либо дело незаконное. Но оныя делати вся своим государским разсмотрительством богатно жаловаше. О строении же и деланиях церквей святых и полат подобно был другий то Соломон явился, толико тщания име; украшаше же святые иконы зело зело»1820.
Федор Алексеевич обновил и расширил царский дворец, он украшал его картинами из ветхозаветной истории, притчами, деисусами и парсунами, расписными подволоками и золочеными кожами, так что, как писал И. Е. Забелин, «Московский царский дворец в XVII ст. уподоблялся во многом своим древнейшим идеалам – дворцам библейским и особенно Константинопольскому, как более близкому по времени и по обычаям»1821.
Как добрый христианин Царь Федор любил душеполезное чтение и беседы. Близким ему человеком был преподобный Илларион (впоследствии митрополит Суздальский), основатель Флорищевой пустыни. Страницы его жития доносят до нас как бы живую речь Царя, обращенную к преподобному: «Аз бо не обрящу себе в душевных ми прибытках искреннего собеседника, еже бы о пользе душевной с кем побеседовати; вси бо своих си ищут, токмо приходяще ко мне просят: ин болярином быти, ин же стольником … а ин иного чина взыскует, а о пользе душевной отнюдь не улучу время, еже бы с кем побеседовати. Бога ради, отче святый, не остави мя»1822.
Кратко представив личность Царя Федора Алексеевича и возвращаясь к нашей теме, можно с уверенностью утверждать, что грандиозный и практически воплощенный замысел Патриарха Никона – создать под Москвой образ Святой Земли – произвел глубокое впечатление на душу юного Царя.
Предоставим слово современнику – Ивану Шушерину. Преданный клирик Патриарха Никона, в 1679 г. он был возвращен из ссылки Царем Федором по ходатайству царевны Татьяны Михайловны и стал ее крестовым дьяком: «Когда благочестивый царь Феодор Алексеевич стал приходить в совершенный возраст, он принялся разузнавать о блаженном Никоне, о его изгнании и заточении и много о том расспрашивал. Благородная и благочестивая Царевна и Великая Княжна Татиана Михайловна, тетка благочестивого Царя Феодора Алексеевича, с детства питала сильную любовь к Святейшему и почитала его как отца и пастыря. Видя, что блаженный Никон долгие годы страждет в изгнании и терпит многие скорби от жестоких приставников, и, припомнив благодеяния и труды блаженного, некогда имевшего великое попечение о царской семье и спасавшего их от морового поветрия, она сжалилась о нем и умилилась сердцем. Видя также, что ее племянник, благочестивый Царь Феодор Алексеевич, проявляет участие к судьбе блаженного Никона, она принялась ему рассказывать о том, какую любовь блаженный некогда питал к его отцу, благочестивому Царю Алексею Михайловичу, и как спасал их от морового поветрия, переходя из города в город и с места на место в поисках благорастворенного воздуха, при чем поведала во всех подробностях о его благодеяниях к ним, об изгнании и о его терпении в ссылке. Рассказывала она и о построении Воскресенского монастыря с большой каменной церковью, которую блаженный задумал воздвигнуть по подобию храма Воскресения в святом граде Иерусалиме, обнимающего пещеру Гроба Господня и святую Голгофу со святыми Его спасительными страстями. И та церковь де ныне стоит недостроенная, в совершенном небрежении, и некому позаботиться о том, чтобы закончить ее и освободить блаженного Никона из заточения.
Благочестивый Царь Феодор Алексеевич, услышав такие речи о блаженном Никоне и о построении Воскресенского монастыря, – а он от многих слышал о великой церкви, что она весьма пречудна, но стоит недостроенная во всяческом небрежении, – стал размышлять о том, ибо в его сердце воссияла благодать Пресвятого Духа и мысленные очи отверзлись к милости и щедротам. Прежде всего он начал являть свою милость к святой Воскресенской обители и, хотя многие препятствовали ему в этом, возымел благое намерение увидеть ее своими глазами»1823.
История посещений Царем обители прослеживается по сведениям из Вкладной монастырской книги и Книги царских выходов1824. В первый раз Царь приехал в монастырь в сентябре 1678 г. и в дальнейшем посещал его еще шесть раз. Обычно он приезжал в сопровождении царевен и царевичей, иногда был один. Каждый раз он обязательно слушал Обедню в одной из церквей, входящих в комплекс недостроенного Воскресенского собора, – Голгофской церкви вольных Страстей Христовых. Эта церковь, обычно именуемая Голгофой, была устроена и освящена Патриархом Никоном 15 сентября 1662 г., на следующий день после праздника Воздвижения Креста Господня (в этой же церкви Святейший служил последнюю свою Литургию накануне соборного осуждения в 1666 г.). Тогда же для данной церкви был сделан резной Животворящий Крест в меру и подобие Животворящего Креста Господня с резным Распятием и изображениями предстоящих на Голгофе.
Как пишет Иван Шушерин, «когда благочестивейший Царь Феодор Алексеевич своими глазами увидел прекрасное место, на котором стоит обитель, строение святого монастыря и незавершенное здание большой каменной церкви, ему сильно полюбился Новый Иерусалим»1825. Тема Нового Иерусалима, возможности воссоздания вещественных подобий Святой Земли, которые стяжали бы благодать первообраза, по-видимому, уже занимали к тому времени воображение Царя.
Начиная с 1677 г. в Теремном дворце ведутся строительные работы. Царь обновляет свой каменный верхний терем, а с 1678 г. работы продолжаются в теремных церквах. Уже весной 1678 г. появляются первые упоминания об устройстве Гроба Господня. В приходно-расходной книге Оружейной палаты за 1678 г. в записи от 31 марта отмечено, что по царскому указу Дорофей Ермолаев расписывал и золотил крылья 60 херувимов алебастровых белых, которые должны быть поставлены между церквами преподобномученицы Евдокии и Иоанна Белгородского, что у Государя вверху, «против Гроба Господня, над Господним Гробом»1826.
Посещение Царем Воскресенского монастыря, несомненно, давало новый импульс работам, которые продолжались и в 1679–1680 гг. Согласно приходно-расходной книге за 1680 г. в марте живописцы Иван Салтанов и Иван Безмин писали на полотнах «Страсти Спасителевы», Воскресение, Воздвижение Христово, Марию Магдалину «у Голгофской горы в пещере меж церквей Спаса Нерукотворного образа и преподобномученицы Евдокии». Размер полотен указан: «мерою аршина по три и по четыре»1827. Работы продолжались и в апреле, когда живописцам выдали золото листовое, сусальное серебро, прочие материалы; кроме перечисленных выше сюжетов живописных полотен, упоминаются образы великомученика Федора Стратилата, чудотворца Николы, «да на полотне солнце, месяц, звезды»1828. В апреле же живописцы пишут «черепашным письмом» столы на Голгофу. В апреле – мае живописец Карп Золотарев расписывал и золотил два деревянных кипарисовых резных креста, «которые сделаны вновь в церковь преподобномученицы Евдокии за престолом, да на Голгофу, что у него, Великого Государя, вверху»1829.
Опираясь на документы, И. Е. Забелин так реконструирует вид Голгофы, созданной во дворце по желанию государя: «…в 1679 году, среди верховых церквей, между храма св. Евдокии … и между придела во имя Иоанна Белоградского, Государь повелел устроить Голгофу, где быть Страстям Господним. В узком коридоре, который разделяет эти церкви, живописец Дорофей Ермолаев сделал алебастровый свод, или пещеру, которую ученики его расписали черепашным аспидом, то есть под мрамор. В этой пещере, на каменной горе, расписанной также красками, поставлено было, на большом белом камне, кипарисное Распятие, сохранившееся, кажется, и доныне и вырезанное рельефно старцем Ипполитом, искуснейшим резчиком того времени. Пещера эта была украшена алебастровыми колоннами, на тумбах и наверху с гзымзом; посреди этих колонн, против Голгофской горы поставлена была плащаница, или Гроб Господень, над которым висели на проволоках шестьдесят алебастровых херувимов, расписанных красками по подобию, с золочеными по гунфарбе нетленными венцами и крыльями (240 крыл). Около Гроба Господня, висели также 12 стеклянных лампад, а у стен, стояли живописные картины, изображавшие евангельские притчи: «Сошествие во ад», «Воскресение», «Вознесение» и «Христос явился Марии Магдалине». Эти картины, писанные на полотнах живописцем Иваном Салтановым, вышиною были по 3 аршина, шириною в свету по 13 /4 аршина»1830.
Одновременно с работами по созданию Голгофы начинаются работы в церкви преподобномученицы Евдокии. Этот храм был основан в 1627 г. в честь ангела Царицы Евдокии Лукьяновны, супруги Царя Михаила Федоровича. Царь Федор имел особое отношение к этой церкви. Традиционно домашним храмом Царей был храм Спаса Нерукотворного образа (Верхоспасский собор) с приделом Иоанна Белгородского. Начиная с Пасхи 1678 г., Царь Федор Алексеевич предпочитает слушать службы в Евдокиинской церкви. В 1678–1679 гг. для этой церкви живописцами и резчиками Оружейной палаты делается новый роскошный иконостас, обновляется стенное письмо1831. По-видимому, из-за этих работ царские посещения храма прерываются осенью и зимой 1679 г., но в 1680 г. Царь вновь бывает там очень часто.
В конце ноября 1679 г. царь с царевнами Татьяной Михайловной и Евдокией Алексеевной в третий раз приезжает в Воскресенский монастырь. Вновь он посещает Голгофу, где пели ектенью, после чего была объявлена царская воля о возобновлении строительства соборного храма Воскресения по иерусалимскому образцу и о восстановлении богослужебного устава, как было при Святейшем фундаторе сего места. По словам И. Шушерина, Царь «…вздохнув от сердца, возгорелся ревностью о Боге, подобно благочестивым Греческим Царям Константину Великому, Юстиниану и Феодосию, и положил в уме своем и в сердце довершить ту великую каменную церковь, что и исполнилось … Так Господь Бог изволил призреть свыше Своею милостью на святую обитель, как некогда на древний Иерусалим, и по царскому повелению в запустелом здании возобновилась работа»1832.
Русский Царь со своей царственной родственницей так же, как свв. Император Константин и его мать Царица Елена, возобновляют строительство великого храма, во всем подобного его образцу и исполненного той же благодатью. Это был великий день для Царя, царевны Татьяны Михайловны, братии монастыря, его все еще заточенного основателя Патриарха Никона и всей православной державы.
Строительство возобновилось не сразу. Для попечения о постройке Государь назначает своего ближнего человека Михаила Лихарева. Как отмечает И. Шушерин, к моменту начала работ храм оставался в запустении четырнадцать лет и три месяца со дня взятия Святейшего Патриарха Никона из Воскресенского монастыря в Ферапонтов. Согласно подсчетам архимандрита Леонида (Кавелина) строительство возобновилось весной 1681 г.1833
Примечательно, что, по-видимому, именно в это время (весна – лето 1681 г.) Царь принимает решение о переосвящении Евдокиинского храма в храм во имя Живоносного Воскресения. Последнее упоминание о церкви как Евдокиинской в Книге царских выходов относится к 1 мая 1681 г.1834 Лето 1681 г. принесло Царю Федору Алексеевичу тяжелые испытания: 14 июля скончалась после родов молодая Царица Агафья Симеоновна, а несколькими днями позже – новорожденный Царевич Илья. К июлю же относится и первое упоминание храма как Воскресенского в опубликованных И. Е. Забелиным «Записках строительного дела», а на Преображение (6 августа) в церкви Живоносного Воскресения Царь слушает Литургию. В то же время имеются сведения об освящении храма Воскресения 15 декабря 1681 г.1835 Можно предположить, что речь идет о переосвящении храма после проведения каких-то работ в его алтарной части, иначе трудно примирить противоречия в документах.
Также весной 1681 г. на хорах тогда еще Евдокиинской церкви устраивается небольшой храм в честь Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня, обычно называемый церковью Распятия. Работы были окончены на следующей год. В необычных по составу и технике (живопись с аппликацией из тканей) иконах иконостаса с особой силой звучала тема Страстей1836.
Устройство церкви Воздвижения Креста одновременно с уже существующей Голгофой с Гробом Господним и переосвящение Евдокиинской церкви в честь Живоносного Воскресения Христова явно обозначили внутри Кремлевского дворца священную топографию святого града Иерусалима.
Во всех источниках XVII в. главный храм этого комплекса именуется как церковь Живоносного Воскресения. В XIX в. исследователи называют ее церковью Воскресения Словущего, т.е. посвященной празднику Обновления храма святого Христа и Бога нашего Воскресения. Этот праздник был установлен в честь освящения в 335 г. храма Воскресения в Иерусалиме, сооруженного свв. Константином и Еленой. Решение вопроса о посвящении данного кремлевского храма неоднозначно. Проведенное исследование показало, что, например, в дореволюционной Москве из числящихся 27 Воскресенских церквей 21 была освящена в честь праздника Воскресения Словущего. Но во всех упоминаниях и документах они именуются обычно просто Воскресенскими1837. Возможно, для освящения храма в честь Светлого Христова Воскресения требовался какой-то особый повод, как в случае с храмом Воскресения в монастыре Нового Иерусалима.
Если Кремлевская церковь действительно была освящена в честь Воскресения Словущего, то замысел Царя представляется теснее связанным с воспоминанием о Новом Иерусалиме и возобновлением строительства его главного храма. В чтениях на праздник Воскресения Словущего и в тексте праздничной службы вспоминаются свв. цари-храмоздатели: Соломон, создавший первый храм имени Божьему и благочестивый Константин, создатель храма Воскресения. Некоторые стихиры праздника приобретают в этой исторической перспективе необычно конкретный смысл: «Обновляйся, обновляйся, Новый Иерусалим: прииде бо твой свет, и слава Господня на тебе возсия, сей дом Отец созда: сей дом Сын утверди: сей дом Дух Святый обнови, просвещаяй, и утверждаяй и освящаяй души наша» (стихира Иоанна Монаха).
Праздник Воскресения Словущего является и предпразднеством Воздвижения Креста Господня (празднуются 13–14 сентября ст. ст.), что дополнительно объединяет два храма, устроенные по повелению Царя Федора: служба праздника Воскресения Словущего тесно связана с праздником следующего дня – в ее стихирах звучит славословие Кресту и тема Страстей Христовых, объединяющая оба праздника.
Как мы уже отмечали, эта тема – главная в иконостасе церкви Воздвижения Креста, в котором, помимо собственно страстного ряда, представлен ряд апостолов с орудиями страстей, а в местном ряду – Богоматерь «Умягчение Злых Сердец» («Семистрельная») и «Спас в Терновом Венце». Иконы эти выполнены в 1682 г. живописцем Василием Познанским. В церкви Воскресения иконостас увенчан резным Распятием с предстоящими. Выполненное в 1678–1679 гг. резчиками Оружейной палаты под руководством белорусского мастера Клима Михайлова и расписанное Иваном Салтановым, это одно из ранних точно датированных скульптурных Распятий в навершии иконостаса. Необычен и запрестольный крест этого храма – монументальное кипарисное Распятие, предназначенное, согласно приведенным выше документам, специально для помещения за престол Евдокиинской церкви и в 1680 г. расписанное Карпом Золотаревым. Имеются сведения о том, что тогда же, в 1680 г., Василий Познанский пишет на запрестольном кресте Евдокиинской церкви образ Распятия со Страстями1838. Возможно, имеется в виду сохранившееся на обороте этого резного запрестольного Распятия изображение орудий страстей.
В 1681 г. Царь Федор Алексеевич вкладывает в храм еще один запрестольный крест – также кипарисовый, обложенный серебром с эмалью, а под слюдой – резные сюжеты праздников и страстей. В центре нижней перекладины под стеклом находились реликвии: кусочек Животворящего Древа и Ризы Господней1839.
Возможно, что обширные работы 1678–1682 гг., которые ведутся в Кремлевском дворце по созданию образа «Нового Иерусалима» с темой Страстей как одной из главных тем, к которым обращаются иконописцы, живописцы, архитекторы, резчики, мастера прикладного искусства, а также возобновившиеся работы в Воскресенском монастыре Нового Иерусалима широко отозвались во всем русском церковном художестве в названный и последующий периоды. Этим, возможно, вызвано создание многочисленных иконостасов со страстными чинами и распространение изображения орудий страстей в качестве особого иконографического сюжета.
Но вернемся к хронике посещения Царем подмосковной Палестины. 26 августа столь тяжелого для Государя 1681 г. он со всем семейством вновь в Воскресенском монастыре – на погребении Святейшего Патриарха Никона. Первосвятитель скончался на пути из ссылки, в Ярославле, и Царь повелел похоронить его с подобающими почестями, как Патриарха, на том самом месте, которое Святитель сам устроил, – в Воскресенском соборе, в Предтеченской церкви под Голгофой. Как пишет И. Шушерин, «так благочестивейший Царь … по смерти Святейшего Патриарха явил к нему истинную любовь и сердечную справедливость и сотворил почетное погребение на удивление всем видевшим то и слышавшим»1840. Во время погребения Государь сам читал Апостол, пел вместе с хором и много плакал. Это было его предпоследнее посещение монастыря Нового Иерусалима.
Последний раз Федор Алексеевич приезжает в Никонову обитель 30 ноября 1681 г. На этот раз он приехал один, посетил Голгофу и могилу Святейшего Никона. 21 декабря «Государь повелел устроить, между новою церковью Распятия и своих деревянных комнат в особой небольшой каменной палатке, Вертоград с Господним Гробом. Своды и стены этого Вертограда поручено было обделать мастеру Степану Заруцкому «из алебастрового камени, цветные, с розными краски». Окончить это дело Государь назначил к 10 апреля 1682 г., почему, для поспешенья, работали даже по ночам»1841.
Если раньше Гроб Господень находился «против Голгофской горы», то теперь во дворце для него устраивается отдельное помещение в соответствии со словами Евангелия: «На том месте, где Он был распят, был сад и в саду гроб новый, в котором еще никто не был положен» (Ин. 19, 41–42). Вероятно, это должно было быть совсем небольшое сводчатое помещение вроде Кувуклии над Гробом Господним в Иерусалиме, которое примыкало непосредственно к жилым деревянным комнатам Царя1842. В этом проявилось желание Федора Алексеевича иметь постоянно перед глазами напоминание о смерти и воскресении Спасителя, а также иметь возможность келейной молитвы во всякое время дня и ночи у Гроба Господня. Повеление об устройстве Вертограда – последнее царское деяние, связанное с его замыслом, историю которого мы попытались восстановить.
Отношение Великого Государя Царя и Великого Князя Федора Алексеевича к Воскресенскому монастырю Нового Иерусалима свидетельствует о бесконечной притягательности для молодого Царя грандиозной идеи Святейшего Патриарха Никона. Царь, по свидетельству И. Шушерина, в особенности после кончины Святейшего, повелел строителям спешить и неоскудно давал на монастырские нужды золото, серебро, деньги и утварь. Но, как пишет далее верный клирик Патриарха, Царь так и «не получил того, что сердце его и душа непрестанно желали во все дни жизни: видеть великую церковь законченной и освященной»1843. При жизни Царя Федора Алексеевича собор был доведен только до сводов, а освящен лишь несколько лет спустя после его кончины (в 1685 г.). Может быть, предчувствие кончины подвигло Царя на создание в Кремле «малого подобия» Иерусалима.
Но только ли созерцание «Нового Иерусалима» подвигло на этот замысел Царя? Ведь именно в Кремле родилась и была выпестована идея, глубоко укорененная уже в предшествующих веках, сформировавших символический образ Москвы как «Третьего Рима» и «Нового Иерусалима» – нового Израиля. Здесь, в Кремле несколькими десятилетиями ранее чуть было не осуществилось уже и вещественное подобие Иерусалимского храма – «Святая Святых» Царя Бориса1844. Это отец Царя Федора – Царь Алексей Михайлович вместе с Патриархом Никоном закладывал Воскресенский монастырь и нарек его в письме к Святейшему Новым Иерусалимом. Для его сына, Царя Федора Алексеевича, осознание Русского царства как Святой Руси – хранительницы Вселенского Православия было непреложным. В соответствии с этим образом Небесного царствия, довлеющим земному, Царь предложил, например, проект епархиальной реформы, согласно которому структура церковного священноначалия уподоблялась образу Христа и апостолов: патриарх, 12 митрополитов и 70 епископов. Но не все мыслили так высоко и символично, как Государь, и проект этот не был принят.
Такому пониманию земного и небесного вполне отвечает и создание Царем (новым Соломоном, новым Константином) в своем дворце, уподобленном дворцам святых царей древности, подобия (изображения, иконы) Святой Земли, которое в соответствии с учением Православия, исполняется Божественной благодати, «преображающей земное, восстанавливающей его первозданный союз с небесным, делающей прямым мостом к небесному»1845. Этот «мост к небесному» в неисповедимых путях Господних не суждено было завершить Царю Федору Алексеевичу.
Вертоград с Гробом Господним, как уже упоминалось, Государь назначил окончить к 10 апреля. В 1682 г. 10 апреля приходилось на начало Страстной Седмицы. Понятно желание Царя молиться в страстные дни на Голгофе и у Гроба Господня. Несмотря на то, что работы не прекращались и ночью, согласно архивным документам, в марте мастера еще трут краски к алебастровому Гробу Господню, а каменных дел резец Федор Ручка «со товарищи» чистит свод у алебастрового Гроба1846.
Неизвестно, была ли работа закончена в срок. 16 апреля Государь был в Успенском соборе у Пасхальной заутрени, а 27 апреля Царь Федор Алексеевич скончался. «Он жил к общей радости народа, а умер к общей скорби», – так писал о Великом Государе Царе и Великом Князе Федоре Алексеевиче историк Ф. А. Берх1847. Со смертью Царя замысел его постепенно забылся, в новом царствовании на первый план начинают выходить совсем другие задачи и интересы. Голгофа и Гроб Господень еще упоминаются в описях дворцовых церквей в 1685 г. По-видимому, в 1687 г. Голгофа была разобрана, а кипарисное Распятие с Голгофы перенесли в молельню при Распятской церкви, о чем говорилось выше1848.
«Новый Иерусалим» в Кремле перестал существовать, но не перестал существовать вожделенный образ Святой Руси. История этого замысла по-особому освещает краткое царствование Федора Алексеевича, представляя его как некий эпилог целой эпохи Русского царства.
Царь Федор Алексеевич является перед нами как Государь, который по своим преобразовательным интенциям мог бы изменить русскую жизнь, а по духовным и душевным качествам, как «потаенный сердца человек», по слову апостола, был воплощением образа православного русского Царя1849. Его стремление к «симфоническому» взаимодействию Царства и Церкви оставило по себе память в образе «малого Иерусалима» в Кремле.
«Богоначальным мановением»: песнопение святыням Московского Кремля (Васильева Е. Е.)
Богоначальным мановением
От конец Его повелением
Господни апостолы явльшеся,
Облацы к Гефсимании сшедшеся,
Рождшей Бога Мати предсташа
Обступише одр Ея лобызаша.
Днесь бо Царица в небо преходит
И всех чин ангельских выше всходит.
Царства земнии вси приидите,
Успение Ея предпочтите.
Мир на земли ныне нам явися,
Ад попран бысть, царство отворися.
Радуйся! С Гавриилом Ей взовем
И тем Марию Деву вси почтем.
Юноши и девы, мужи и жены,
Покланяйтесь с горними чинми,
От земли в небо провождающе,
Юницу чисту величающе.
Славим же вси днесь и учителя
Всея России Петра святителя
Яко пастыря всеизряднаго,
Тверда столпа царства российскаго.
И ныне вси людие притецем,
Тако заступнику нашему рцем:
Еже радуйся, святителю,
Людем российским хранителю,
Яко заступник наш преизрядный,
Первопрестольниче преизбранный,
Еже у престола предстоиши,
Ты Христа Бога о нас молиши.
Расторгни молитвами враг наших,
Адских сожителей вселютейших,
Молися Христу нам мир послати,
О вере Его твердо стояти,
Лютых окрест враг побеждати,
Юз адских вечных нам избежати.
Ангельскому ныне подобнику,
Российскому сопрестольнику
Христову святителю Алексию
И заступнику за всю Россию,
Елико нас множество народа
Радостно празднуем вси в день года.
Его днесь память совершающи,
Ясно Христа с нами умоляющи,
Архиерея превеликаго,
Людем всем Бога его сильнаго,
Еже бы нам всех грехов избыти,
К покаянию правде изыти.
Сице вопием мы непрестанно,
И святителя молим преславно,
Яже нам от враг сохранитися,
Чаемых и вечных мук лишитися,
Твоим святым, отче, молением,
У Христа Бога испрошением.
Паки же и пастырю Ионе
Ангельски поем тому в Сионе,
Сладостию внутрь церкви входяще,
Торжество ему вси приносяще
И рекуще: Радуйся пастырю,
Российский славный учителю.
Яко ясный проповедник священ,
Избранне и предивне нося чин,
О Ионо, святителю честный,
Небесный гражданин и истинный,
Умоли владыку о нас Христа,
В небе ныне тебе череда наста,
О нас грешных погубленных страстми.
Зноем греховным исполимы,
Ныне к тебе вси прибегаем,
О тебе помощи днесь желаем,
Шуих стран молися нам избыти,
У Христа в небе венец прияти.
Ерарху днесь Филиппу премудру,
Российскому святителю чюдну,
Ангельски поем вси проповеднику,
Российскому победоноснику.
Хвалами его ныне почтите
А песнми чюдно ублажите.
Филиппе святителю, даждь радости
И притекающим к тебе сладости,
Ликованием к тебе празднуем
И в веселости вси торжествуем.
Паси стадо словесных овец,
Пастырь бо еси и всем отец.
Аще от нас моление кратко,
Блаженство твое до нас пресладко.
Лютых бед молися нам избыти,
А в Христове вере твердо жити,
Жизнь вечную тамо получити,
У Христа нам милости улучити.
И еще прославляем в молении
Славно светящих святых в явлении,
Небесных жителей преблаженных
И на земли от Бога явленных,
Многотрудных и победоносных
И от земли в небо преселенных.
Жертва днесь принесеся Богови,
Единому всех царю Христови
Царскаго рода отрасль честная,
Аки ветвь от древа прекрасная,
Русскаго царства сына царева
Дивнаго рода всяческа слава.
Внидите праздновати преславно
И память почтите все прекрасно
Честнаго страдальца Димитрия,
Аки агнца закланнаго безвинна.
Дары принесем ему пение
И почести от всех поклонение.
Молящеся вопием ти мнози,
Иже бы нам сокрушить врази
Твоими молитвами, страдалче,
Российский славный мучениче,
И молися о державе, сродник,
Яко всем нам еси ты заступник.
Песнопение в честь святынь Московского Кремля во многих отношениях необычно. Начнем с именования: в литературоведении для текстов вне определенного литургического жанра принят термин гимн. Однако в древнерусской литургической традиции это название не применялось. Начальные слова (Богоначальным мановением) и содержание первых стихов узнаваемы как стихира на Успение Богородицы, но текст изложен в иной поэтической системе, обусловленной песенной формой. Кроме того, текст не продолжает тему Успения, он посвящен молитвенному обращению к Богородице, к московским святителям: Петру, Алексею, Ионе, Филиппу и помещенному в сонм не называемых по имени славно светящих святых царевича Димитрия, царскаго рода отрасль, аки ветвь от древа. Соединение этих тем было целью произведения. О том свидетельствует акростих, читаемый по первым буквам стихов, размещенных в привычной для чтения графике:
БОГОРОДИЦУ МАРИЮ ПОЮ
СВЯТИТЕЛЯ ПЕТРА МОЛЮ
АРXIЕРЕЯ АЛЕКСЕЯ ЧТУ
ПАСТИРЯ ИОНУ ВОЗНОШУ
ЕРАРХА ФИЛИППА БЛАЖУ
И С НИМИ ЖЕ ЦАРЕВИЧА ДИМИТРИЯ.
Искусный акростих, имеющий стихотворную форму (пять из шести строк объединены строгим грамматическим параллелизмом и рифмой), отсылает наше внимание к Новоиерусалимской (Никоновской) школе. Общее имя произведений Новоиерусалимских песнотворцев – псалом. Так именно названы все тексты в двух рукописях новоирусалимского круга, донесших псалом Богоначальным мановением.
Таким образом, мы обозначили круг проблем, связанных с псалмом Богоначальным мановением. Пройдем теперь по его отдельным позициям, но прежде сделаем несколько предварительных замечаний, которые помогут установить исторический и стилистический контекст восприятия.
Новоиерусалимская школа песнотворчества явилась первым этапом русской поэзии и музыки Нового времени1850. Значение ее до сих пор недостаточно осознано, а свершения не удержаны преемственной памятью. Становление и возрастание Новоиерусалимской школы промелькнули быстро, оказались слабо запечатленными. Она как будто не успела войти в историческое русло, совершившее несколько скорых и значительных поворотов и к середине XVIII в. определившееся в тех формах, которые принято причислять к своеобразным проявлениям барочного стиля и классицизма (духовные концерты, первые оперы).
Новоиерусалимские псалмы сохранили редчайшее мгновение жизни культуры – переключение в иную систему координат, перемену стиля. При этом изменения затрагивают все аспекты текста, поэтического и музыкального. Но сохраняются функциональные связи, продолжаются аллюзии, пронизывающие всю средневековую культуру и служившие основой многовекового бытия корпуса церковно-певческого искусства. Парадоксальная картина: новое возникает без отрицания предшествующего этапа, его поношения и отречения от него. Внимательное прочтение псалма Богоначальным мановением подтверждает эту ситуацию, обращает к осмыслению исторической реальности.
«Бунташный» XVII в., наполненный политическими страстями, столкновениями интересов, беспощадной полемикой, кажется крайне неподходящим временем для мирного возрастания нового стиля. Однако появляющиеся в последние годы исследования1851, внимательное чтение классических трудов1852 позволяют иначе увидеть события, столь болезненно отозвавшиеся в русской истории, запекшиеся как рана, которую неловко тревожить. Прежде всего придется выйти из русла оценок, сложившихся с позиции раскольников – страдальцев, которым нельзя было не сочувствовать (для русской либеральной мысли страдалец всегда прав, а имеющий власть не стоит сочувствия). Фигура Патриарха Никона, смысл его деятельности с этой позиции непонятны – разве стоила стольких трудов ссора с бывшими друзьями.
Между тем, если взглянуть на дело с прямой, не обращенной позиции, картина представляется иной. Патриарх выполнял то, что должно было Предстоятелю Русской Православной Церкви. Им руководила идея, которая должна была оформить прехождение в иной исторический этап жизни Церкви, церковного народа, государства. Святейший остро ощущал это, переживая опасности, центробежные стремления «бунташного» века. Он считал недопустимым смешивать государственные и церковные дела, потому и добивался, в частности, упразднения Монастырского приказа – Церковь должна быть суверенна в своих делах. Крепость Церкви, ее единство должны быть обеспечены не защитительными (иммунитетными) мерами, но установлением разумного равновесия между вечным и переменным, сохранением и обновлением.
Живой ток церковной жизни – литургика; попечение о ней в форме книжной справы было главным делом патриархов. На долю Патриарха Никона пала самая большая перемена: к этому времени книгопечатание стало реальностью, и появление сразу большого тиража исправленных книг вызвало шок.
Продолжался перевод певческих книг «на речь»1853. В области церковно-певческого искусства XVII в. изобилует новшествами, вырастающими на основе целой системы роспевов, а также входящими в обиход новыми формами, влияниями. В привычной для искусствоведческих обзоров перспективе, измеряющей культуру категориями эстетики, это время перехода от замкнутого средневекового типа к новому, европейскому1854. В крупном масштабе, в перспективе XVIII–XIX вв. этот процесс так и читается, но событийное время XVII–XVIII вв. кажется «пустым», заполненным ожиданием и «примериванием» образцов. На самом же деле это было время творчества, напряженной работы. Оно вмещает не только Новоиерусалимскую школу, но именно в ней происходил уникальный опыт соединения предания с новыми идеями, приемами, формами; вокруг нее располагалось множество обстоятельств и связей, понимание которых позволяет увидеть бурлящую событиями жизнь вместо хрестоматийного прочерка между датами. Рассматриваемый псалом вводит нас в этот мир.
Источники. Каждая рукописная книга новоиерусалимского круга индивидуальна. Первый период их бытования отражен «старейшими рукописными песенниками», которые непосредственно связаны со временем сотворения этой новой формы. Рукописи различаются построением, отчасти составом; порядка полутораста произведений составляют ядро, присутствующее в рукописях, сохранивших свой основной объем. В некоторых из них тексты организованы алфавитным последованием, в других – систематизацией по тематическим группам.
Псалом Богоначальным мановением известен нам по двум рукописям.
1. ГИМ ОР. Муз. № 1743. Л. 215об.–216 (составитель дьякон Дамаскин). Присутствует только во второй, «беловой» части рукописи, в которой тексты не имеют сопровождающих помет.
2. РГБ ОР. Ф. 178 (Унд.) № 9498. Л. 134об.–135. Входит в группу, надписанную «Псалмы об Успении» после Архангелы з неба пришли до Богородицы. Имеет дополнительную помету: Успению пресвятой Богородицы великой церкви Российской1855.
Объем поэтического текста и партитура не имеют разночтений. Графика разворота, вмещающего этот псалом, следует общим правилам НИ-псалмов, усвоивших песенную форму под влиянием кантычек, принесенных в монастырский быт «литовцами» – православными, переселявшимися в Московское царство из Великого княжества Литовского.
Песенная форма определяется соотношением слов и музыки; в графике – соотношением партитур и поэтических текстов. Текст изложен одинаковыми строфами, предназначенными для повторения с одной музыкой, уравненными звучанием. Музыкальная форма, таким образом, становится равноправным структурным компонентом, она огранивает поэтический текст, вмещает его. Не очень умелый стихотворец, случается, оказывается в подчинении у этой формы и теряет энергию мысли, самостоятельность версификации. Умелый же использует строфу как самостоятельную единицу смысла, порой преодолевает структурные грани мощным развертыванием мысли или особыми приемами, связывающими строфы между собой.
Новоиерусалимские псалмы песенной формы родились как часть монастырского быта, как особое послушание; затем эта камерная духовная музыка вышла за монастырские стены, оцерковляя быт; превратившись в духовные стихи, она становилась необходимой частью народной традиционной культуры. При этом высочайшие достижения новоиерусалимских песнотворцев этой традицией не был удержаны.
Тема. Можно рассматривать шесть самостоятельных тем, соединенных в цепь единой формой строфы, и одну, воплощенную в последовании имен и композиции текста в целом. Второй вариант предпочтителен. Аргументами в его пользу являются композиция в целом, а также построение частей – общей идеей для каждой из них и для целого является молитва, в тексте соединены именование и собственно моление. Приведем ключевые выражения по каждой части:
Петру: учитель, людем российским хранитель, заступник, молись о мире, о победе над врагами и крепости в вере.
Алексию: заступник за всю Россию, молим сохраниться от врагов, грехов избыти, к покаянию правде изыти.
Ионе: учитель, проповедник, умоли Христа о нас, погубленных страстми.
Филиппу: проповедник, победоносник, паси стадо словесных овец, молися лютых бед нам избыти, в Христове вере твердо жити.
Купно: Прославляем святых небесных жителей, на земли от Бога явленных, в небо переселенных.
Димитрию: жертва Богови, агнец, ветвь царского древа, иже сокрушить врази, молися о державе.
Предназначение (функция). Песнопение Богоначальным мановением заключает в службе Успению Богородицы микроцикл стихир Великой вечери на Господи воззвах. Его особая функция в службе подчеркнута тем, что текст распет многогласно (не многоголосно! – в монодийном распеве сменяют друг друга все восемь гласов). Это сильный прием, не часто присутствующий в изменяемых по Октоиху частях службы1856.
Псалом Богоначальным мановением начинается инципитной формулой стихиры-славника, но большую его часть составляет молитвенное обращение к святым покровителям храма, града и страны. Это соответствует не менее сильной позиции – заключительному молитвословию иерарха (молитвами святых отец наших…). Выступая за пределы собственно службы1857, наш псалом соотносится с Многолетиями, или Чашей, которые распеваются особенно торжественно в присутствии высших церковных иерархов или государя. Таким образом, в тексте псалма соединены две композиционные вершины, два кульминационных момента особо торжественной службы.
Многогласие в системе роспева – особый композиционный прием, относящийся скорее к архитектонике, нежели к интерпретации (т.е. важно не столько вслушивание в текст по мере его развертывания, сколько структурное членение, обособление стихов; стихира Богоначальным мановением сегментирована одинаково во всех распевах). Псалом Богоначальным мановением написан в песенной форме, т.е. никаких изменений в музыкальном его воплощении от начала до конца нет, сменяют друг друга герои, каждому из которых отведено несколько законченных строф.
Построение и способ изложения, отличающиеся от всей системы роспева, обогащали общее звучание, выделяя яркими акцентами самые важные моменты службы. Таким приемом был многогласный роспев. В Уставе Воскресенского монастыря Нового Иерусалима славники предписывалось исполнять партесным многоголосием (в истории утвердилась неверная интерпретация этого положения – о преобладании партесного пения). Наш псалом, вероятно, и был призван в какой-то мере удвоить традиционный (канонический) текст и оттенить его, изложив иным способом, в новой стилистической системе, которая благодаря этой связи приближается к прежней, священной по издревле установленному преданию и принимает на себя отблеск каноничности.
Исторический контекст. Успенский собор – сердце Московского кремля, символ государства (как София – Новгорода). Особо торжественная служба в Успенском соборе, к которой был приготовлен наш псалом, – состоялась ли она или только задумывалась? Для какой надобности?
События конца XVII в. происходили как будто не однозначно, не окончательно. В царствование Феодора Алексеевича была еще возможность выхода из кризиса, стремительно разворачивавшаяся спираль еще оставляла возможность маневра. Деятельность этого юного царя недостаточно осмыслена историками, но непредвзятый взгляд позволяет заметить сходство не только с дальнейшими действиями его младшего брата – более жесткими, последовательными, необратимыми, решительно отрывающими Россию от предшествующего исторического этапа, но также и с предшествующими идеями.
Фигура Патриарха Никона, его личность, его идеи были важны и дороги Феодору Алексеевичу. Больше написано о личных, семейственных отношениях – о влиянии на него тетки, Татьяны Михайловны, ее рассказов; о личной потребности исправить линию поведения отца, оставившего конфликт с Патриархом неразрешенным и «симфонию» Церкви и государства нарушенной. Но были существенны и собственные намерения – укрепить и возвысить Москву как центр Православия. Идея установления православного папы пока остается историческим ребусом, но укрепление сакрального статуса Москвы – цель, более явственно проявившаяся. Москва мыслилась новым Иерусалимом, московские святыни и святители возвышались и утверждались; их прославление в литургических формах (стихиры, каноны, целостные циклы) развивалось на протяжении полутора веков1858. Псалом Богначальным мановением органично вписывается в эту картину.
Другая сторона исторической ситуации заключена в личностях – люди, их отношения, события их жизни создают историческую реальность. Главными фигурами здесь выступают царь и поэт, Феодор Алексеевич и Герман. Их взаимоотношения начинаются с того, что Герман, духовное чадо и любимый ученик Патриарха Никона, написал псалом Феодору Стратилату, небесному покровителю юного Царя. В его основном акростихе изложена тема (Феодора восхваляю / Да защищает, умоляю / Царя тезоименнаго / Феодора благовернаго); дополнительные содержат дату – лета седмутысящи сто осмдесят шестаго, в осмый день иуния (то есть день тезоименитства Царя в 1678 г.) и подпись убоги чернец Герман. Форма подписи – не этикетное клише, но важное сообщение. Герман, несший послушание строителя, за два года до того претерпел жестокое наказание, был бит шелепами и «разжалован» в чернецы за некое сопротивление властям, начинавшим новый виток судилища над Патриархом Никоном и намеревавшимся изъять из Нового Иерусалима очередную порцию его святынь.
В ответ на это послание Феодор отправил в монастырь стольника с просьбой молиться о победе над турками; вскоре приехал в Новый Иерусалим сам и приезжал еще не раз. Он выстаивал службы на Голгофе, выслушивал приветственные орации старцев Германа и Сергия, просил записать по памяти Устав, каким он сложился при Святейшем, велел написать прошение о возвращении ссыльного патриарха. Германа Царь назначил снова строителем, потом архимандритом, и вместе с ним хоронил Никона в приделе Иоанна Предтечи под Голгофой.
Следует напомнить, что Феодор был не только царь, но и поэт, воспитанный Симеоном Полоцким. Стих из последней части, обращенной к царевичу Димитрию, может быть прочитан как косвенное указание на авторство: молися о державе, сродник.
Указание на дату, к которой был приготовлен псалом, содержится в стихе из части, обращенной к митрополиту Ионе: святителю честный…в небе ныне тебе череда наста. Но здесь придется выбирать между четырьмя днями поминовения (30 марта, 15 июня, 5 октября, 27 мая).
Нужно принять во внимание и другие линии – литературную (тема трех московских святителей присутствует в новоиерусалимских псалмах Святые святители; Светлые светом зело божественным) и событийную, а именно, связи с причтом соборов Московского Кремля (в завещании Германа упомянуты иеродиакон Дамаскин и на Москве Архангельского собора дьякон Авраамий).
Поэтический текст. Каждой из пяти тем отведено по три строфы, последней – четыре. Структура текста и его стиль напоминают композицию и приемы, выработанные новоиерусалимским Месяцесловом. Первая часть, кратко обозначив тему Успения, переходит к прославлению праздника; в обращении к московским святителям практически отсутствуют житийные моменты.
Эпический формульный стиль в меру ясен и прост; свободу и легкость стиху придает разнообразие грамматических форм, перебивы ритма, включение ярких образов. Особенно выразительны строфы, посвященные Успению и царевичу Димитрию.
Версификация. Строфу составляет шесть десятисложных рифмованных попарно стихов. Десятисложник – редкий размер для так называемой силлабической поэзии. Еще большая редкость то, что стих этот не имеет цезуры, т.е. постоянной позиции словосечения. В музыкально-поэтических текстах новоиерусалимских псалмов, как и в унаследованных «польских» образцах, рельеф стиха утверждает его слогоритмическая модель: стихи благодаря соотношению слогов по протяженности «уравниваются», подтягиваются к единому ритмическому образу. В партитурах Германовых псалмов слогоритм часто подвижен, изменчив. Он не столько утверждает единую модель стиха, сколько испытывает ее различными вариантами воплощения слоговой нормы. Этот прием не позволяет утвердиться инерции восприятия.
Десятисложный стих задан строкой стихиры. Искусство новоиерусалимских песнотворцев переложить в песенную форму канонический текст можно оценить по песенным версиям Песни Песней (переложены пять глав). Далеко не всегда объектом песенной версии становился весь текст с сохранением его пропорций; чаще сохранены и узнаваемы начальные разделы. В данном случае строка стихиры играет роль инципитной аллюзии и меры стиха.
Поэтическое мастерство сказывается в устойчивости слоговой нормы. Немногочисленные отступления легко регулируются вариантами грамматических форм или применением поэтических вольностей, среди которых весьма употребительным было применение привычных по «польской» поэзии вариантов слов. Однако в нашем тексте даже условные полонизмы отсутствуют.
Рифмы – по большей части грамматические, следующие из правильного торжественного построения фраз. На этом общем фоне особенно радуют изысканные строки, обращенные к свт. Филиппу: Паси стадо словесных овец / Пастырь бо еси и всем отец. Встречаются иллюзорные рифмы, объединяющие мужскую и женскую клаузулу (как в последней строфе: Молящеся вопием ти мнози/Иже бы нам сокрушить врази)1859.
Акростих. Есть две особенности, отличающие этот псалом от других, имеющих акростихи. Во-первых, это отсутствие имени автора, во-вторых, особенности размещения. Более всех известны псалмы архимандрита Германа с акростихами, совершенными по поэтической технике и органичному сопряжению с основным текстом. В большинстве случаев акростихи составляют систему из двух по-разному размещенных лаконичных текстов, в одном из которых (дополнительном) выписано имя. Менее сложные тексты содержат только акростихи-подписи (Герасима Парфеновича, Василия Титова). Собственно функция акростиха-послания, главной задачей которого было обращение одного лица к другому, реализована и в творчестве стихотворцев Пприказной школы. Новоиерусалимские псалмы отличались от виршей Приказной школы прежде всего тем, что были предназначены для пения и писались вместе с музыкой, запечатленной трехстрочной нотолинейной партитурой.
Здесь кроется еще одно отличие нашего псалма: размещение стихотворных строф под партитурой иное, чем в тексте, предназначенном для чтения. Каждая строфа занимает строку, соответствующую всей музыкальной форме; стихи расположены под соответствующими музыкальными фразами; они выписываются строго по вертикальному ранжиру. Первые буквы столбцов несут акростих, который развернут в плоскости листа по вертикали первого стиха всех строф, затем второго и т.д. Запись одного поэтического текста в соответствующей чтению графике уничтожает акростих, делает его нечитаемым. По первым буквам всех стихов подряд (как в нашем случае) размещены дополнительные акростихи-подписи псалмов Германа, единичный акростих в его же псалме Господи воззвах, не имеющий имени автора акростих в псалме Иже жизни мати (образу Богородицы Знамение). В самых сложных Германовых акростихах из Богородичных псалмов такой способ чтения возможен наряду с чтением по вертикали, диагонали и ломаным линиям.
Наличие акростиха дополняет представление о предназначенности псалма – не только смысловой, функциональной, но и окказиональной, событийной. Тексты с акростихами обращены к определенному кругу восприятия, ведь акростих виден, но не слышим; он имеет значение для читающих/поющих поэтов, не для певчих; его можно распознать только держа в руках написанный текст, и потому по определению он адресован конкретному, хотя и непоименованному лицу или кругу лиц.
Музыкальная форма – песенная, как все вообще новоиерусалимские псалмы. Но форма мелострофы – разомкнутая, преодолевающая статику песенной формы, – не встречается более нигде. Имитационное вступление верхних голосов и противодвижение баса (обращение начальной интонации) создают впечатление их полной самостоятельности. При виде партитуры, в которой отсутствуют координирующие вертикальные черты, поначалу испытываешь растерянность и опасение – уж не произвол, не хаос ли. Однако подсчет длительностей и слогового состава фраз (слова не подтекстованы, помещены под партитурой, и их нужно произнести с каждой партией) успокаивает: все слоги умещаются в мелодические фразы, ни одна из которых не повторяет другую, и все три партии имеют одинаковую общую протяженность. Одна трудность все же остается: последовательному вступлению голосов в первой строфе соответствует их разновременное окончание, так что строфы соединены между собой непрерывным «бегом». Для того, чтобы закончить пение псалма, нужно решить загадку – как остановить этот «бег». Партитура не дает ответа, его должны найти исполнители1860.
Соотношение голосов, намеченное вступлением, сохраняется во всей партитуре: верхние голоса однородны, не различаются ни тесситурой, ни функцией; они перекрещиваются, оплетая друг друга и контрастируя ритмическими рисунками. Бас время от времени выключается из мелодической стихии, утверждая акустическое главенство основного тона (кварто-квинтово-октавные ходы от f). Заметим, что такие эпизоды никогда не приходятся на кадансовую зону, и функционально-гармонические отношения не выявляются. Такая фактура (в отличие от так называемой кантовой) характерна прежде всего для Германовых псалмов; встречается также среди анонимных, авторство которых документально не может быть подтверждено.1861
К концу второго стиха границы соответствующих стихам фраз в трех партиях совпадают, но продолжается разновременное произнесение словесного текста, чередующееся со слитным, одновременным. Столь последовательное и сложное раздробление звучащего тела слова, как в Богоначальным мановением, мы можем встретить только в двух самых крупных Богородичных псалмах Германа1862. Они сродны и по характеру мелоса, бегучего, подвижного, не сосредоточивающего внимания на определенных и характерных мелодических зернах.
Выводы, которые мы можем сделать по описанию трех ипостасей текста. Поэтический текст в высшей степени профессионален, искусен. «Лирический герой», присутствие которого характерно для Воскресенских, Богородичных и некоторых других псалмов Германа, в нем отсутствует. Но то же свойство эпического повествования характерно для его псалмов, обращенных к святителю Николаю, Феодору Стратилату, Макарию Желтоводскому. Их объем вмещает пространные повествования. Здесь же объем ограничен, и повествование сводится к формульному обозначению. Если обратиться к Новоиерусалимскому наследию, то опыт Месяцеслова дает такую свободу и простоту тексту, в котором нетесно десяткам имен. Работа над двумя большими циклами, составляющими основное наследие Новоиерусалимской школы, – Месяцесловом и Алфавитом, – по-видимому, была коллективной. В ней, по предположению А.В. Позднеева, участвовал Епифаний Славинецкий, но музыкальная часть принадлежала кому-то из новоиерусалимской братии.
Партитура сопоставима только с Германовыми – по характерным приемам развития, по интонационным связям, по сосредоточенности в подаче слова. Акростих имеет характерные черты, выдающие особый замысел или особое авторство.
О проблеме авторства рискнем высказать осторожные предположения. Возможно, оно было коллективным. Первые строфы вместе с партитурой, создающие фундамент грандиозного текста, органично вписываются в наследие архимандрита Германа. Последующие строфы могли быть написаны другими. Личность царя Феодора Алексеевича присутствует несомненно, но трудно решить, в каком именно статусе: заказчика, адресата, соавтора или в соединении всех трех.
Окказиональное и событийное время псалма скорее всего связано с завершением торжественной службы в Успенском соборе, причем оно соотносимо с чином торжественных служб Новоиерусалимского монастыря. Как партесные славники завершали пение стихир (празднику или святым), так это необычное песнопение призвано поставить точку в большой службе. Может быть, оно было задумано в связи с очередным этапом собирания святынь Московского государства, а, может быть, готовилось для давно чаемого возвращения из ссылки Святейшего Патриарха Никона.
Новый Иерусалим. (Масленникова Н. В.)
Оставленная пустынь предо мной
Белеется вечернею порой.
Последний луч на ней еще горит,
Но колокол растреснувший молчит.
Его (бывало) заунывный глас
Звал братий к всенощне в сей мирный час.
Зеленый мох, растущий над окном,
Заржавленные ставни – и кругом
Высокая полынь – все, все без слов
Нам говорит о таинстве гробов.
М. Ю. Лермонтов
Эти строки родились в Воскресенске1863, в автографе сделана пометка: «Написано на стенах (пустыни) жилища Никона. 1830 года». Оставленная пустынь – умолкнувшая старина, но заветная, зовущая. Русская Палестина, Новый Иерусалим, образ Града Божия, «шевелящий отрадное мечтанье». Дважды побывал Лермонтов у печерских угодников в Киеве, ходил к Сергию в Троицу, молился на Гробе Господнем и у святителя Никона в Новом Иерусалиме… Три великие святыни России – три могучие опоры русского бытия. Каждая особая, в каждой воплотилась своя эпоха, в каждой бьется своя мысль, но все три слились в один таинственно пульсирующий в русском сердце образ Святой Руси.
Замысел Никона, казавшийся современникам невероятным и даже кощунственным (де Патриархом Иерусалимским гордец хочет стать), потомками воспринимался совсем иначе:
При нем теснится чувствованье
К нам в грудь того, чему нет слов,
Что выше теплого участья,
Святей любви, спокойней счастья1864.
Даже и сегодня, когда о былом величии напоминает, пожалуй, лишь храм Воскресения Христова, невольно поражают воображение «думы великие» дерзновенного Никона – память его в род и род.
Яркая фигура Патриарха Никона, его сложная личность воплотила в себе трагедию эпохи перелома, заката Древней Руси, крушения ее идеалов, эпохи последнего духовного напряжения и почти стремительного сокрушения веры, этого краеугольного камня православного самосознания. Раскол, а вслед за ним и петровские «реформы» предопределили весь дальнейший ход русской истории, судьбу русского народа. Раскрыть тайну Промысла нам не дано, но, чтобы хоть немного приблизиться к ней, нужно пристально вглядеться в человека той эпохи, в его «образ мнений», проникнуть в мир его заветного, прикоснуться к «веку минувшему во всей его истине».
На Руси в XVII в. совершилось «событие, беспримерное в летописях Русской Церкви. Глава Русской Церкви, замечательнейший иерарх ее, выдвинувшийся из среды народа своим умом, энергией и богатством духовных дарований, – знаменитый Патриарх Никон, пал жертвой искусно веденной интриги своих многочисленных врагов» (курсив мой. – Н. М.)1865.
Святейший Никон боролся против цезарепапистского духа эпохи. Несгибаемая воля подвижника Православия, его исповедничество стали могучим залогом противостояния боярскому властолюбию. «Соборное Уложение» (1649) несло с собой расцерковление государства. Учреждение Монастырского приказа отменяло самостоятельность Церкви; этому органу, от нее не зависящему, но активно вмешивавшемуся в церковные дела, вменялся суд над духовенством. В Уложении четко прослеживалась тенденция отъятия церковного имущества, в полной мере воплотившаяся в петровское царствование и приведшая к катастрофическим издержкам в православном просвещении и воспитании народа, ибо обескровленные монастыри уже не могли содержать школ, зато протестантская наука получила повсеместное распространение. Петровский абсолютизм явил собой буквальную пародию на православную монархию, с ее «симфонией» властей, выраженной в значительной степени в самом строе Московского Царства. Таким образом, при Петре именно государство встало на путь внутреннего разорения.
И эта перспектива, и ее последствия были отчетливо видны Патриарху Никону. Ясный ум святителя прозревал всю губительность цезарепапизма (и связанной с ним секуляризации государства) для Руси, что как раз следует из его сочинения «Возражение или Раззорение…»1866. По сути, Никон защищал «симфонию» властей1867, когда кесарю отдается кесарево, а Божие Богу (Мк.12:17); вмешательство светской власти в дела церковные было неприемлемым для Патриарха. Он справедливо считал, что для управления Церковью нужно иметь апостольскую благодать, но не благодать на управление царством. Отстаивая заветы императора Юстиниана, Патриарх Никон, в сущности, отстаивал православное царство, боролся за сохранение исторического бытия русского народа и, наконец, за сам народ – за спасение русского этноса (что с совершенной очевидностью просматривается из исторической перспективы: близорукая политика Петра, инерционная сила его «реформаторства» «подняла Россию на дыбы» [дыбу] «у самой бездны»). «…борьба Никона была исповеднической защитой исконной русской идеологии. Борьба Патриарха была направлена к тому, чтобы Русское государство возглавлялось истинною царскою самодержавною властью, при которой только и возможно осуществление симфонии властей и, следовательно, – процветание Церкви и государства силою православной веры»1868. Все устремления Патриарха были направлены на сохранение авторитета и прав Церкви на фоне усиления секуляризационных тенденций цезарепапизма, хотя в борьбе и желаниях своих он, как человек, не всегда был свободен от промахов и ошибок.
И все же, защищая Святую Русь, Никон предпринимал и шаги поразительные. Один из них – замысел, дерзкий для врагов, но прекрасно-благодатный, чисто русский по творческому размаху, пронзительный и пронзающий века – Русская Палестина. Средоточием ее сакрального пространства стала символическая гора Сион, на которой возвышался Воскресенский собор с кувуклией Гроба Господня; здесь таинственно соединялись мир видимый и невидимый, небо и земля, Гроб Господень и великое чудо Воскресения. Сама архитектоника собора создавала впечатление вертикального (в небо) восхождения, особенно эта мысль подчеркивалась в облике шатра, увенчанного золотым куполом, над ротондой со святым вертепом. В окрестностях монастыря были разбросаны Вифлеем и Вифания, Капернаум, гора Фавор и Елеон, струился поток Кедрон, несла свои полные воды тихая Истра – русский Иордан, Река Жизни (крестившиеся во Христа – крестились в Жизнь Вечную). Очевидно, что в самом распределении топонимики отмечалось стремление к воспроизведению действительной топографии Святой Земли.
Москва почиталась третьим Римом, а между тем рядом с ней вырос третий Иерусалим, ибо: 13 сентября 355 г. был освящен «предреченный пророками Новый Иерусалим, храм Спасителя»; ветхий же, по словам Евсевия, «был обращен в крайнее запустение и понес наказание ради своих нечестивых обитателей»1869. Воссоздавая образ «Нового Иерусалима» на Руси, Патриарх Никон желал, чтобы народ стоял «ногою твердой» («да не преткнеши о камень ногу твою», Пс.90) в вере православной, стремился укрепить ее, задержать надвигающуюся тьму, как будто остановить уходящую Святую Русь. Пожалуй, богословие Никона ярче всего выразилось в устроении сакрального пространства Русской Палестины; архитектурное, ландшафтное, топонимическое решение задачи раскрывало мировоззрение создателя: творец явил себя в своем творении.
Словно образ Града Небесного, сошедший на Русскую землю, покоится Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь в лоне долины Истры – у горы Елеонской, словно тот образ нового города, что спустился «от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. … се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними; они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их» (Откр.21:2–3). Именно эта апостольская мысль раскрывает величие православного родолюба Никона. Так видел Святейший Патриарх свое детище, так замышлял святитель, когда решался на дело великое, неслыханное доселе на Руси. И этот высочайший акт человеческого творчества понимается как некая сверхзадача Спасения, как тот путь, что завещал Никон русскому народу, – благочестие и чистота, созидание во имя Бога и с Богом1870.
Собор Воскресения Христова в Новом Иерусалиме – это евангельская поэма в камне. Живоносный Гроб Господень и Камень, отваленный от Гроба, Камень повития (или миропомазания), «Жалостный путь», Голгофа, Крест Господень и каменные узы Спасителя, приделы Воздвижения Животворящего Креста Господня, Разделения риз, Тернового венца, Успения Пресвятой Богородицы и Усекновения главы Иоанна Предтечи, преподобной Марии Египетской и равноапостольной Марии Магдалины… Поразителен по масштабам и духовной глубине замысел Патриарха: взирая лишь на план-чертеж храма, не перестаешь удивляться, како сей невместимое вместиша… Непостижим Никон! Огромен и непостижим!
В сорока пяти поприщах от Москвы (по словам патриаршего клирика Иоанна Шушерина) Патриарх Никон купил село Воскресенское, где начал возводить монастырь. «Когда настало время освящать церковь, Святейший Патриарх пригласил на торжество Государя, которому так полюбилась местность, что он писал… Никону: “Господь Бог издревле предуготовал место сие на создание монастыря, ибо оно по красоте подобно Иерусалиму”. С радостью прочитав это послание, Святейший Патриарх положил его в кованом серебряном ковчежце под святым престолом и повелел по царскому писанию называть Воскресенский монастырь Новым Иерусалимом.
После того он послал келаря Живоначальной Троицы Сергиева монастыря старца Арсения Суханова в Палестину, в святой град Иерусалим для снятия подобия с иерусалимской церкви Воскресения, которую построила благоверная и христолюбивая Царица Елена. По подобию иерусалимского храма. Никон повелел строить в Воскресенском монастыре весьма большую и просторную церковь, какой во всей России и окрестных государствах до сих пор не обретается, ибо и сама Иерусалимская Святая Церковь от озлобления турков во многих местах разорена и испорчена другими неправославными верами по их обычаям»1871.
Замечательный духовный писатель Андрей Николаевич Муравьев, не раз бывавший в Воскресенской обители, поместил в очерке «Новый Иерусалим» следующий рассказ: «Патриарх Никон построил сперва на сем месте в 1656 г. малую деревянную церковь во имя Воскресения Христова, потом, получив модель из Иерусалима, он приступил к созиданию сего храма и воздвиг его почти по самые своды, в течение девяти лет вольного своего заключения в сей обители… Он прожил все сие время в пустынном столпе, на берегу Истры, его Иордана, и заботился ревностно о строении храма, делая сам кирпичи и нося их как простой каменщик. Когда… был он совсем отчужден от патриаршеского служения и сослан на Бело озеро, остановилась и работа храма, и в таком положении оставался он 13 лет, доколе Царь Феодор Алексеевич… не повелел продолжать строение. …но здание было окончено только в 1685 г., уже при двух Царях Иоанне и Петре, и храм освящен в их присутствии Патриархом Иоакимом. По разрушении же каменного шатра над Св. Гробом и после бывшего пожара, церковь сия опять пребыла в запустении 26 лет, доколе… Царица Елисавета Петровна, тронутая величием обители, не повелела возобновить ее со всевозможным великолепием, назначив архитектором знаменитого графа Растрелли»1872. В XVIII в. возник благочестивый обычай освящать в соборе престолы в память о небесных покровителях Дома Романовых; но не только августейшие особы оставили здесь свой след, – и простые русские люди украшали и обустраивали приделы храма, и постепенно он становился памятником священной русской истории.
Новый Иерусалим А. Н. Муравьев посетил еще до своего путешествия в Святую Землю (1829), но русская обитель именно там, на Востоке, получила для него «новую занимательность»: «Посреди храма Воскресения, – вспоминал путешественник, – мне утешительно было рассказывать братии палестинской, что и у нас в России есть подобие их великой святыни, и как поверял я мысленно в древнем Иерусалиме здания нового, так пожелал я, по моем возвращении, опять на него взглянуть, при свежих еще впечатлениях древнего, чтобы утешить сердце священным сходством обоих» (с. VI). Муравьев оставил множество чудных, поэтических зарисовок Русской Палестины. Сегодня для нас, обездоленных и обобранных безбожным столетием, они чрезвычайно интересны и ценны, особенно как историческое свидетельство ушедшей России.
«Пышное, игривое зодчество» собора впечатляло поклонника еще издали: «это чудная гора малых куполов и глав, своенравными уступами восходящая до двух главных куполов храма, и вся сия гора на разных высотах усыпана золотыми крестами, напоминая житейское крестное восхождение наше. Но, хотя зрелище сие великолепно и вполне достойно громкого названия Нового Иерусалима, оно совершенно отлично от образца своего. … здесь… все еще ново и свежо: четыре малые часовни, едва подымаясь поверх земли, окружают большой купол подземной церкви Обретения; еще выше две легкие главы, по обеим сторонам соборного алтаря, знаменуют многочисленные приделы внутренней галереи, и еще две главы над Голгофою и Гефсиманиею, с южной и северной стороны храма, довершают стройную красоту здания, правильного в частях своих, когда в Иерусалиме самая местность не позволяла соблюдать симметрии» (с. 83–84). Вместе с тем Муравьев говорит и о поразительном сходстве обоих Иерусалимов: «Те же двойные врата … та же высота стены соборной, то же число окон во втором ярусе, и я даже узнал окно моей келии над церковью Елены. Самая церковь сия, посвященная здесь памяти Марии Египетской, прилеплена к храму подобно как в Иерусалиме…» (с. 84). В никоновом монастыре поклонник предается драгоценным воспоминаниям Палестины, он говорит о радостном трепете сердца, когда вступает в храм – «…так некогда вступал я и в святилище Палестины… “Что скажете?” – спросил архимандрит. – Я в Палестине!» (с. 88–89).
«Священное сходство» двух Иерусалимов словно приближает к постижению неизреченной тайны Воскресения, душа внимает «неба содроганью», внимает и до днесь… А тогда – «…я проникнул в самый утес Святого Гроба, – пишет Муравьев, – я опять простерся перед каменною плитою, на коей долженствовало лежать Божественное Тело, я готов был повторить те же молитвы, как в Иерусалиме, и мысленно повторил их; ибо все, что окружало, переносило меня к дивному образу сего места, и полумрак гробового покоя, слабо освещаемого одною лампадой вместо бесчисленных лампад иерусалимских, давал мне свободу дополнять воображением внутреннее убранство вертепа. О как отрадно находить посреди пустыни житейской, такое близкое к истине повторение желанных предметов! … “Был ли здесь архиепископ горы Фавора Иерофей, присланный за милостыней от Патриарха Иерусалимского?” – Был и плакал, при виде сего Гроба, – отвечал архимандрит» (с. 91–92).
В 1837 г., посетив с государем наследником цесаревичем Александром Николаевичем Новый Иерусалим, Муравьев вспоминал: «Уединенно стоял я в пещере Святого Гроба, когда великий князь, отслушав многолетие посреди храма Воскресения, взошел на коленях, сквозь низкое отверстие, во внутренность вертепа. С благоговением простерся он перед подобием той гробницы, которая, по выражению Шатобриана, одна только из всех гробниц никого не отдаст из недр своих в последний день. Бездна божественных воспоминаний, необычайность самого вертепа поразили царственного поклонника. Видя его, простертого на молитве пред Священным Гробом, помыслил я о державных богомольцах Запада и Востока, приходивших в течение стольких веков разрешать свои обеты в святилище иерусалимском, и весь исполнился минувшего» (с. 163).
Эти драгоценные духовные переживания, эти таинственные встречи, исполненные неизреченных молитв, эту радость Богообщения, счастье смиренного преклонения у Гроба Господня, здесь, на Руси, – это дивное чудо подарил нам Святейший Патриарх Никон. Эти трудно поддающиеся описанию святые чувства испытывали в Воскресенской обители бесчисленные поклонники нашего необозримого отечества. Так было в России… Монастырь стал ее великой святыней. Сия икона Святой Земли, восходящая к своему первообразу, напитала молитвенным благочестием не одно поколение русских, но не только – ведь у Никона «жило много иноземцев в монашеском и белецком чине: греки, поляки, малорусы, белорусы, новокрещеные немцы и евреи, и много народу приезжало из разных стран и земель, желая видеть Патриарха и его великое строение; он же всех с радостью принимал»1873. Принимает и теперь. Нет лишь прежнего благолепия. Тишина ушла…1874
17 августа 1681 г. Патриарх Никон скончался в Ярославле, на берегу Которосли; 26 августа он был погребен в Воскресенском соборе, в приделе Усекновения главы Иоанна Предтечи под Голгофой, в Новом Иерусалиме – Русская Палестина стала последней земной обителью опального Патриарха. Архимандрит Герман (постриженник Никона, настоятель монастыря в 1681–1682 гг.) составил две стихотворные эпитафии Патриарху; в одной есть такие слова: «Аки столпъ каменнъ или крепкiй отъ древъ / Стояше твердо, яко въ небо доспевъ, / Никонъ, отец и молебникъ нашъ къ Богу, / Приведый въ благость человекъ часть многу».
Почитание Святителя Никона установилось с XVII в. «Горячо и искренно любили Патриарха Никона люди благонамеренные, – писал архимандрит Леонид, – а ненавидели лишь те, для своеволия которых он был “Божия гроза”»1875. В середине 30-х гг. XX в. прах Никона был осквернен, гробница вскрыта и ограблена1876. Однако почитание Святейшего Патриарха сохранилось в благочестивом русском народе – Господь услышал праведную молитву: в 70-х гг. началось восстановление монастыря, тогда же возобновились, правда тайные, панихиды на гробе Никона, а в настоящее время он открыт для молитвенного поклонения.
Постепенно возрождается Русская Палестина; в 1995 г. Ново-Иерусалимский монастырь был передан в ставропигию Русской Православной Церкви, основные объемы его восстановлены, но, конечно, до прежнего благолепия безмерно далеко. И кто знает, сколько лет пройдет до той поры, когда тихий подвижник сможет повторить вслед за архимандритом А., некогда сопровождавшим по святой обители Муравьева: «Истинно достоин удивления храм сей. И всякий, кто только его видел, восхищается. Не говоря уже о красоте зодчества и о священном подобии, нельзя не изумляться обширности и вместе стройности всех частей. Можно в одно время совершать обедню на нескольких престолах, и одна литургия не воспрепятствует другой, ибо голоса не будут сливаться. Здесь, со времени основания храма, каждая царственная десница устрояла придел в честь тезоименитого святого…» (с. 95).
Воскресенский монастырь Нового Иерусалима как образ Святой Земли стал удивительным памятником русской святости. Патриарха Никона вдохновляла мысль о воплощении Града Божия на Руси, он стремился напитать Русскую землю благодатью Святого Духа, душа его горела о Славе Божией, а грандиозная идея Русской Палестины выросла из толщи народной, той самой, откуда вышел и святитель.
Показательно, что русская духовная культура «не только бережно сохранила понятие “Палестина”, но и наделила его очень теплыми коннотациями “отечества, отчизны, родины” (народное: в наших палестинах – у нас на родине, Даль)»1877; язык народа вернее всего выражает его суть, его природу – и почитание Святой Земли как своего отечества1878 только еще раз указывает на богоносное начало души русской. И как поразительно раскрылось оно в стихотворении Лермонтова «Ветка Палестины». Каким томлением духа, «звуками небес», тоской по Богу оно дышит:
<…>
Заботой тайною хранима,
Перед иконой золотой
Стоишь ты, ветвь Ерусалима,
Святыни верный часовой!
Прозрачный сумрак, луч лампады,
Кивот и крест, символ святой…
Все полно мира и отрады
Вокруг тебя и над тобой (с. 29).
Как чудная молитва, стихи эти исторглись из души поэта в «минуту жизни трудную». В них излилось благочестивое чувство русского, вызванное лишь одним соприкосновением с напоминанием о Палестине, – в образной у А. Н. Муравьева были написаны эти строки, «по внезапному вдохновению», «при виде палестинских пальм», принесенных хозяином дома с Востока. Ветви эти Муравьев подарил Лермонтову, он хранил их как святыню в «ящике под стеклом», по смерти поэта они покоились на гробе его в Тарханах.
***
«Светися, светися, Новый Иерусалиме, Слава бо Господня на тебе возсия», – так радостно поет народ наш во Святую и Великую Неделю Пасхи. Так весело ликует душа русская, исполненная этим благодатным новоеирусалимским свечением, где бы ни был в тот Красный день православный человек. Но теперь даже трудно представить, как всего лишь сто лет назад ликовало сердце русского здесь, у святителя Никона, в Новом Иерусалиме; здесь, где тот Гроб Господень, к которому глубоким утром пришли мироносицы-жены и, узрев ангела, услышали: «Что ищите живаго с мертвыми; что плачете нетленнаго во тли; шедше проповедите учеником его». Здесь, где так близко чудо Воскресения, что, кажется, к нему можно прикоснуться всем существом своим, всем естеством, узреть Его, как некогда узрела Мария из Магдалы… Воистину ангельское пение переполняло храм и «молчала всякая плоть» и «всякое дыхание хвалило Господа», и слышался как будто откуда-то из горних пределов голос самого Священномученика Патриарха Никона: «Приидите, поклонимся и припадем самому Христу, Цареви и Богу Нашему». И лилась великая и священная песнь Примирения и Любви: «Воскресения день, и просветимся торжеством, и друг друга обимем. Рцем братие, и ненавидящым нас, простим вся воскресением, и тако возопиим: Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав».
***
Радея о благолепии Руси, Святейший Патриарх Никон строил храмы и монастыри (Крестный, Иверский, Воскресенский). «Он понимал, что храм – это есть как бы книга, живое существо, воплощение религиозного восторга»1879. Мысль эта выражена, так сказать, «вещно», материально прежде всего в духоносном зодчестве Воскресенского монастыря Нового Иерусалима. Священное сходство обоих Иерусалимов, внятное духовному взору православных русских и поныне (наша Палестина), кажется, отчасти приоткрывает великую тайну Святейшего Патриарха Никона, а, значит, и великую тайну эпохи – прощального поклона Древней Руси, но поклона заветного.
«Русская Палестина» как архитектурно-ландшафтный и историко-богословский комплекс (вопросы градостроительной реставрации) (Выборный В. Н.)
Почти 350 лет назад к северо-западу от Москвы, на берегах реки Истры Патриархом Никоном была создана подмосковная Палестина, включавшая Воскресенский монастырь Нового Иерусалима и обширные прилегающие территории. Определение границ и состава объектов «Русской Палестины» является одной из важных задач сохранения и восстановления этого историко-богословского и архитектурно-ландшафтного комплекса, в том числе градостроительными средствами и методами.
Воскресенский монастырь Нового Иерусалима – этот единственный в мире монастырь, созданный по Иерусалимскому образцу, – является одним из наиболее значительных ансамблей русского зодчества второй половины XVII в., памятником истории и культуры федерального (общероссийского) значения.
Новый Иерусалим основан Патриархом Никоном в 1656 г., он же был его первостроителем. Как законченный ансамбль монастырь сложился в 90-х гг. XVII в., с завершением строительства основных каменных зданий и сооружений; в середине XVIII в., в ходе больших ремонтных работ, произошло изменение архитектурного облика обители. Хотя храм Воскресения и строился, по выражению современников, «во образ Иерусалимские церкви», но в целом был возведен в полном соответствии с русским миросозерцанием, вкусом.
Как можно заключить по действиям Патриарха Никона в 50–60-х гг., его намерением было воспроизвести под Москвой копию древнего Иерусалима, которая должна была заменить для жителей Российского государства Святой город, находившийся в то время в иноверных руках, и создать новый центр религиозного тяготения. За время существования Воскресенского монастыря Нового Иерусалима постепенно сложился уникальный ансамбль, соединивший архитектурные стили и мотивы второй половины XVII и середины XVIII вв., а также отдельные элементы начала и конца XIX в. Воскресенский собор стал беспримерным и единственным в России.
В монастырский комплекс Нового Иерусалима входит обширная территория, тесно связанная с монастырем на всем протяжении его развития от самого его основания. С возведением монастыря преобразился сам характер местности – был значительно изменен рельеф: подсыпан монастырский холм Сион, спрямлено русло реки Истры – Иордана, прорыта речка Золотушка – поток Кедрон, устроена гидросистема – канал с множеством прудов. В окрестностях монастыря появились Гефсиманский сад, роща Уриин сад, аллеи вокруг монастыря – к Скиту, к Елеонской часовне и т.д. На обширной территории со второй половины XVII в. строились часовни, ставились поклонные кресты, устраивались различные дворы – конные, хозяйственные, скотные, кирпичные и иные производства, монастырские гостиницы, странноприимные дома, школы, всевозможные мастерские, мельницы, сараи и прочие строения. После пожаров и наводнений реки Истры гибли или разбирались одни и возводились другие строения, менялись места хозяйственных построек, вырубались одни рощи и сады, насаждались новые; прокладывались дороги, активно использовались сельхозугодья – пашни, луга, сенокосы и т.д.
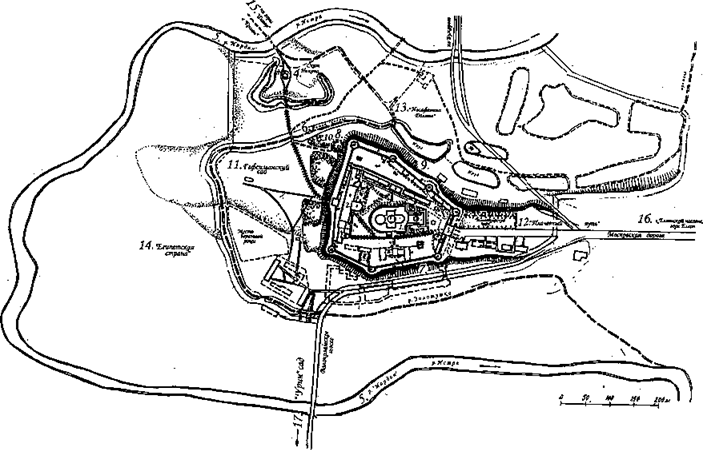
План-схема Воскресенского монастыря Нового Иерусалима
1 – Воскресенский собор, 2 – ц. Рождества Христова, 3 – ц. Входа в Иерусалим, 4 – ц. Богоявленская, Скит Патриарха Никона – Богоявленская пустынь, 5 – р. Иордан, 6 – поток Кедрон, 7 – холм Сион, 8 – Самарянский колодец, 9 – Силоамская купель, 10 – Мамврийский дуб, 11 – Гефсиманский сад, 12 – Плачевный путь, 13 – Иосафатова долина, 14 – Египетская страна, 15 – г. Фавор, 16 – Елеонская часовня, г. Елеон, 17 – Урин сад
Ряду ближайших к монастырю мест в 50–70-х гг. XVII в. Патриарх Никон дал библейские названия. Объекты, элементы ландшафта в окрестностях монастыря, посвященные отдельным историко-церковным событиям либо значимым в богословском отношении географическим точкам, сложились в грандиозную панораму событий и идей сакрального и исторического значения в нерасторжимом единстве, вызывающую те же чувства, которые естественно возникают на Святой Земле, в Золотом Иерусалиме.
Район размещения православных русских святынь «Русская Палестина» – это святая заповедная земля. Уже во второй половине XVII в. при Патриархе Никоне пространство это обрело ореол святости, что постоянно учитывалось в хозяйствовании, в природоохранной деятельности монастыря.
Святые места «Нового Иерусалима» воссоздавали полный цикл Христологических праздников, связанных со Святой Землей1880.
Территорию подмосковной Палестины можно сравнить со своего рода ожившим чертежом, где все масштабно уменьшено, единым взглядом обозримо (почти полностью обозревается с кольцевого гульбища верхнего уровня Ротонды Воскресенского собора, а Воскресенский собор в свою очередь виден с большинства святых мест), но соотнесено друг с другом и новозаветной топографией с возможной для данной местности точностью. При устроении «Нового Иерусалима» основным принципом расположения святых мест по отношению к Воскресенскому монастырю был принцип топографического соответствия христианским святыням Палестины с центром – градом Иерусалимом на горе Сион. Наряду с этим соблюдался принцип образного и символического воспроизведения первообразов; следует отметить и визуальное сходство, сближающее некоторые святые места Нового Иерусалима с Палестинскими прототипами. Отстоящие друг от друга на многие километры святые места Палестины представлены в «Новом Иерусалиме» на одной «плоскости»: Воскресенский собор выделен как смысловой и композиционный центр; территория к востоку от монастыря воспроизводит восточные окрестности Иерусалима достаточно точно; территория к северу воспроизводит образ святых мест, соответствующих Палестинской Галилее.
Отдельные элементы комплекса «Русская Палестина», историко-культурная топография, структурно-пространственный аспект имеют определяющее значение в организации и выявлении его границ, режимов регламентирования, функционирования, хозяйственного использования, реконструкции и благоустройства.
Первоначальный принцип расположения Святых мест «Нового Иерусалима» по отношению к Воскресенскому монастырю – принцип воссоздания новозаветной священной топографии, топографического соответствия христианским святыням Палестины, центром которых почитается святой град Иерусалим.
На территории к востоку от Сионского холма с Воскресенским монастырем воспроизведены восточные окрестности Иерусалима. Палестинский Елеон расположен к востоку от Иерусалима. С этой Горы вознесся Христос. В соответствии с этим значением Елеона деревня Котельниково на берегу реки Истры, к югу от Елеонского Креста, была названа селом Вознесенским – это новое название упоминается в документах 1662–1666 гг.1881
К востоку от Елеонского Креста находилось село Сафатово-Воскресенское на речке Песочне – бывшая вотчина боярина Р. Ф. Боборыкина, купленная в 1656 г. Патриархом Никоном. Здесь на старом погосте стояла деревянная церковь Воскресения Христова. Патриарх Никон перенес эту церковь и все дворовое строение из села Сафатово-Воскресенское на новое место, «а старое церковное место покинул впусте и под пашню»1882.
В 1658 г. между Патриархом Никоном и Р.Ф. Боборыкиным был заключен «уговор» об устроении в Сафатове-Воскресенском женского монастыря «на память родителям» Боборыкина. Строительство обязывался вести Патриарх на средства боярина: «И Никон Патриарх, по уговору, на том мест почал запасы готовить и церковь деревянную по ставил, и кельи строили, и старицы собраны». Однако Боборыкин не выполнил уговор и денег на строительство не прислал. Тогда Патриарх «велел монастырь на ином месте построить», что принесло ему «великие убытки»1883. Так началась история Девичьего монастыря в Новом Иерусалиме. Сохранился письменный источник, позволяющий поставить эту девичью обитель, после 1666 г. упраздненную, в ряд Святых мест «Русской Палестины» времени Патриарха Никона: «Лета 7168 (1659) сентября в 15 день пожаловала сию книгу Евангелие Великая Государыня и Великая Княжна Татиана Михайловна в церковь Вход в Иерусалим в Новодевичий монастырь, нарицаемый Вифания». Подобную надпись, позже частично выскобленную, имела и Минея служебная на сентябрь, вложенная царевной Татианой Михайловной одновременно с Евангелием. На обороте переплетной доски Минеи сохранилась надпись: «Из девича монастыря, из Вифании»1884.
Предположительно, эти книги были вложены в тот Девичий монастырь, который существовал с 1658 г. По упразднении, после 1666 г., Вифанской обители ее имущество было передано в Воскресенский монастырь.
Новодевичий монастырь, нарицаемый «Вифания», топографически соответствовал Палестинской Вифании, расположенной на восточном склоне горы Елеон. Там произошло воскрешение праведного Лазаря Четверодневного; жили его сестры Мария и Марфа. Оттуда начался вход Христа в Иерусалим на Крестные страдания. Таким образом, Вифания Нового Иерусалима, находившаяся первоначально к востоку от Воскресенского монастыря вблизи Большой Московской дороги, была соотнесена с Палестинским прообразом достаточно точно.
В восточном направлении монастырь Нового Иерусалима соединялся с Елеонской часовней дорогой-аллеей, названной «Плачевный путь».
Местность к северу от Воскресенского монастыря «Новый Иерусалим» стала подобием, образом Святых мест, соответствующих Палестинской Галилее. Там, в городе Назарете, прошло детство и отрочество Спасителя. Отсюда Христос приходил на Иордан креститься у св. Иоанна Предтечи. Позже Христос избрал для жительства другое поселение Галилеи – Капернаум, расположенный на Генисаретском (Тивериадском) озере. Преображение Христа совершилось также в Галилее – на горе Фавор. Вблизи Назарета и Фавора был расположен город Кана, где Христос совершил свое первое чудо, превратив воду в вино на свадебном пиру.

План г. Воскресенска. 1766 г. ЦГАДА. Ф. 1356. № 166, инв. № 27997

План-схема «Русская Палестина»
Основные тракты – Большие дороги
Монастырь в стенах
Местоположение монастырских садов и рощ
Территория г. Истра – Воскресенска в границах XIX в.
Исторические населенные пункты в границах XVII в.
Церкви и часовни
Территория объекта историко-культурного наследия – Воскресенского монастыря «Новый Иерусалим»
Зона архитектурно-ландшафтного, историко-богословского комплекса «Русские Палестины»
В «Новом Иерусалиме» Галилея располагалась за Истрой – Иорданом. К северо-западу от Воскресенского монастыря расположены холмы, названные в ХVII в. Фавором и Ермоном. На Фаворе находился скотный двор, где содержали овец.
К востоку от холма – село Микулино (Никулино), переименованное после его покупки Патриархом Никоном в Преображенское. Согласно купчей 1657 г., деревянный Микулинский храм в это время имел престолы «во имя Пресвятые Богородицы, да в пределах Трех Святителей… да великого чудотворца Николы, да великомученика Георгия…». Переименование села, предположительно, было связано со строительством храма Преображения Господня. По переписным книгам 1678 г., в селе значится каменная «церковь Преображение Господне, да в пределе св. Николая Чудотворца»1885.
К востоку от монастыря один из холмов Ново-Иерусалимской Галилеи был назван Рама. Согласно приходно-расходной книге Воскресенского монастыря за 1693 г., на Раме находился скотный двор.
В купчей на село Микулино значится «пустошь Зиновьева на ручью». Следовательно, деревня возникла уже после покупки Патриархом земель к северу от Воскресенского монастыря. Территориально она была близка к Преображенскому – Микулино. Капернаум (деревня Зиновьева), несомненно, возник по замыслу Патриарха Никона – он упоминается в документах 1666 г.; в 1678 г. это было небольшое поселение, почти втрое меньше, чем Преображенское: «Деревня Зиновьева на ручью, что ныне словет Капернаумова, а в ней крестьянских и бобыльских 7 дворов, людей в них 34 человека»1886.
Весомых оснований предполагать, каким мыслилось будущее Капернаума в системе Святых мест «Нового Иерусалима», нет. Но факт, что деревня располагалась «на ручью», говорит о бережном сохранении особенностей палестинского прототипа. Предположительно, не исключено было в дальнейшем устройство здесь же Генисаретского озера.
Галилея «Нового Иерусалима», в итоге, может быть представлена как обширная территория к северу от Воскресенского монастыря: на ней находились село Преображенское – Микулино (Никулино) с церковью Преображения, деревня Капернаум (Зиновьева), холмы Фавор и Рама со скотными дворами.
К северу от монастыря пойма реки Истры – Иордана была названа Иосафатовой долиной. У подножия монастырского холма был устроен Самарянский колодезь.
Все эти места зримо напоминали о христианских святынях северной области Палестины.
Территории к западу от Воскресенского монастыря, принадлежавшие монастырю Нового Иерусалима, не выходили за пределы реки Истры. На левом ее берегу в 1658 г. Патриархом Никоном был построен Скит, называвшийся «пустынькой на острову». Вытянутое по вертикали здание Скита своеобразно воплощает идею столпничества. Оно было выделено на окружающем его ландшафте копаными водоемами, которые не только отделяли, но и как бы отдаляли Скит от комплекса монастыря.
Так, сооружение и ландшафт создавали образ столпничества, пустынножительства, а собственно наличие Скита расширяло смысловые аспекты прилегающей к монастырю территории – он становился не только топографическим, но и символическим воспроизведением обширных Палестинских областей. Если Истра была переименована в Иордан, то одна из двух церквей Скита именовалась Богоявленской, напоминая об основном евангельском событии, связанном с Иорданом, – Крещении Иисуса Христа.
Местность между речкой Золотушкой – Кедронским потоком – и рекой Истрой-Иорданом именовалась Египетской страной.
Здесь, у подножия монастырского холма, устроена Силоамская купель. К западу от монастыря располагался и Мамврийский дуб, напоминавший паломникам о Божественном посещении Авраама тремя ангелами; он сохранялся до середины XX в.
Территории к югу от Воскресенского монастыря в составе монастыря Нового Иеру салима, могут рассматриваться пока только предположительно. В Палестине к югу от Иерусалима находится одна из наиболее чтимых христианских святынь – город Вифлеем с византийской базиликой Рождества Христова. Известно, что Вифлеем был и в Новом Иерусалиме. Но расположение его в 60-х гг. XVII в. неизвестно. Неизвестно также, что имелось в виду под этим названием – только местность, или одно из монастырских сел с церковью (скорее всего – деревянной) в честь Рождества Христова. Возможно, у Патриарха Никона было намерение создать архитектурный образ Вифлеема – у него имелись документальные источники: деревянная кипарисовая модель Вифлеемской базилики и, может быть, чертежи из книги Бернардино Амико, где Вифлеемский собор изображен с планами и разрезами. В основном же письменном источнике по строительству Нового Иерусалима – «Проскинитарии» иеромонаха Арсения (Суханова) – расположение Вифлеема и сам храм описаны достаточно подробно: «Из Иерусалима идти в Вифлеем в Давыдовы врата… и отшед от Иерусалима версты с четыре, на самой дороге, стоит монастырь… пророка Ильи… от того монастыря до Вифлеема версты с три. От Иерусалима в Вифлеем верст с семь или мало больше, на полудни… Идучи от монастыря пророка Ильи к Вифлеему, на полудороге… кладбище старое… Вифлеем есть село, стоит на горе, сказывают в нем дворов с 300»1887.
Здесь, в Подмосковье, к югу от монастыря были места очень удобные и подходящие для устроения Вифлеема – по дороге в направлении Звенигорода можно было попасть на городище с деревянной церковью св. пророка Ильи, где в XVII в. еще находился древний погост. Местность холмистая. Так что топография близка описанной в «Проскинитарии». Все это, безусловно, учитывалось Патриархом Никоном.
Многие элементы богословского, церковно-исторического и ландшафтно-архитектурного комплекса «Русская Палестина» сохранились, и ныне требуется их самая тщательная охрана в качестве уникального памятника культуры России, не имеющего аналогов в отечественной и мировой культуре, а также особо бережное отношение.
В 1996 г. был выполнен проект по сохранению и благоустройству Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря. В его составе на инициативной основе впервые разработан «Историко-археологический, архитектурно-ландшафтный опорный план» на весь монастырский комплекс, включая прилегающие территории, авторами которого явились архитекторы Г. С. Алимова, М. А. Верховская, В. Н. Выборный и архивист В. В. Зубарев («Экоград-Наследие», ФГУП «Гипрогор», 1995–1998, 2004 гг.). За основу восстановления и реставрации ландшафта, планировки и благоустройства монастыря в этом проекте приняты:
– общее состояние территории монастыря на 50–80-е гг. XIX в. как периода завершения формирования комплекса (на этот период в ансамбль монастыря входило около 90 строений, в том числе 7 соборных и церковных сооружений с 42 приделами в них, 6 часовен, трапезные, братские, настоятельские, больничные кельи, службы и хозпостройки, 5 колодцев и 3 источника);
– параметры сооружений, отметки фундаментов и подвалов, цокольных частей, входов и т.п. во взаимосвязи с первоначальным и фактическим уровнем земли;
– местоположение утраченных сооружений, братских кладбищ, садов, колодцев, основных элементов благоустройства;
– параметры и характеристика насыпных грунтов, относящихся к различным периодам строительства монастыря;
– особенности гидрологии.
Предложено восстановить гидросистему «Кедронского потока» и монастырских прудов у подножия холма. Территория монастыря – 4,95 га, монастырского комплекса «Русская Палестина» – 65 га.
Проектом предполагается выделить историко-культурный и архитектурно-ландшафтный, историко-богословский комплекс «Русская Палестина» в качестве памятника истории и культуры со статусом «Историко-ландшафтного и архитектурного территориального комплекса» с регламентированием функционального использования и всех видов деятельности, строительства, благоустройства. Основная богословская, церковно-историческая и пространственно-структурная концепция, идея, заложенная первоначально Патриархом Никоном, во многом сохранилась неизменной в своей сущности и может быть уточнена-выявлена методами консервации и градостроительно-ландшафтной реставрации: расчисткой секторов обзора, нейтрализацией активно-диссонансных объектов и участков, градостроительным регламентированием строительства всех видов, восстановлением церквей и памятных мест, установлением поклонных крестов и т.п. – с включением в сакрально-богослужебное пространство основных участков комплекса уже на первом этапе, с организацией пешего пути для паломников по основным местам и объектам «Русской Палестины».
В ходе работы были проанализированы основные материалы по данной теме (по состоянию на 1995 г.) с определением динамики, тенденций и особенностей, месторасположения объектов монастырского комплекса, выявлен ряд историко-архивных материалов по владениям, землепользованию, хозяйственной деятельности монастыря и владельцев соседних земель, позволивших уточнить эволюцию освоения монастырских земель, застроенных территорий и ландшафтов. Это сделало возможным в достаточной мере обоснованно проработать пространственно-территориальную схему исторической структуры и визуального образа исторического ландшафта вокруг монастыря. В результате предложено градостроительное регламентирование и градо-экологическое зонирование территории комплекса «Русская Палестина»1888, включая территории объектов культурного наследия и зон их охраны.
Регламенты использования, реконструкции и благоустройства территорий «Русской Палестины»: функционально-средовое зонирование, структурно-планировочная организация прилегающих участков с переносом автодороги от стен монастыря южнее; пространственно-семантическая и композиционно-видовая система территории в целом; расчистка от активно-диссонансных элементов (объектов, построек, насаждений и т.п.); «кулисные посадки» для образования «фоновых экранов», формирующих целостные архитектурно-ландшафтные «картины», характерные пейзажи, – все это необходимо для обеспечение условий и возможности наиболее полного восприятия «Русской Палестины» как целостного историко-культурного и богословского памятника, который, по словам И. Э. Грабаря, «был подлинным чудом национального русского искусства, одной из самых пленительных архитектурных сказок, созданных человеком».
Для сохранения характерного исторического ландшафта вокруг монастырского комплекса, а также для обеспечения функционирования этой территории как стабильной историко-природной геосистемы необходим комплекс исследований: структурно-планировочных – для уточнения участков, функционально и структурно входивших в состав монастырского комплекса; гидрологических – для определения границ и режима подземной охранной зоны; палео-ландшафтных и палеологических – для восстановления исторически ценных насаждений с учетом научной реконструкции исторически сменявшихся типов растительности; историко-археологических – для выявления точных местоположений и параметров объектов монастырского комплекса, исторических дорог, землепользования.
Территория в границах комплекса «Русская Палестина» в целом отнесена к зоне охраняемого историко-культурного ландшафта с выделением охранной зоны монастырского комплекса. Режим использования этих зон не допускает какого-либо строительства, нарушения исторической планировки, искажения и изменения характерного исторического ландшафта, кроме необходимых работ по восстановлению нарушенных природно-ландшафтных объектов или реставрации ценных элементов ландшафта, исторических построек и сооружений.
Градостроительный регламент, режимы зон охраны этого уникального архитектурно-ландшафтного, историко-богословского комплекса обеспечивают включение «Русской Палестины» в общую пространственную, градостроительную систему района, включая г. Истру – Воскресенск. Предложения по восстановлению «Русской Палестины» вошли в Генеральный план города Истры 2000 г.1889 как одна из главных основ развития города.
«Два меча владычествовати, иже есть духовный и мирский»: Церковь, общество, государство
Царь Алексей Михайлович и Патриарх Никон: символика светской и духовной власти Руси (Мурзин-Гундоров В. В., Комаровская Е. П., Шмидт В. В.)
Со времен глубокой древности человечество в соответствии со своими общими ценностными представлениями фиксировало в памяти наиболее важное и сокровенное с целью передать его потомству. Иногда в сознание общества внедрялись ложные представления о событиях минувшего, действительное предавалось забвению, однако сокрытое ждет своего часа, поскольку «есть еще время до срока» (Дан.11:35). Современное открытие требует особой деликатности – ведь каждая отдельно взятая историческая личность, явление суть образы, знаки, проекции, след от которых подчас освещает эпоху, становясь символом не только рода, города, народа, государства, культуры, религии, но и мира в целом.
Генеалогия, знания о родовых корнях и древе появились вместе с человеческим обществом и существовали на всех этапах его развития: об общем происхождении народов повествует Библия. Статья «Генеалогия» в большинстве энциклопедий начинается именно с библейского ветхозаветного раздела. Расцвет генеалогии во многих странах Европы совпал с периодом развития феодализма, когда в обществе появились понятие «собственность», а значит, и права ее наследования, степени родства.
Это вопрос был крайне важен для правящих династий, поскольку увязывался с проблемой легитимности, законности их власти в глазах социума. В современности генеалогия позволяет устанавливать восходящее родословие как по мужской, так и по женской линии, а реконструкция дает возможность сделать вывод, что практически все августейшие династии и многочисленные семьи потомственной аристократии представляют одно разросшееся и ветвистое древо, восходящее к ветхозаветному корню Иессееву (в его иконографическом отображении)1890, от которого через ветхозаветных царей1891 берут они свое общее начало.
Во второй половине XVII в. Царю Алексею Михайловичу от Императора Священной Римской Империи была преподнесена в дар родословная книга, в которой содержалось просчитанное родство Романовых с европейскими правящими династиями1892. В 1666 г. в Киеве Епископом Лазарем Барановичем издается книга «Меч духовный», печатание которой осуществлялось на деньги Царя Алексея Михайловича1893. Книга продавалась в Москве и по царскому указу рассылалась по монастырям, что обеспечило ей широкую известность. Среди имеющихся в ней ксилографий есть иконографическая прорись «Животворящее дерево», где заметна аналогия с ветхозаветным сюжетом «корня Иессеева». Гравюра представляет собой пиар-иллюстрацию легитимности новой династии в глазах общества и мира. Истолкование композиции позволяет увидеть переплетение событийных образов русской истории с каноническими текстами Ветхого Завета. Пророчество Иезекииля ассоциируется с историческими реалиями России рубежа XVI–XVII вв.1894 и закрепляется в иконографии, в частности, гравюре «Животворящее дерево». Случайно ли, что на одной из гравюр в Библии Пискатора1895 пророк Елисей изображен с сидящей у него на правом плече двуглавой птицей, образ которой активно использует и пророк Иезекииль, пророчество которого логично иллюстрирует историю России с ее периодами смут и падений.
(Иез.17:3–4): «Большой орел с большими крыльями, с длинными перьями, пушистый, пестрый, прилетел на Ливан и снял с кедра верхушку, сорвал верхний из молодых побегов его и принес его в землю Ханаанскую». Этот образ напоминает приезд из Италии византийской Царевны Софьи Палеолог в Россию. Далее: «… в городе торговцев положил его» (Иез.17:4) – Москва находилась на перекрестке торговых путей. Далее: «… и взял от семени этой земли, и посадил на земле семени, поместил у больших вод, как сажают иву» (Иез.17:5) – древнескандинавское название Северо-западной Руси – Гардарика, страна городов, расположенных вдоль рек. «И еще был орел с большими крыльями и пушистый; и вот эта виноградная лоза потянулась к нему своими корнями и простерла к нему ветви свои, чтобы он поливал ее из борозд рассадника своего. Она была посажена на хорошем поле, у больших вод, так, что могла пускать ветви и приносить плод, сделаться лозою великолепной» (Иез.17:7–8) – принятие Русью, в лице Московской ветви Рюриковичей, символики византийского двуглавого орла. Но «будет ли ей успех? Не вырвут ли корней ее, и не оборвут ли плодов ее, так что она засохнет? все молодые ветви, отросшие от нее, засохнут» (Иез.17:9). И, действительно, царственное племя Рюриковичей вымерло уже на правнуках греческой принцессы Софьи. Так, «не иссохнет ли она, как коснется ее восточный ветер? иссохнет на грядах, где выросла» (Иез.17:10), «восточный ветер иссушил плод ее» (Иез.19:12).
Под дуновением «восточного ветра, иссушившего плод», можно подразумевать жен Московских государей, имевших восточные корни. Многолетний бесплодный брак Василия III c Соломонидой Сабуровой чуть не подорвал устои династии, следствием был запрет на супружество для остальных его братьев. С помощью семьи Сабуровых к трону приблизились Годуновы, их объединяло происхождение от общего предка золотоордынского перебежчика, татарина мурзы Чета, поступившего на службу при Иване Калите (1328–1341). Вторая жена Василия III – Елена Глинская, потомок золотоордынского темника Мамая, незадолго до своей смерти отравила двух братьев мужа – князей Юрия и Андрея. Через Елену Глинскую «восточный ветер» попал в кровь государей и иссушил на корню их род.
Кульминация «восточного ветра» – род Годуновых: жена Федора Иоанновича Царица Ирина Годунова не сумела подарить Престолу наследника, а их единственная дочь Феодосия умерла двух лет от роду. От руки брата Царицы, будущего Царя Бориса Годунова, погибли: наследник Престола Царевич Димитрий Угличский, последний отпрыск царственной ветви Рюриковичей, и малолетняя принцесса Евдокия Ливонская [см.: Валишевский К. Смутное время. М., 1911 (репринт 1989). С. 10, 33–34, 38; Валишевский К. Иван Грозный. М., 1989 (репринт 1912). С. 134–138]. «И вышел огонь из ствола ветвей ее, пожрал плоды ее и не осталось на ней ветвей крепких для скипетра властителя» (Иез.19:12).
Из всех царственных родов мира генеалогическое древо дома Рюрика представляло редкую особенность. За 736 лет правления (с IX по конец XVI в.) мощный ствол, посаженный основателем Русской империи в славяно-угро-финскую почву, покрыл огромное территориальное пространство своими постоянно расширяющимися ветвями. Младшая линия, утвердившаяся в Москве, имела противоположную судьбу. Ее политическое первенство за счет централизации власти укреплялось на развалинах соперничающих домов. Иван III оставил пять сыновей. Василию III досталось две трети государства, остальным четырем – треть земель России. Число членов династии уменьшала внутридинастическая борьба за единое наследство.
Род Калиты отодвинул на второй план все прочие пришедшие в упадок ветви потомства Рюрика, нивелировав их политическую волю и амбиции. Низведенные на уровень служилого сословия, впоследствии они оказались неспособными стать реальной силой, чтобы принять «скипетр властителя» России после пресечения рода Царей. Среди возможных кандидатов были: овдовевшая Королева Ливонии Мария Владимировна (урожденная кн. Старицкая, насильно постриженная в соседнем с Троице-Сергиевой лаврой женском монастыре), жена герцога Магнуса Ливонского (с 12 апреля 1573), и их дочь принцесса Евдокия, предположительно умершая насильственной смертью в 1589 г. (по малолетству ее в отличие от матери не могли постричь). Их смерть (могилы находятся в Троице-Сергиевой лавре) упростила династический вопрос – из Рюриковичей остался только Димитрий; из Суздальского дома – Царь Василий Шуйский и его племянник кн. М. В. Скопин-Шуйский; князья: Ф. И. Мстиславский (три раза отказывался от трона), В. В. Голицын († 1619, кандидат на вакантный Русский Престол), А. П. Куракин [† 1615; во время пребывания Ивана IV в Литве (1579) управлял Москвой] и И. С. Куракин († 1632; семьи князей Куракиных и Голицыных были кровно связаны с Царями и Великими князьями Московскими из династии Рюриковичей, их общий предок Юрий Патрикеевич (правнук Гедимина) доводился мужем княжне Анне (по некоторым данным, Марии, дочери Василия I); из Стародубского дома – кн. Д. М. Пожарский (отказался от предложенного ему престола) и кн. А. И. Гундоров (в Вербное воскресенье (1611) исполнял роль Царя в шествии Патриарха, он один из ближайших сродников кн. Ульяны Дмитриевны Палецкой, жены кн. Юрия Московского и Угличского – родного брата Ивана Грозного) (см.: Цветаев Д. Мария Владимировна и князь Магнус Датский // ЖМНП. 1878. Март; История родов русского дворянства / сост. П. Н. Петров. М., 1991 (по изд. СПб., 1886). Т. 2. С. 227–232, 237–238, 273; Гребельский П. Х. Князья Голицыны; Князья Куракины // Дворянские роды Российской империи. Т. 2. С. 34–35, 59–60; Валишевский К. Смутное время. С. 34–35).
О новой династии Романовых говорят следующие строки: «И возьму я с вершины высокого кедра, и посажу; с верхних побегов его оторву нежную отрасль и посажу на высокой и величественной горе» (Иез.17:22). Под высокой и величественной горой можно подразумевать город на семи холмах – Москву. Далее: «… посажу его, и пустит ветви и принесет обильный плод, и сделается величественным кедром, и будут обитать под ним всякие птицы …в тени ветвей его» (Иез.17:23). Здесь, может быть, аналогия с воцарением первых Романовых (отрок Михаил Федорович Романов был благословлен и призван на царство из стен Ипатьевского монастыря – родовой колыбели Сабуровых и Годуновых, основанной их предком татарским мурзой Четой, в крещении Захария) и последующим разветвлением их могучего династического родового древа.
Путь к восшествию на царский престол Михаилу Федоровичу и на патриарший престол его отцу Филарету (в миру Федору Никитичу Романову) проложила женщина – «оторванная нежная отрасль» их семьи – первая жена Царя Иоанна IV, она же мать Царя Федора Иоанновича Царица Анастасия Романовна Захарьина-Юрьева. Отец Патриарха Филарета Никита Романович Захарьин-Юрьев доводился Царице Анастасии сводным братом. Роман Юрьевич Захарьин был женат дважды; Никита Романович рожден от первой, а Царица Анастасия Романовна родилась от второй – Ульяны Ивановны, так что Патриарху Филарету Царица приходилась родной теткой, а первому Царю из дома Романовых Михаилу – двоюродной бабкой.
Став 13 февраля 1547 г. первой супругой Царя Иоанна IV Грозного, она прожила с ним в браке 30 лет, родив шестерых детей: царевну Анну (18.08.1549 – 08.1550), царевну Марию (17.03.1551 г., скончалась в млад.), царевича Димитрия (11.10.1552 – 06.1553), царевича Иоанна (28.03.1554 – 19.11.1582), царевну Евдокию (26.02.1556 – 1558) и Царя Федора Иоанновича (11.05.1557 – 7.01.1598), которые наполовину были Романовы. Царица Анастасия Романовна умерла от отравления в тридцатилетнем возрасте 7.08.1560 г.; к ее родным Царь Иоанн был благосклонен. По смерти Царя Бориса, гонителя рода Романовых, при Самозванце Филарет Романов был возведен в ростовские митрополиты и, будучи послан с князем Голицыным в 1610 г. в стан Сигизмунда договариваться о королевиче Владиславе, оказался там, в Польше, в противность прав народных удержан в плену. По освобождении в 1618 г. был возведен в сан Патриарха (см.: История родов русского дворянства. Т. 1. С. 25).
Царственная генеалогия первых представителей Дома Романовых имеет весьма солидную и интересную историю. Романовы – потомки известного московского боярина XIV в. Андрея Кобылы (его же потомки Шереметевы, Сухово-Кобылины, Колычевы, Пушкины и многие другие дворянские фамилии считали, что прародителями их общего предка Кобылы были короли древней Пруссии). Не так давно была выдвинута версия, что настоящее имя Радши – легендарного родоначальника Романовых, Пушкиных и родственных им родов – было Ричард и что он доводился внуком Королю Англии Вильгельму Завоевателю [см.: Сахаров И. В. Боги и герои древнегреческого пантеона и великие мужи древности как родоначальники: Мифы и легенды в генеалогии и геральдике российских родов (доклад на XXVII Международном научном конгрессе по генеалогии и геральдике, 21–26.08.2006, г. Эндрюс, Шотландия) // Генеалогический вестник. Вып. 27. СПб., 2006. С. 10–11; История родов русского дворянства. Т. 1. С. 20–24].
Царственная генеалогия первых представителей Дома Романовых, весьма интересна. Дед Царя Михаила Федоровича – Никита Романович Захарьин-Юрьев первым браком был женат на боярышне В. И. Ховриной, происходившей из императорского Трапезундского дома Комненов – правителей г. Судая (современ. Судак в Крыму). В России их потомками были дворяне и графы Головины.
В родословной сказке их предков – бояр Ховриных-Головиных сохранилось предание, записанное в XIX в., что родоначальник их фамилии – грек Степан Васильевич Ховра – потомок византийской императорской династии Комненов, выехавший в 1391 г. на службу к московскому князю из своего крымского города Судая и получивший от князя Василия I Дмитриевича благословение – икону «Богоматерь Владимирскую» письма Андрея Рублева. Рассказ об иконе кисти Рублева не может быть позднейшей выдумкой, так как приезд Степана Ховрина в тот год на службу к Московскому государю – факт вполне достоверный. Спустя несколько лет, в 1412 г. состоялось бракосочетание его близкого родственника – сына византийского императора Мануила II Комнина – Иоанна (будущего императора) с княжной Анной – дочерью Великого Князя Московского Василия Дмитриевича (см.: Брюсова В. Г. Андрей Рублёв. М., 1995. С. 10, 67; Сахаров Н. П. Путешествия русских людей в чужие земли. СПб., 1837. Ч. 1–2. С. 33–52; Путешествие иеродиакона Зосимы: Книга, глаголемая Ксенос, сиречь странник Зосимы диакона о пути Иерусалимском до Царьграда и до Иерусалима. С. 42). В первой половине XVIII в. эти семьи получили родовые гербы, где в центре разделенного на пять частей щита поставлен шестой щиток с княжеской короной.
В этом среднем щитке заключен византийский двуглавый орел, разрезанный вдоль пополам таким образом, что левая половина орла черная на золотом поле, а правая белая в красном поле (см.: Общий Российский Гербовник. Ч. V. С. 31; История родов русского дворянства. Т. 2 С. 87–88). Крымские Комнены состояли в близком родстве с грузинской царской династией Багратион. Дочь Царя Давида Строителя Катаи была матерью Византийского императора Андроника I Комнена. В 1204 г. именно св. Царица Тамара Великая Багратион отвоевала увоцарившейся в Константинополе династии Ангелов Трапезунд и объявила трапезундским императором своего родственника – принца Алексея Комнена, внука сверженного и убитого Андроника I. Его-то потомками и считаются русские Головины и грузинские княжеские семьи Андроникашвили, писавшиеся в России Андрониковыми и Эндрониковыми (cм.: Катин-Ярцев М. Ю. с дополнениями Думина С. В. и кн. Чиковани Ю. К. Князья Андрониковы и Эндрониковы (Андроникашвили) // Дворянские роды Российской империи. Т. 4: Князья Царства Грузинского. М., 1998. С. 117–128).
Мать первой жены Н. Р. Захарьина-Юрьева В. И. Ховриной принадлежала к роду князей Холмских из Тверского дома. Вторым браком дед Царя Михаила Федоровича был женат на княжне Е. А. Горбатой-Шуйской – представительнице Суздальского дома, который стоял вторым за Московским домом в вопросе престолонаследия.
Доподлинно неизвестно, от которой из этих высокородных женщин был рожден будущий Патриарх Филарет, но в любом случае в нем текла кровь Великих Государей христианского мира. Матерью же его сына Михаила Федоровича, первого Царя новой династии, была великая старица Марфа, урожденная княжна Ксения Ивановна Шастунова – отпрыск Ярославского дома Рюриковичей. Сын Царя Михаила Царь Алексей Михайлович был рожден Евдокией Стрешневой, которая в свою очередь приходилась дочерью княжне Волконской из отрасли удельных князей Черниговских. Теткой Царя Михаила Федоровича была княжна Е. И. Голицына – жена его дяди боярина А. Н. Романова, приходившаяся внучкой князю М. И. Голицыну – внучатому племяннику Царя Иоанна IV Грозного.
Как видно, в лице первых представителей дома Романовых соединились генеалогические ветки одряхлевшего древа дома Рюрика – и родословный круг замкнулся. Это в свою очередь стало доказательством права по крови на Царство новой семьи правителей, не как обособленной и лишенной корней «оторванной нежной отрасли», а вполне законной части генеалогического древа Государей Российских, «посаженной на высокой и величественной горе». Это стало сакральным, исторически выверенным подтверждением правоправности Романовых, что и нашло выражение в иконографии «Животворящего дерева». Так во второй половине XVII в. новая династия России обрела свое место в семье христианских монархов Европы.
Далее сюжетная линия раскрывается в полном объеме: «И узнают все дерева полевые, что Я, Господь, высокое дерево понижаю, низкое дерево повышаю, зеленеющее дерево иссушаю, а сухое дерево делаю цветущим: Я, Господь, сказал, и сделаю» (Иез.17:24). Под понижением высокого дерева можно понимать угасание ветви царственных Рюриковичей и низведение до служилого уровня иных ветвей некогда великой династии (см.: Пчелов Е. В. Легендарная и начальная генеалогия Рюриковичей // Летопись историко-родословного общества в Москве. Вып. 2 (46). М., 1994. С. 27–39). Под повышением низкого дерева, возможно, предполагаются первые представители дома Романовых. Это двуглавое правительство – Патриарх Филарет и Царь Михаил Федорович – как своеобразный символ двуглавой птицы, где одна глава орла – Царь, другая – Патриарх, т.е. священство и царство. За словами «зеленеющее дерево иссушаю», кроются Годуновы: Царь Борис, Царица Мария Григорьевна (Скуратова-Бельская, дочь опричника), Царь Федор Борисович и обесчещенная Лжедмитрием I царевна Ксения. «Сухое дерево делаю цветущим» – прославление в июне 1606 г. в лике святых убиенного Царевича Димитрия Угличского (см.: Валишевский К. Смутное время. С. 47–56; Он же. Первые Романовы. М., 1989. С. 20–35).
Композиция гравюры «Животворящее дерево» умозрительно представляет триумф дома Романовых, в ней выражена идея: «невозможно христианам иметь Церковь, а царя не иметь. Царство и Церковь имеют между собой тесное единение и общение и невозможно отделить одно от другого… и кто принесет в жертву помощь нам, тот обретет у Бога большую награду»1896.
В нижней части изображения расположены три дерева: с правой стороны – финиковая пальма, которая опоясана лентой с текстом: «Праведник яко финик процветет». Возле пальмы стоит святой князь Глеб, держащий в правой руке меч. С левой стороны – кедр, который опоясан лентой с текстом: «Яко кедр иже в Ливане умножишся». Рядом с кедром – св. князь Борис, который сжимает в левой руке копье. Оба древа венчают перевернутые венцы с тремя орлиными головами, выходящими из них. У основания центрального дерева – виноградной лозы – возлежит со скипетром св. Князь Владимир – прародитель Романовых по женской линии1897. По центру ствола написан текст: «Аще корень свят, то и ветви: Рим. 11, 16». В ветвях помещены пять поясных изображений: внизу три царевича, в центре ствола – Иоанн (VI), справа – Федор (III), слева – Алексей; выше справа – Царица Мария Ильинична (Милославская), слева – Царь Алексей Михайлович. По сторонам виноградной лозы – ленты с текстом: «Яко древо насажденное при исходиших вод:» (слева) и «Еже плод свой даст во время свое:» [Пс.1:3] (справа). Венчает древо такой же в окружении цветов венец с головами орла (символизирует Пресвятую Троицу) и надписанной лентой: «Род правых благословится» (Пс.111:2). Выше над ними – горизонтально лежащий полумесяц (символ ладьи, в которой Церковь странствует в мире). В навершии изображений – двуглавый орел (символ Бога; символ двух природ и двух воль во Христе – Божественной и Человеческой; символ Церкви, парящей над миром, источающей миру благодать и светом Христова учения просвещающей мир) с исходящими из клювов источниками с текстом: правый уходит в сторону поясного изображения Пресвятой Богородицы («Очи мои выну к Тебе»), левый – в сторону поясного изображения Иисуса Христа («Очи мои выну к Господу»).
Головы орла венчают три короны, а над ними в ленте текст: «В сем знамении победиши». На груди орла помещен щит с гербом Москвы. На одном уровне с орлом с левой стороны в сиянии – поясное изображение Иисуса Христа, с правой – такое же изображение Пресвятой Богородицы. Их лики обращены к двуглавому орлу (образ Христа и образ Церкви), кисти Их рук преподают имяславное благословение. Над поясным изображением Пресвятой Богородицы – лента с текстом: «Избраная яко Солнце». Над поясным изображением Иисуса Христа – «в Солнци положи селение Свое». Орел держит в лапах развивающиеся ленты с текстом. В правой лапе: «Уповающие же на Господа наследят землю…» (Пс.36:9–11). Под лентой изображен (в профиль) летящий одноглавый коронованный орел. От него разлетаются малые некоронованные орлы. В левой лапе орла лента с текстом: «Пожену враги моя и постигну, и не обращуся доколе не скончаются…» (Пс.17:38). Под этой лентой изображен всадник верхом на коне в окружении воинства. Его главу венчает корона, на груди крест, копьем он поражает змия. Над коронованным орлом в облаках – и сиянии – равноконечный Крест с монограммой «Иисус Христос» (святоотеческая традиция говорит о Кресте как о древе жизни, называя его «новым живоносным древом»1898), а в облаках руки Бога-Отца. Над Пресвятой Богородицей десная рассыпает звезды, а вокруг – лента с текстом: «Солнцу будут сиять во веки яко звезды» (Дан.12:3). Над Христом ошуя держит три короны, вокруг также лента с текстом: «Он венчает милостию и щедротами…» (Пс.102:3–10).
Таким образом, двуглавый орел символизирует восходящую к горнему Небу земную Церковь как общество, при этом одна глава орла означает власть царя над народом, другая – духовную власть Патриарха, т.е. символ священства и символ царства, дарованные Богом и явленные миру Иисусом Христом в Его крестоношении как Великого Первосвященника и Царя царей. Образ двуглавого орла становится образом «животворящего дерева» государства Российского1899.
Вторым знаковым символом для общества в истории России стал герб, оставленный Святейшим Патриархом Никоном с его многозначительным надписанием: Егда печать сию вернии сматряем, Велика Пастыря в сем уподобляем.
Происхождение подобных семиотических эмблем известно со времен глубокой древности1900. Устойчивыми «территориальными» изображениями в Египте, Персии и Греции были животные, символизировавшие языческих богов-покровителей. На афинских монетах чеканился образ совы – неотлучной спутницы богини Афины. Широко известны и личные, «владельческие» знаки – тамги. Они наносились на печати и клейма у многих кочевых народов.
Позднее появилось учение о знаках – семиотика, из которой выделилось самостоятельное направление – геральдика. В наши дни эта древняя наука, переживающая свое возрождение, является вспомогательной (специальной) исторической дисциплиной; она изучает гербы, историю их происхождения и использования, а также занимается их разработкой и учетом1901. Слово «герб» в русский язык пришло из польского – «herb», его корень в чешском – «erb», он в свою очередь происходит от немецкого слова «Еrbe», означающего «наследство». Герб – графический знак – символ, эмблема отдельного лица, семьи, рода, корпорации, территории и государства, при своем составлении выдержанный в определенной системе геральдических правил.
Официальное, с точки зрения истории, зарождение системы родовых гербов, составленных по соответствующим правилам, относят к эпохе Крестовых походов (1096–1270)1902. Известный специалист по геральдике историк В. К. Лукомский рассматривал герб как продукт Средневековой эпохи1903. Первые европейские гербы были прежде всего опознавательными знаками: они позволяли отличить врага от союзника, труса от храбреца и т.д. Впоследствии произвольно избираемые изображения становились родовыми эмблемами, а каждый в них элемент получал определенное значение. Изменять это значение, как и сам герб, могли лишь герольды1904 на основании выдающихся или, напротив, недостойных поступков владельца. Позднее право на составление гербов взяло на себя государство, создав специальные геральдические учреждения1905.
В Древней Руси династия Рюриковичей использовала собственную геральдическую символику. При Великом Князе Святославе Игоревиче это был стилизованный двузубец1906, превратившийся в трезубец1907 при святом Великом Князе Владимире, чьи многочисленные потомки усложняли наследную эмблему рода, внося в нее все новые элементы1908.
Символику геральдического знака первых Рюриковичей описывают по-разному: одни исследователи обращают внимание на стилизованное изображение сокола1909, другие замечают, что трезубец был известен еще у Скифских царей в качестве знака власти. Со временем эти и другие знаки, напоминающие тамги кочевых народов, стали не только знаками собственности, будучи изображенным на печатях Великих Князей, на монетах, перстнях, вручаемых как знак статуса и полномочий, но и приобрели функции государственного герба. Появление родовых знаков на монетах Ярослава и его ближайших потомков было связано с намерением установить в государстве порядок, основанный на родовом начале. По замыслу Великого Князя Ярослава Мудрого, вся Русь должна была находиться во владении его рода1910. К XII–XIII в. появились и другие геральдические символы, аналогичные западноевропейским.
В отечественной историографии и литературе бытует концепция о наличии русских городских гербов (старых удельных городов) с глубокой древности: есть мнение, что о городских гербах Руси как знаках собственности можно говорить начиная с XII в.1911 В XIII в. эмблемой князей Владимирских является стоящий лев1912. Значительно позже другие княжества обзаводятся подобиями будущих территориальных гербов1913, которые впоследствии предопределят наследные геральдические эмблемы Рюриковичей, Гедиминовичей, князей Сибирских и других удельных владетелей. По печатям Иоанна IV (Грозного) и его преемников известны многие территориальные гербы.
Славянским народам были чужды формы рыцарского быта, отразившиеся в содержании гербов на западе Европы. Главное влияние на развитие гербов в Литве, Белоруссии, Украине и России оказала Польша. Реальным содержанием этих гербов стали знаки собственности, первоначально личные, впоследствии перешедшие в родовые символы. Подобная символика появилась в сферах – военной (на знаменах и значках), юридической (на печатях), в домашнем быту различных сословий1914, но удержалась лишь в среде господствующего класса. Дворянство использовало эти знаки как основу для создания своих гербов, придав им дух общеевропейской геральдики.
Предтечей русской геральдики была сфрагистика, на основе которой впоследствии развивалось отечественное герботворчество. Гербы русских родов получают распространение в XVI в. – зачастую они исполняются по образцам польских гербов (это характерно и для иммигрировавших в Россию семей и их потомков из Пруссии1915, Германии, Франции и Италии1916, которые брали за основу гербы родоначальников1917).
Историческая символика императорского двуглавого орла1918 была принята Великим Князем Московским Иоанном III в качестве государственной эмблемы России в 1472 г. Одна из версий об утверждении фантастической птицы на Руси в качестве герба1919 построена на том, что второй брак Иоанна III с принцессой Софьей (Зоей) Палеолог, приходившейся племянницей Константину XI – последнему Императору погибшей Византии – Восточной Римской империи, повлек за собой изменения в государственной символике. В 1453 г. Византия пала под натиском турок. Казавшийся незыблемым Константинополь – второй Рим – ушел в небытие, подтвердив пророчество святого Мефодия и Льва Мудрого о том, что измаильтяне овладеют Великим Городом, а также и другое предсказание: славяне победят измаильтян и «воцарятся на седьми холмах»1920.
Падение Царьграда произвело на Русь огромное впечатление. «Греция была для нас, как бы вторым Отечеством: россияне всегда с благодарностью вспоминали, что она первая сообщила нам Христианство…»1921, – писал Н. М. Карамзин. Со второй половины XV в. Московское государство стало вполне способным к защите православных святынь – к исполнению роли Византии как центра Православной Эйкумены1922. Женившись на наследнице дома Палеологов, Великий Князь тем самым получил священное правопреемство от базилевсов не только по вероисповеданию, но и по родству. Так Третьим Римом – хранителем истинной веры и наследником сакральной власти Византийских (Римских) Императоров – стала Москва. Именно там, в Византии, был впервые сформулирован и осуществлен на практике идеальный порядок права – взаимодействия церковной и гражданской власти, именуемый симфонией1923. Более того, «воцерковленные» гражданские кодексы даже после падения Восточной Римской Империи признавались православными Поместными Церквами в качестве действующих примеров, или аналогов, церковного права, и рассматривались наравне с соборными канонами1924.
Все это наследие – бремя державной ответственности за судьбы Божественной Истины на земле – перешло к Московской Руси. Супруг Софьи Иоанн III наглядно подтвердил династическую преемственность, присоединив к прежнему гербу Московии (образу Георгия Победоносца) двуглавого орла1925 (это произошло спустя 25 лет после бракосочетания Иоанн III и Софьи Палеолог; по мнению Н. А. Соболевой, «Иван III использовал эту эмблему в соответствии со своими политическими замыслами в противовес гербу Императора Священной Римской Империи»)1926. Не случайно вопреки веками установленной традиции дома Рюриковичей – передавать трон старшему сыну или его потомству по нисходящей мужской линии – после смерти Иоанна престол достается его сыну от второго брака Василию III1927. При внуке Софьи Палеолог Иоанне IV двуглавый орел и всадник стали единым символом – подобные печати скрепляли внутригосударственные и межгосударственные акты.
Уже в конце XVI в. потомки Цезарей как в Москве, так и в Вене, думали о необходимости совместно противостоять туркам вплоть до изгнания их из Европы. В январе 1576 г. посол Германского Императора Максимилиана I Ян Кобенцель, обращаясь к Иоанну IV, предлагал: «Изгоним Турков из Константинополя в Аравию, искореним Веру Магометову, знамением креста вновь осеним Фракию, Элладу – и все древнее Царство Греческое на восход солнца да все будет твое, о Царь Великий!»1928.
Изначально вид византийского орла был визуально соотносим с его аналогом, изображенным на троне, который привезла Софья Палеолог1929. Это был двуглавый орел с ниспадающими крыльями, обе главы увенчаны коронами (обод с возвышающимися семью жемчужинами). Период правления Иоанна IV Васильевича (1530–1584), венчанного на Российское царство (Великий Князь всея Руси – с 1533 г., первый Русский Царь – 1547– 1584 гг.), характеризовался усилением самодержавия, и это нашло отражение в различных сторонах его деятельности и прежде всего в изменениях государственной печати. С этого времени щит с московским гербом уже не покидает груди орла1930. В правления Царя Федора Иоанновича (1584–1598), Бориса Годунова (1598–1605), Василия Шуйского (1606–1610), Михаила Федоровича (1613–1645) существенных изменений русского государственного герба не происходит. Укажем на то, что на головах орла две короны, между головами появляется Голгофский крест (без главы Адама и орудий страстей), символизирующий приоритеты православной составляющей Московского царства1931.
Исчезновение центральной короны на печатях исследователи объясняют тем, что на данных сфрагистических памятниках отсутствуют земельные эмблемы1932. На некоторых печатях Лжедмитрия I (1605–1606) крылья орла подняты, как и на печатях 1497 и 1514 гг., приложенных к договорам с Германским Императором Максимилианом I. Среди изображений русского герба времени Лжедмитрия определенный интерес представляет, печать, приложенная к его «Записи» от 25 мая 1604 г. Сандомирскому воеводе Юрию Мнишеку1933.
Время Смуты не оставило заметного следа в развитии русской государственной геральдики. Повторялись уже известные типы основных геральдических фигур без особых изменений. Первое и второе ополчения («Совет всей земли») использовали так называемую «земскую» печать – без атрибутов власти, с одноглавым орлом, держащим в лапах змею, что, видимо, означало «государство без государя»1934. Примечательно, что единорог, который сохраняется на Больших печатях в первой половине XVII в., традиционно повернут направо от смотрящего.
До Царя Михаила Федоровича (1613–1645 гг.) над головами орла было две короны, между ними изображался русский восьмиконечный крест. Вступив на престол России, Романовы1935 сохраняют на государственном гербе двуглавого орла, унаследовав его от пресекшейся 736-летней царственной династии Рюриковичей (не одно десятилетие новая династия чувствовала зыбкость своего положения в глазах монархов Западной Европы, поэтому об использовании существовавшей личной родовой эмблемы не могло быть и речи).
Самое раннее изображение орла с символами власти относится к 1616 г., когда на русском престоле уже утвердилась династия Романовых. Оно украшает две круглые бляхи зерцала1936, сделанного мастером Андреем Тиерманом по указанию кравчего Михаила Саблукова для Царя Михаила Федоровича. До середины XVII в. продолжается широкое использование печати, на которой двуглавый орел коронован двумя коронами, а между головами орла поднимается православный восьмиконечный крест, т.е. сохраняется тип изображения конца XVI в. (отсутствуют лишь надписи по сторонам креста)1937.
С 1625 г. вместо креста, который изображался между двух корон, помещают третью корону с исходящими от нее источниками – Символ Бога1938. На Малых печатях Михаила Федоровича – «орловской воротной» (с 1625 г.) и «двойной кормчей» (с 1627 г.) – над и между головами орла появляется третья, большая по размеру корона. Три короны над головами орла помещены на доспехах Михаила Федоровича.
В царствования Михаила Федоровича и позднее, при Алексее Михайловиче, произошел ряд существенных изменений в изображении государственного герба: с 1645 г. третья корона присутствует и на Большой государственной печати, а три короны венчают головы1939 орла. Помещенный в щите «ездец» поражает змия уже не в шею, а в пасть, что стилистически сближает всадника со Святым Георгием Победоносцем и во второй половине XVI–XVII в. трактуется как изображение Государя1940.
Также заметим, что при Алексее Михайловиче полусвященный титул «царь» начинает уступать место западному титулу «император»1941. Хотя официально титул этот был принят в правление Петра, новый трон Алексея, созданный в шестидесятых годах по польским рисункам персидскими мастерами, украшала надпись на латыни: «Potentissimo et Invictissimo Moscovitarium Imperatori Alexio»1942 (могущественнейшему и непобедимейшему московскому императору Алексею). Тонко внедрялась сугубо современная идея неограниченного самодержавия правителя страны. Прибывший из Константинополя в июне 1655 г. «великий венец» был украшен изображением Царя и Царицы на том месте, где прежде помещался символ верховного владычества Бога, и на печати с двуглавым орлом изображение Алексея начало заменять изображение св. Георгия1943. Для большой группы зависевших от него иностранцев в Москве Алексей был теперь уже не главой уникальной религиозной цивилизации, а образцовым европейским монархом. Пастор Грегори писал в стихотворении 1667 г.:
… как могу я достаточно восхвалить
Несравненного Царя, великого владыку русских?
Он любит нас, немцев, сильнее, чем русских,
Раздавая должности, награды, милости и богатства.
О достойнейший Царь, да вознаградит тебя Бог.
Кто не был бы рад жить в этой стране?!1944
Успехи или неудачи внешней политики России влекли за собой изменения царского титула в 1645, 1655, 1667 гг., это, в частности, добавление наименований присоединенных территорий, что в свою очередь находило отражение в государственной геральдике. В 1667 г. для скрепления Андрусовского договора с Польшей по рисунку Г. А. Благушина была сделана Большая печать с изображением на ней государственного герба. На этой печати орел изображен под тремя коронами, со скипетром и державой в лапах – он и поныне удерживает эти символы власти1945.
В геральдическом изображении печати 1667 г. прежде всего закреплялись конкретные политические реалии, которые просуществовали вплоть до начала XVIII в. – начального периода правления Петра I1946, став впоследствии архетипом всей общественно-государственной жизни. Такой была двухсотлетняя эволюция государственной символики в России.
***
Личный герб Царственного Дома Романовых – в серебряном поле червленый гриф1947, держащий золотые меч и тарч (щит с отверстием в середине), увенчанный малым черным одноглавым орлом. На черной кайме гербового щита восемь оторванных львиных голов, чередующихся – четыре золотые и четыре серебряные.1948 Появление столь необычной для России символики связано с Никитой Романовичем Захарьиным-Юрьевым, который был братом первой жены Царя Иоанна IV и дедом первого Царя из дома Романовых Михаила Федоровича. Боярин Захарьин-Юрьев участвовал в завоевании города Перново в Лифляндии (1575 г.) и заимствовал герб герцогства Лифляндского1949.
Официально династия закрепила за собой родовую геральдическую символику только в XIX в., поместив щит с грифом на груди двуглавого орла. Кроме царственной ветви, этот герб был ранее дарован и вымершим ветвям дворян Романовых. В таком виде (с небольшими изменениями) он сохраняется в династии и по настоящее время1950.
Важным этапом в истории России явилось Смутное время, оказавшее двойное воздействие на отечественную духовную и культурную жизнь. Последствия Смутного времени сказались на всем XVII столетии, они нашли отражение в архитектуре, живописи, литературе, языке, нравах, одежде, стиле жизни той эпохи1951. С одной стороны, произошло укрепление православного самосознания русского народа, с другой – углубилось западное влияние, которое шло на Русь двумя основными путями: один – через Новгород и Псков, другой – через Украину из Великого Княжества Литовского (Речи Посполитой).
В этот период формируется убеждение, что необходимым атрибутом представителя знатного рода и лица, занимающего высокое положение в обществе, является герб1952. Г. К. Котошихин, описавший обычаи России в царствование Алексея Михайловича, отмечал, что даже знатные лица в Московском Царстве не имеют гербов, а используют в употреблении произвольные изображения1953 (идея, что у всех русских дворян должны быть родовые гербы, утвердилась задолго до Петра Великого1954, хотя и в петровское время герб остается почетной привилегией немногих видных представителей придворных кругов1955 и официально до 1721 г. считается редкостью1956).
***
Предшественник Святейшего Никона Патриарх Филарет, стремясь укрепить государственную власть и утвердить положение молодой династии в лице своего сына Царя Михаила Федоровича, и в силу своего особого статуса правителя способствовал усилению позиций Русской Православной Церкви. Подобная внутренняя политика как нельзя лучше демонстрировала прочный союз Алтаря и Трона – «симфонию» Церкви и государства. Благодаря родству Первоиерарха и Государя Церковь приобрела значительное могущество, сделавшись в известном смысле государством в государстве1957. Нужно было дать теоретическое обоснование положению самостоятельной и независимой от государства Церкви. И эту попытку сделал Патриарх Никон, отстаивавший «симфонию» государственной и церковной власти в делах социально-политического и общественно-гражданского строительства. Эту неновую, проверенную историческим опытом мысль он почерпнул из древнего византийского права, канонического и святоотеческого наследия1958.
Как уже было отмечено, Никон, Святейший Архиепископ Московский, всея Великия и Малыя и Белыя России и всех северных стран и поморья и многих государств Патриарх – первый и единственный из русских Первоиерархов, кто имел патриарший герб. В условиях становления социально-политических государственных институтов данный знак-символ был нужен Патриарху для демонстрации суверенитета Церкви как института, независимого от государства и Царя.
В Европе церковные гербы встречаются на печатях аббатств и епископов с XII в. Например, в Великобритании существуют определенные правила для гербов высшего духовенства, показывающие их статус в церковной иерархии: гербы архиепископов и епископов украшаются митрами (герб Папы Римского венчает тиара), а на гербы священников более низкого ранга помещаются, в соответствии с их статусом, особые шляпы разных цветов, снабженные разноцветными шнурами и кистями1959. В церковной геральдике выделяют в целом три основные группы гербов1960: а) личные гербы собственно духовных особ; б) гербы духовных церковных институтов (духовных и рыцарских орденов, различных учебных заведений, союзов, братств и т.п.); в) гербы территориальных церковных формирований (архиепископств, епископств, викариатств, благочиний, монастырей, приходов и т.п.).
Церковный герб, в отличие от светского, можно было получить: во-первых, состоя в каком-либо церковном объединении (ордене, братстве, обществе и т.п.); во-вторых, будучи возведенным в церковный сан; в-третьих, гербы в особых случаях жаловались самим Римским Папой. В жалование или присвоение церковных гербов не вмешивались даже королевские власти, и, таким образом, выбор герба при получении церковного сана предоставлялся прежде всего самому армигеру – носителю герба1961. Гербы некоторых высших церковных иерархов (например, архиепископов, епископов, аббатов и др.) имели свои особые знаки власти, добавлявшиеся иногда к церковным знакам и фигурам на родовых (личных) гербах – щит рассекался надвое или на четыре части. Последнее правило не существовало как обязательное. Однако таким образом решалась эстетическая сторона вопроса, и щиту придавалось особое изящество1962.
Герб Патриарха Никона исполнен в характерной манере эмблематики эпохи барокко. В его орнаментальности есть сходство с гербом Киевского митрополита Петра Могилы1963, а если учесть контакты Патриарха с «детищем» митрополита – Киево-Могилянской академией, то можно предположить, что при составлении патриаршего герба геральдическая символика митрополита1964 могла быть использована в качестве наглядного образца эмблематики стиля эпохи.
В гербе Патриарха Никона, напротив, генеалогическое прочтение не прослеживается, так как он происходил из крестьянской семьи1965 в отличие от митрополита Петра (Могилы), который был представителем княжеской династии, потомком венгерской княжны Маргариты и молдавского боярина Симеона Могилы. Герб Патриарха имеет совершенно иное, институциональное конфессионально-государственное, даже шире – святоромейское, Эйкуменическое, значение. В нем находят выражение идеи об образе Патриарха и о том, что государство должно довлеть принципам Горнего мира, поскольку задача Патриарха – защита своей паствы от нестроений и приведение ее ко Христу: «Патриарх есть образ жив Христов»1966, он являет собой вещественно-духовный образ Христа.
При составлении герба Патриарха Никона не было подражательства гербу Киевского митрополита – напротив, был создан знак-символ, проявивший и продемонстрировавший онтологическую сущность Русской Православной Церкви как институции, находящейся в системе как церковно-государственных отношений, так и шире – в системе геополитических и межгосударственных отношений.
Русское изобразительное искусство рубежа XVI–XVII вв. и более раннего периода использовало для создания композиций в основном библейские образы, вкладывая в освященные преданием символы свое видение мира. Сложный для современного восприятия иносказательный язык русской символики отражает мировоззрение человека прошлого, поэтому при трактовке знака-символа необходимо учитывать не только время создания изображения1967, но и исторические особенности мышления, помогающие понять смысл поступков и ментальность личности той эпохи1968. Сознание человека вкладывает особый смысл и аллегорию в вещественный предмет или явление, поэтому даже самый тщательный анализ, учитывающий полисемантичность каждого из символов в отдельности и в совокупности с не менее значимыми другими компонентами композиции1969, сохраняет элемент вероятности как потенцию будущих попыток расшифровки-интерпретации1970.
До настоящего времени герб Святейшего Никона, помещенный на титульном листе книги «Рай мысленный», впервые напечатанной в типографии Иверского монастыря в 1658 г., не стал предметом специального рассмотрения и пристального изучения с религиозно-философской и религиоведческой точек зрения1971, тогда как анализ символики «государственного» двуглавого орла в литературе представлен довольно широко.
Литературный труд Патриарха Никона открывается титульным листом, в центре которого изображена геральдическая эмблема, которая должна была, по сути, являть образ Первосвятителя, на что указывает согласно исихастской традиции понимания имени и святоотеческому пониманию образа, надпись над гербом:
Егда печать сию вернии сматряем,
Велика Пастыря в сем уподобляем.
Внизу, под геральдическим изображением текст:
Десницу Светильник Ключ Евангелие,
Образ Спасов Крест Жезл Венец Началие.
Эта надпись – не перечисление компонентов герба, а пояснение, являющееся основным ключом для толкования и последующего прочтения патриаршей геральдической эмблемы. По сторонам герба расположены заглавные буквы (см. здесь). Подобные надписи-монограммы характерны и для произведений древнерусской иконописи. В данном случае это монограмма титула Патриарха Никона.
| правый столбец: | левый столбец: |
| Н – Никон | М – Милостию |
| Б – Божией | В – Великий |
| Г – Господин | С – Святейший |
| А – Архиепископ | М – Московский |
| В – Всея | В – Великия |
| М – Малыя | Б – Белыя |
| Р – России | П – Патриарх |
Таким образом, титул обладателя герба прочитывается так: Никон Милостию Божией Великий Господин Святейший Архиепископ Московский и Всея Великия и Малыя и Белыя России Патриарх1972.
К середине XVII в. в европейской эмблематической культуре подобные «новшества», характерные для России, стали визитной карточкой, которая отражала сущность предмета1973. Очевидно, что, помимо самой титулатуры, был необходим не только вербальный знак, но и символ, ее выражающий. Государственные печати этого и более ранних периодов русской истории уже несли в себе схожие знаки-символы. Патриаршая печать была красного воска, на шнурах, двусторонняя, величиною «в рубль серебром», с изображением на одной стороне Богоматери, на другой – благословляющей десницы с надписью по кругу «БОЖИЕЮ МИЛОСТЬЮ АРXIЕПИСКОП ЦАРСТВУЮЩАГО ГРАДА МОСКВЫ ВСЕЯ ВЕЛИКИЯ, МАЛЫЯ И БЕЛЫЯ РОСИИ ПАТРИАРХ НИКОН»1974 (см. здесь).
Очевидно, что Святейший Патриарх с интересом относился к развитию геральдического искусства в России, поскольку оно несет в себе элемент воцерковления, оживляя знания из самой что ни есть Боговдохновенной копилки человеческого опыта – Псалтири: «Все пути Господни милость и истина к хранящим завет Его и откровения Его» (Пс.24:10). Так что автором этого герба мог быть и сам Первосвятитель. Согласно его житию, Никон был талантливым иконописцем1975, а труд изографа предусматривает знание иконописной символики. При использовании заветного знания герб Патриарха оживает, словно «жезл Ааронов, от дома Левиина, расцвел, пустил почки, и принес миндали» (Числ.17:8), утверждая славу Святителя, – «и кого Я изберу, того жезл расцветет» (Числ.17:5)1976.
Итак, главной частью любого герба является щит. В утилитарном значении щит – защитное вооружение, прикрывающее тело воина. Согласно истории, он использовался с каменного века. Псалтирь как один из Боговдохновенных источников эмблематики рубежа XVI–XVII столетий неоднократно упоминает данный элемент на своих страницах: «Господь – крепость моя и щит мой» (Пс.27:7); «…щит мой в Боге, спасающих правых сердцем» (Пс.7:11); «…щит и ограждение – истина Его» (Пс.90:4).
Рисунок патриаршего герба представляет собой четверочастно разделенный щит1977, обрамленный фигурным картушем. В первом поле изображена книга «Евангелие» – свет Христов, просвещение мира Христовым словом. Иисус Христос прямо требовал от Своих последователей: «Приближися Царствие Божие: покайтеся и веруйте во Евангелие» (Мк.1:15), «аще не покаетеся… погибнете» (Лк.13:3). Изображение Евангелия для патриаршего герба – герба Церкви – весьма символично, так как Спаситель, посылая на проповедь Своих учеников, сказал им: «Шедше в мир весь, проповедите Евангелие всей твари. Иже веру имет и крестится, спасен будет: а иже не имет веры, осужден будет» (Мк.16:15–16). Так учили о вере и апостолы, чьим преемником стал Патриарх Никон. На обложке Евангелия (лицевая сторона) изображены пять медальонов, символизирующих Христа Спасителя и четырех евангелистов; на корешке переплета – три насечки; на продольном обрезе – две пряжки-закрепы.
Во втором поле щита изображена «Божья десница», преподающая миру имяславное благословение. Обычно благословляющая рука (подъятая вверх с двумя благословляющими и прочими согбенными перстами) означает верность, присягу, сохранение клятвы1978. Псалтирь дает многократное упоминание этого элемента на своих станицах: «… вознеси руку Твою, не забудь угнетенных (Твоих до конца)» (Пс.9:33); «…небеса Твои – дело Твоих перстов» (Пс.8:4); «…сильна рука Твоя, высока десница Твоя!» (Пс.88:14). Десница в имяславном благословении олицетворяет Самого Господа Иисуса Христа (в ней – Его благословение, преподаваемое человечеству «со святых небес Своих могуществом спасающей десницы Своей» (Пс.19:7), которое исходит от Него через Церковь и ее служителя).
В третьем поле щита – «ключ» в столб, известный как эмблема со времен античности. В Средневековье «ключ» символизировал безопасность, в геральдике олицетворял власть и могущество. В Евангелии ключ – это «ключ разумения» (Лк.11:52), который означает, как было отмечено выше, ключ от врат Церкви – знак охранения ее Таинств. Изображение ключа представлено бородкой не вниз, а вверх, что указывает на ключ не от земных дверей – им открывают врата Небесные. Бородка – резьба ключа направлена в правую сторону и на ней в центре помещен прорезной греческий крест, по сторонам которого изображены шесть квадратных нарезок.
Четвертое поле щита занимает зажженный пятирожковый «светильник» (свет миру и учительство) с язычками пламени, стоящий на двух витых ножках. Это изображение можно истолковать так1979: ножки – подножие светильника – могут символизировать то, на чем зиждется Церковь Христова, ее фундамент – Сам Иисус Христос и Его Благовестие, которое Его-наша единая святая соборная и апостольская Церковь бережно хранит (Церковь изначально заботилась о том, чтобы иметь наиболее достоверный текст Священного Писания, а с помощью Священного Предания охранять его от извращенных толкований «невежд и неутвержденных» (2Пет.3:16); горящий пятиглавый светильник в образной метафоре представляет аллегорию архиерейского служения Литургии (небесное на земле служение, где Сам Сын Божий невидимо соединяет в руках Святителя свещники – трикирий и дикирий с тремя и двумя в них свечами – во знамение Пресвятой Троицы и двух естеств в Спасителе – Божественного и Человеческого, которыми архипастырь осеняет народ на запад, на север и на полдень (юг). Церковь видит в этом не только двоякий свет дикирия, являющего знамение двоякой природы Христовой – Божественной и Человеческой, но и спасительную цель его воплощения – Крест. Когда же архиерей возвращается в алтарь, но уже не только к Престолу, но и далее – к востоку на Горнее место, изображая Христово Вознесение и седение одесную Бога-Отца, он берет трикирий, и из этой более глубокой внутренней части святилища еще раз осеняет всех Троическим Светом Божества, Живущего во Свете Неприступном: «Глас Господа высекает пламень огня» (2Пет.3:16); «Ты возжигаешь светильник мой, Господи; Бог мой просвещает тьму мою» (Пс.17:29).
Правый Ангел-щитодержатель левой рукой удерживает трилистный Крест – «Крест святого Фомы»1980, в правой руке держит диск-зерцало, внутри которого начертано ПАТРИАРХ (см. здесь). Левый Ангел-щитодержатель правой рукой удерживает Жезл (посох)1981, а в правой его руке – диск-зерцало с начертанием «НИКОН». В качестве щитодержателей выступают силы небесные, что не только подчеркивает принадлежность герба духовному лицу, но и указывает, что изрекаемая Первоиерархом воля о пасении стада церковного есть воля Божественная, поскольку «Патриарх – образ жив Христов». Свидетельством тому является не только Крест спасения и Жезл духовного правления (пасения) – власти, но сам источник власти – Христос (и Спаситель, и Священник, и Царь царей), чей лик предстает в Нерукотворном Образе «Спас на чрепии», соединенном с Митрой-короной (венцом), символизирующей Бога-Саваофа. Жезл и крест на гербе сцеплены с митрой вервиями и удерживаются не кем иным, как Ангелами, которые не могут видеть Божью славу, но созерцают Его волю в дисках-зерцалах (в них отображается Божья воля; но на этих зерцалах надписано и имя Святейшего – Патриарх Никон, тем самым подчеркивается, что воля Божья в воинствующей земной Церкви возвещается Патриархом). Напомним здесь слова, реченные Никоном при его поставлении на Патриаршество, и ответные слова-клятву от Царя, синклита и всей паствы – всего общества и государства: «… во всем слушать и повиноваться Патриарху яко отцу духовному, что буду возвещать в делах пасения, и не вступатися в дела Церкви…»1982.
Щит герба Предстоятеля Русской Православной Церкви увенчан «Венцом Началия» – митрой-короной [«Ты возложил на него честь и величие» (Пс.20:6)]. Нижняя часть митры соответствует изображениям венцов библейских ветхозаветных царей и других лиц того же достоинства, изображаемых на отечественных иконах1983. Но здесь могли иметь место и заимствования из западных источников, поскольку в Европе к XVI в. система геральдических корон, соответствующих рангу и титулу носителя, как было отмечено выше, уже оформилась и имела широкое хождение1984. Исторические же корни венца уходят в далекое дохристианское прошлое1985.
Одним из очевидных источников при создании «Венца Началия» была ранняя папская тиара1986. В древности тиара представляла собой высокий конусообразный головной убор Ассирийских и Персидских Царей. До разделения Церкви в 1054 г. на Восточную кафолическую (православную) и Западную католическую папская тиара была шапкой из белого сукна; в XII в. ее дополнили обручем (образ тернового венца Спасителя).
«Венец Началия» Патриарха Никона – это шлемовидная митра1987, увенчанная равносторонним четырехконечным крестом с жемчужинами на концах. Митра препоясана крестом, нам видна лишь вертикальная лента. На вертикальной перевязи три жемчужины (всего их двенадцать, что символизирует апостолов). В каждой из четвертей венца-митры помещено по малому зерцалу (в фас видно два, означающих Богородицу и Иоанна Предтечу и образующих Деисус). В нижней части «Венца Началия» «около (в основании. – Авт.) митры первосвятителя видим корону»1988, которая представляет собой обод с пятью однородными трилистниками1989 (два крайних изображены в профиль, поэтому видны только два листка). На кончиках листков трилистника, расположенного в центре, и двух крайних трилистников помещено по одной жемчужине. Из-под обруча митры (образ тернового венца) нисходит цепь [«Бог возлагает на нас бремя, но Он же спасает нас» (Пс.67:20)], состоящая из шести звеньев. На этой цепи держится квадратная панагия, что значит «Всесвятая»1990, – наперсный знак лица архиерейского достоинства. В данном случае тип ее иконографического изображения – это Образ Спаса Нерукотворного на чрепии1991 – «…я в правде буду взирать на лице Твое; пробудившись, буду насыщаться образом Твоим» (Пс.16:15); «Сердце мое говорит от Тебя: “ищите лица Моего”» (Пс.26:8); «Ты положил беззакония наши пред Тобою и тайное наше пред светом лица Твоего» (Пс.89:8).
С боковых сторон нижней части «Венца Началия», справа и слева [«… из потока сладостей Твоих Ты напояешь их, ибо у Тебя источник жизни» (Пс.35:9–10)] исходят ленты, плавно переходящие в шнуры с кистями на окончаниях, оплетением удерживая крест и жезл, в которых «правосудие и правота – основание престола Твоего» (Пс.86:6).
Герб положен на скрещенные крест и посох. Крест, опоясанный правым шнуром, оканчивается заостренным концом наподобие пики. Здесь крест выступает в качестве реального духовного оружия – меча Божьего, которым Господь победил дьявола и смерть.
Жезл (с VI в. жезл-посох, стал обязательной принадлежностью, символом архиерейской власти), опоясанный левым шнуром, оканчивается заостренным концом (stimulus). Жезл и крест завершаются одинаково, символизируя свое прямое назначение – «…если нарушат уставы Мои и повелений Моих не сохранят: посещу жезлом беззаконие их, и ударами – неправду их; милости же моей не отниму» (Пс.88:33–34).
Изображенный на гербе Патриарха Никона жезл1992 имеет поперечную перекладину наверху в виде сплетенных змеиных голов, которые обращены одна к другой, знаменуя мудрость пастырской власти. Поперечная перекладина декорирована десятью жемчужинами. Помещенный на гербе жезл напоминает о духовной власти Патриарха, дарованной ему Богом для пасения верных чад воинствующей Церкви во имя и славу Господню.
В качестве щитодержателей1993 предстают два Ангела в поясном изображении1994, выходящие из-под орнаментальных украшений по сторонам гербового щита. Поскольку геральдическая эмблема связана с Главой Русской Православной Церкви, помещение на гербе образов бесплотных ликов оправдано: «Не много Ты умалил его пред Ангелами: Славою и честью увенчал его; поставил его владыкою над делами рук Твоих; все положил под ноги его» (Пс.8:6–7). На гербе Ангелы представлены с распростертыми крыльями, символизируя изъявление скорого ими исполнения Божьих повелений. Иконография изображения ангелов в виде юных крылатых человеческих существ характерна для православной иконописи.
Барочный намет (выходящие из шлема украшения, располагаемые по сторонам щита)1995, обрамляющий герб, декорирован растительным убранством.
***
Таким образом, клейнодная часть герба знаковыми символами «Образа Спаса, Креста, Жезла, Венца Началия» олицетворяет прежде всего Законоучителя и Законоподателя – Господа, а уж потом и самого Патриарха, представляя служение Святителя миру Небесному и миру дольнему, поскольку Предстоятель Церкви – духовный пастырь, отец народу, ответственный пред Господом за сохранение вверенного ему стада.
«Образ Спасов, Крест, Жезл, Венец, Началие», или и жезл, и крест, и митра, и панагия, можно понимать как «Иисус преславный патриархом величание»1996, поскольку крест, панагия и митра возлагаются на архиерея при совершении им Божественной Литургии архиерейским чином. В Ветхом Завете образ Великого Архиерея предстает в первосвященнике Мелхиседеке (Пс.109, 4; Быт. 14, 18), в Новом Завете – Господе Иисусе Христе (Евр.5:5–6, 7:15–16, 21, 22:24–28, 9, 11, 15, 24, 28).
Жезл – символ духовной власти и силы: «жезл правоты – жезл царства Твоего» (Пс.44:7), именующийся посохом или патериссой, – знак высшей пастырской власти. Историческое происхождение символики жезла восходит к Ветхому Завету [одна из священных принадлежностей скинии – жезл Ааронов (Числ.17:1–4)1997 и (Мих.7:14)]1998; первым письменным источникам раннего христианства (1Кор.4:21.)1999. Древнейшие христианские изображения доносят до нас образ Спасителя в виде Доброго Пастыря с жезлом в руке2000.
Идея Святейшего Никона состояла в том, чтобы на деле осуществлять «формулу» живого единства священства и царства: священство заботится о духовном устроении жизни дольнего (земного) мира во образ Небесного, а царская власть посредством справедливых законов управляет эти дольним: «Священник есть освящение и укрепление царской власти, а царская власть есть сила и поддержка священства…»2001. Именно поэтому в гербе Патриарха столь зримо обозначены конкретные образы, почерпнутые со страниц Священного Писания: для духовного просвещения предназначено Евангельское слово, благословение – в Деснице, Светильник – символ Божьего света (смыслов), вхождение в Церковь, подаяние Таинств, вязание и решение – Ключ. В совокупности Церковь – удел Патриаршего и ничьего более назирания и хранения.
Возможно полагать, что при составлении данного герба цель была в утверждении Церкви и ее Главы в глазах православного и инославного мира. Памятуя о Ромейском политическом и святоотеческом наследии, следствием которого стало образование третьего Рима на канонической территории Русской Православной Церкви, он попытался сформулировать и выразить графическими средствами достоинство и честь Первоиерарха Русской Православной Церкви как «образа жива Христа» в системе общественногосударственных, даже шире – межгосударственных отношений в период их активного развития. Для этого потребовался соответствующий официальный знаково-символьный эквивалент выражения чести и достоинства, присущих лицу, которое представляет Православную Церковь. Именно в этом состоял смысл употребления Первоиерархом герба в качестве символа суверенитета Церкви и ее независимости от власти предержащей и государственно-политических образований.
Геральдическая эмблема Патриарха Никона в ходе дальнейшей церковно-гражданской жизни и в силу известных исторических обстоятельств до настоящего времени не нашла адекватного понимания и применения. Богу было угодно вверять истины веры для хранения, сбережения и приумножения разным народам. И в последние несколько столетий это стало венцом служения русского Православия и Русской Церкви. Одним из тех, кто достойно пронес столь великое бремя, был Святейший Патриарх Никон, оставивший в назидание истории патриарший герб – символ сильной, независимой и самостоятельной Церкви. В этом смысле геральдическая эмблема – это закономерный продукт времени, явившийся в своем воплощении символом Православной Церкви в мире дольнем и отличительным институциональным знаком в системе церковно-государственного взаимодействия.
Византийский идеал «симфонии» двух властей и его влияние на формирование церковно-государственных отношений в России (Лескин Д. Ю.)
Формы взаимоотношений между Церковью и государством всегда, начиная с древнейших времен, занимали значительное место в творениях Святых Отцов и Учителей Церкви. В то же время с момента начала христианизации языческой государственности сама власть стремилась внести христианское начало в юридические установления. В связи с этим становится ясно, что идеал «симфонических» отношений между Церковью и государством, провозглашенный императором Юстинианом (527–565), явился плодом многовекового движения Церкви и государства навстречу друг другу. Этот идеал, искомый, но практически недостижимый, оказал огромное влияние на формирование юридической культуры и социального мировоззрения христианской части человечества.
Взаимоотношения Церкви и государства развивались в контексте истории, в ходе изменений самого государства. Развивая учение Христа о правильном отношении к государственной власти, апостол Павел писал: «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога. Существующие же власти от Бога установлены. Посему противящийся власти противится Божию установлению. А противящиеся сами навлекут на себя осуждение. Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти? Делай добро, и получишь похвалу от нее, ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч: он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое. И потому надобно повиноваться не только из страха наказания, но и по совести. Для сего вы и подати платите, ибо они – Божии служители, сим самым постоянно занятые. Итак отдавайте всякому должное: кому пóдать, пóдать; кому оброк, оброк; кому страх, страх; кому честь, честь» (Рим.13:1–7; здесь и далее в цитатах курсив мой. – Д. Л.).
Ту же мысль выразил и апостол Петр: «Итак будьте покорны всякому человеческому начальству, для Господа: царю ли, как верховной власти, правителям ли, как от него посылаемым для наказания преступников и для поощрения делающих добро, – ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей, – как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии» (1Пет.2:13–16). Апостолы учили христиан повиноваться властям независимо от их отношения к Церкви. В апостольский век Церковь Христова была гонима и местной иудейской властью, и государственной римской, но это не мешало мученикам и другим христианам возносить молитвы за гонителей и признавать их власть.
Государство как необходимый элемент жизни в поврежденном грехом мире, где личность и общество нуждаются в ограждении от опасных проявлений греха, благословляется Богом. В то же время необходимость государства вытекает не непосредственно из воли Божией о первозданном Адаме, но из последствий грехопадения и господства греха в мире. Господь призывает власть имущих использовать силу государства для ограничения зла и поддержки добра, в чем и видится смысл, в том числе и нравственный, существования государства (Рим.13:3–4). Исходя из вышесказанного, анархия, отсутствие надлежащего устроения государства и общества, а равно призывы к ней и попытка ее установления противоречат христианскому миропониманию (Рим.13:2).
Церковь предписывает своим чадам не только повиноваться государственной власти независимо от убеждений и вероисповедания ее носителей, но и молиться за нее, «дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте» (1Тим.2:2)2002.
Нет ничего более неправильного, чем следовать социалистической концепции отрицания первохристианскими общинами основ римской государственности. При всей языческой окрашенности римской власти Церковь никогда не восставала против государства как такового, четко различая природу Церкви и государства и не позволяя себе смешивать их, что было неведомо языческому Риму, где император был одновременно «Pontifex Maximus». Из этого разделения природы Церкви и государства и понимания онтологической несводимости их к одному началу берет свой исток учение о «симфонии» властей.
Принцип различения природы Церкви и государства, из которого вытекает и различение целей и задач, стоящих перед ними, гласит, что Церковь основана непосредственно Иисусом Христом, богоустановленность же государственной власти опосредована историческим процессом. Целью Церкви является вечное спасение людей, цель государства заключается в их земном благополучии.
«Царство Мое не от мира сего», – говорит Спаситель (Ин.18:36). «Сей мир» отчасти повинуется Богу, отчасти же автономизирует себя от своего Творца и Господа. Поэтому, в определенном смысле, он – не Его Царство. В той степени, в какой мир не подчиняется Богу, он подчиняется «отцу лжи», сатане, и «во зле лежит» (Ин.8:44; 1Ин.5:19). Церковь же – «тело Христово» (1Кор.12:27), «столп и утверждение истины» (1Тим.3:15) – в своей таинственной сущности не может иметь в себе ни зла, ни порока.
Там, где государство сознает себя как религиозное установление или стремится быть таковым, оно ищет церковного руководства, как верующий человек – руководства духовного отца. В современном мире государство обычно является светским и не связывает себя какими-либо религиозными обязательствами. Его взаимодействие с Церковью в этом случае ограничено рядом областей, основано на взаимном невмешательстве в дела. Однако, как правило, государство осознает, что земное благоденствие немыслимо без соблюдения определенных нравственных норм (которые потребны и для спасения человека в вечности). В этом смысле задачи и деятельность Церкви, и государства могут совпадать – не только в интересах чисто земной пользы, но и учитывая спасительную миссию Церкви.
В свете вышесказанного Церковь не должна брать на себя функции, принадлежащие государству: противостояние греху путем насилия, использование мирских властных полномочий, принятие на себя функций государственной власти, предполагающих принуждение или ограничение. В то же время Церковь может обращаться к государственной власти с просьбой или призывом употребить власть в тех или иных случаях, однако право авторитетного решения этого вопроса остается за государством.
Государство не должно вмешиваться в духовную жизнь Церкви, в ее вероучение, литургическую и духовническую практику, равно как и вообще в работу канонических церковных учреждений, за исключением тех ее сторон, которые предполагают деятельность в качестве юридического лица, неизбежно вступающего в соответствующие отношения с государством, его законодательством и властными органами. Церковь вправе ожидать от государства уважения к ее каноническим нормам и иным внутренним управлениям2003.
Библейское богословие доносит мысль вневременности и богочеловечности Церкви и исторической обусловленности возникновения государства. Церковь – не от мира сего, так же, как ее Господь – Христос – не от мира сего. Но Он пришел в этот мир, «смирив» Себя до его условий, в мир, который надлежало Ему спасти и восстановить. Церковь должна пройти через процесс исторического кенозиса, осуществляя свою искупительную миссию. Ее целью является не только спасение людей в этом мире, но также спасение и восстановление самого мира.
Церковь призвана действовать в мире по образу Христа, свидетельствовать о Нем и Его Царстве. Члены Церкви призваны приобщаться миссии Христовой, Его служению миру, которое возможно для Церкви лишь как служение соборное, «да уверует мир» (Ин.17:21). Церковь призвана служить спасению мира, ибо и Сам Сын Человеческий «не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих» (Мк.10:45)2004.
Ветхозаветные книги рассказывают о том, как единственная в истории человечества подлинная теократия древних евреев по мере удаления общества от послушания Богу как устроителю мирских дел начинает сменяться властью земного властителя – монарха.
Господь, принимая выбор людей и санкционируя новую форму правления, в то же время сожалеет об оставлении ими богоправления: «И сказал Господь Самуилу: послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе; ибо не тебя они отвергли, но отвергли Меня, чтобы Я не царствовал над ними… итак, послушай голоса их; только представь им и объяви им права царя, который будет царствовать над ними» (1Цар.8:7–9).
Таким образом, возникновение земного государства должно быть понимаемо не как изначально богоустановленная реальность, но как предоставление Богом людям возможности устраивать свою общественную жизнь, исходя из их свободного воле изъявления, с тем, чтобы такое устроение, являющееся ответом на искаженную грехом земную реальность, помогало избежать еще большего греха через противодействие ему средствами мирской, но просвещенной Богом власти.
Господь устами Самуила ясно говорит, что ожидает от этой власти верности Его заповедям и творения добрых дел: «Итак, вот царь, которого вы избрали, которого вы требовали: вот, Господь поставил над вами царя. Если будете бояться Господа и служить Ему и слушать глас Его, и не станете противиться повелениям Господа, то и будете и вы и царь ваш, который царствует над вами, ходить вслед Господа, Бога вашего… а если не будете слушать гласа Господа и станете противиться повелениям Господа, то рука Господа будет против вас» (1Цар.12:13–15). Когда Саул преступил заповеди Господни, Бог отверг его (1Цар.16:1), велев Самуилу помазать на царство другого избранника Своего – Давида, сына простолюдина Иессея.
Эпохой, когда были не только теоретически обоснованы «симфонические» отношения, но и имела место попытка установления церковно-государственных отношений в соответствии с этим идеалом, стало время расцвета Ромейской империи – Византии.
В Византии на протяжении IV–IX вв. были выработаны основные принципы церковно-государственных отношений, зафиксированные в канонах и государственных законах империи и нашедшие отражение в святоотеческих писаниях. В своей совокупности эти принципы получили название симфонии Церкви и государства. Суть «симфонии» составляют сотрудничество, взаимная поддержка и взаимная ответственность без вторжения одной стороны в сферу исключительной компетенции другой. «Епископ подчиняется государственной власти как подданный государству, а не потому, чтобы епископская власть его исходила от представителя государственной власти; точно так же и представитель государственной власти повинуется епископу как член Церкви, как грешный человек, ищущий спасения от Церкви, а не потому, чтобы власть его происходила от власти епископа»2005, – утверждает церковное право. Государство при «симфонических» отношениях с Церковью ищет у нее моральной, духовной поддержки, молитвы за себя и благословения на деятельность, направленную на достижение благополучия граждан, а Церковь получает от государства помощь в создании условий, благоприятных для благовествования и духовного окормления своих чад, являющихся одновременно гражданами государства.
Отцы Карфагенского собора в 104 (93)-м каноне выразили мысль о том, что благочестивые носители государственной власти призваны быть защитниками Кафолической Церкви: «Царскому человеколюбию предлежит попещися, чтобы Кафолическая Церковь, благочестною утробою Христу их родившая, и крепостию веры воспитавшая, была ограждена их промышлением; дабы в благочестивыя их времена, дерзновенные человеки не возгосподствовали над безсильным народом, посредством некоего страха, когда не могут совратити оный посредством убеждения»2006.
Церкви не возбраняется обращаться с просьбой о защите от чинящих насилие над ее членами, ее храмами ко всякой законной государственной власти независимо от ее отношения к Церкви, тем более к власти, которая состоит в «симфонических» отношениях с Церковью. В критические моменты православные византийские императоры неизменно вступались в защиту Церкви. Императоры Феодосий II и Валентиниан III писали епископам Александрийской Церкви, когда во главе со святым Кириллом боролись за чистоту православия против несторианской ереси: «Состояние нашего государства зависит от благочестия, так как между ними много общего и родственного. Они поддерживают одно другое и преуспевают одно преуспеянием другого, так что истинная вера светит правдою, а государство процветает, когда соединяет в себе и то, и другое. И мы, как государи, поставленные Богом быть защитниками благочестия и счастья наших подданных, всегда стараемся сохранить связь между ними нераздельною, служа Промыслу Божию и людям, именно мы служим Промыслу, когда заботимся о преуспеянии государства и, предавшись всецело попечению о подданных, направляем их к благочестивой вере и жизни, достойной верующих, и прилагаем должное старание о том и другом. Ибо невозможно, чтобы тот, кто заботится об одном (государстве), не думал также и о другом (Церкви)»2007.
При императоре Юстиниане2008 произошло существенное изменение правовой основы взаимоотношений Церкви и государства. Юстиниан Великий фактически обобщил идеи, которые на протяжении почти 220 лет высказывались многими его предшественниками в отношении церковной политики, и выразил их в законодательстве. Было установлено, что право проповедовать учение веры принадлежит одной Церкви. Одновременно императорская власть стремилась поднять государство до высоты церковных идеалов, ввести в гражданское законодательство нормы законодательства церковного. Государственная власть, свято охраняя неприкосновенность церковного канона, стала придавать постановлениям церковной власти значение государственных законов. По законодательству Юстиниана, то, что запрещалось постановлениями церковной власти, не дозволялось и государственными законами. «Догматические определения Вселенских Соборов мы признаем как Святое Писание, – говорится в одном из законов, – а правила их соблюдаем как законы государственные»2009.
Канон объявлялся законом, но при этом появлялась возможность своеобразной замены канона законом. Государство, объявившее себя христианским, вольно или невольно, но фактически пыталось поставить Церковь на то место, которое в Римском государстве занимала римская государственная (языческая) религия. Дело в том, что, делаясь законом, канон терял свою обособленность, а всевластный император, комментируя канон, ставший законом, через это мог возносить себя над каноном. Император-христианин получил возможность по-своему (в государственных интересах) раскрывать содержание канона. Правление Юстиниана дает немало тому подтверждений. Его регламентации подверглись правила избрания, поведения и взаимоотношений епископов, клириков, монахов, наказания клириков, вопросы церковного имущества. Епископы получили обширные полномочия по государственным (т.е. гражданским) делам, точнее, им вменили многочисленные государственные обязанности.
Правление Юстиниана – это время, в которое были созданы те правовые основы взаимоотношений Церкви и государства, которые впоследствии сохранялись в Византии вплоть до ее падения и которые были заимствованы в Х и последующих веках Русью. В первую очередь это относится к положению «канон церковный – закон государственный». Кроме того, христианская направленность реформ Юстиниана сказалась на содержании большинства юридических норм, прежде всего регламентирующих отдельные стороны церковной жизни: церковные общины теперь наделялись правами юридического лица, а в вопросах собственности им предоставлялись разнообразные привилегии – они получили право выступать наследниками по завещаниям (ранее такими правами обладали только государство и городские общины) и т.д.
Особенностью Юстиниановых реформ стало то, что в результате их государственная власть превратилась в охранителя веры. Наиболее наглядно это проявилось в установлении ограничений в правоспособности граждан империи, связанных с вероисповеданием:
– язычники и евреи лишались права занимать должности на государственной или общественной службе, не могли владеть рабами-христианами;
– отступники, т.е. лица, перешедшие из христианства в язычество или иудейство, лишались права составлять завещания и наследовать, а также быть свидетелями на суде;
– еретики не могли занимать никаких должностей на государственной или общественной службе; они лишались права наследовать, делать подарки и отказы (предоставлять имущественные выгоды на случай смерти без возложения ответственности за долги наследователя) они могли только в пользу православных.
Относительно некоторых сект были приняты еще более суровые меры.
Для понимания сущности взаимоотношений Церкви и государства в тот период центральной является новелла VI св. Юстиниана: «Величайшие дары Божии, данные людям высшим человеколюбием, это священство и царство. Первое служит делам Божеским, второе заботится о делах человеческих. Оба происходят от одного источника и украшают человеческую жизнь. Поэтому цари более всего пекутся о благочестии духовенства, которое, со своей стороны, постоянно молится за них Богу. Когда священство беспорочно, а царство пользуется лишь законной властью, между ними будет доброе согласие и все, что есть доброго и полезного, будет даровано человечеству. Мы заботимся и о хранении православной веры, и о благоустроении священства, чем надеемся получить великие блага от Бога и соблюсти твердый порядок в государстве, а также обрести то, чего еще не достигли. Хороший конец всегда увенчивает вещи, предпринятые должным богоугодным образом. Здесь тщательно соблюдаются священные каноны, которые завещали нам славные апостолы, досточтимые свидетели и служители Божии, и которые сохранили и разъяснили святые отцы»2010.
Юстиниан говорил не о государстве и Церкви, а о двух служениях, или двух представительствах, установленных в христианском содружестве. Они были равно утверждены Божьей властью, утверждены с единой конечной целью. Как «дар Божий» царство (imperium) независимо от священства (sacerdotium). Но оно зависимо, подчинено той Божественной цели, ради которой создавалось. Эта цель – верное хранение христианской истины, содействие ей. Хотя империя как таковая не подчинялась Иерархии, она все же подчинялась Церкви, которая была установлена Богом для хранения Его истины. Другими словами, царство было законно только внутри Церкви. Во всяком случае оно было строго подчинено вере Христовой, определялось наставлениями апостолов и Отцов и в этом смысле ограничивалось ими2011.
Идеал «симфонии» в исторической реальности оказался недостижим: история Византии VI–XV вв. свидетельствует о том со всей наглядностью. Все последующие юридические сборники Константинополя всегда стремились оставаться на Юстиниановой платформе, в то же время каждый император мог внести собственное видение проблемы церковно-государственных взаимоотношений, к чему также располагало законодательство Юстиниана.
В этот период в Римской империи многократно возникал соблазн цезарепапизма. По мнению прот. Г. Флоровского, это соблазн государства, а не Церкви: «Вопиющие злоупотребления византийских кесарей игнорировать нельзя. Но, с другой стороны, нельзя не заметить того, что императоры никогда не добивались успеха, пытаясь идти против веры Церкви. Византийская Церковь был достаточно сильна, чтобы противиться давлению Империи. Императорам не удалось навязать Церкви ни компромисс с арианами, ни поспешное примирение с монофизитами, ни иконоборчество, ни (в более позднее время) нелепое “воссоединение” с Римом»2012.
Вопросом, который стал и богословской проблемой, были формы происхождения государственной власти. Раскрытая выше библейская традиция исторической опосредованности ее и античная, говорящая об империи как Божественном установлении, требовали согласования.
Еще в IV в. попытку согласовать две традиции понимания природы государственной власти осуществил первый историк Церкви Евсевий Памфил, епископ Кесарийский. В некоторых своих трудах («Жизнь Константина», «Похвала Константину» и первая книга «Церковной истории») он предложил вполне законченный образ, который впоследствии и лег в основу реально существующей в Византии модели имперской власти. В основе этого образа – представление о космической гармонии, составной частью которой является совершенное государство. Для Евсевия империя наравне с Церковью есть богоданный институт, призванный избавить человечество от дурной множественности образов правления и междоусобных войн. Поэтому государство, как и Церковь, может быть только одно. Момент, когда идеальное мировое государство, Римская империя, «встречается» с христианской Церковью, есть для Евсевия момент воцарения подлинной гармонии, своеобразная кульминация земной истории. Отныне все цивилизованное человечество (а в перспективе и варвары) может наслаждаться миром и спокойствием в ограде Pax Romana, которая теперь совпадает с оградой церковной. Две сферы, духовная и телесная, соединяются в единое целое; два града – Небесный и земной – образуют неразрывное единство. Земная история в каком-то смысле замирает на высшей точке своего развития, достигает «промежуточного финала», отныне остается только ждать Второго пришествия как финала окончательного.
Однако при всей проработанности концепции Евсевия нельзя сказать, что она безоговорочно была принята Церковью. Церковь строго различала природу двух властей – светской и духовной – и не могла свести их воедино. Г. Флоровский пишет: «В византийской системе император занимал высокое и славное положение. Его окружал ореол теократического величия. Дворцовый церемониал был пышен и тщательно разработан. Он имел религиозный характер – это своего рода ритуал, чуть ли не «императорская литургия». И все же император не более чем мирянин»2013. У него было определенное место в Церкви, очень видное и высокое, но место мирянина2014. В Церкви как бы существовало одно особое служение, оставленное для мирянина. Императоры не принадлежали к официальной церковной иерархии, никоим образом не были «служителями Слова и таинств». В их миссии можно увидеть нечто «священническое» и, конечно, это не раз подчеркивалось. Но имелось в виду весьма специфическое «царственное священство», отличаемое от священства церковного, которое даровано духовенству.
Христианские императоры Византии были прямыми преемниками языческих римских принцепсов, которые среди многих своих титулов имели и такой: Pontifex maximus (Верховный первосвященник). Эта традиция, конечно, в ослабленной форме, но время от времени проявлялась в действиях некоторых христианских императоров. Наиболее откровенно и угрожающе для Церкви цезарепаписткая тенденция находила выражение в политике императоров-еретиков, особенно в иконоборческую эпоху.
Талантливые императоры-военачальники исаврийцы, жестокие гонители православия иконоборцы вошли в историю как составители крупнейшего после Юстиниана юридического свода «Эклоги», действовавшего в VIII–IX вв. и представлявшего, несмотря на декларированное единство с корпусом Юстиниана, серьезный отход от него. Вмешательство императоров Льва III (717–741) и Константина V (741–775) в церковную жизнь, выразившееся в преследовании иконопочитателей, было целенаправленной и продуманной политикой утверждения примата имперской власти над патриаршей2015.
Золотым веком византийской государственности стало время правления императоров Македонской династии (867–1056), замечательное тем, что ни один из членов этого рода не потерял власти в результате переворота или мятежа. Юридическими памятниками этой поры стали «Василики» [по имени основателя династии Императора Василия I (867–886)] и более компактная «Эпанагога» [«Возведение», авторское название «Исагога» («Введение», 886 г.)], стремившиеся заменить «Латинский Юстинианов корпус» греческим сводом законов.
Именно «Эпанагога» содержит классическую форму взаимоотношений между государством и церковной властью: «Мирская власть и священство относятся между собою, как тело и душа, необходимы для государственного устройства точно так же, как тело и душа в живом человеке. В связи и согласии их состоит благоденствие государства». Ту же мысль находим и в актах VII Вселенского Собора: «Священник есть освящение и укрепление императорской власти, а императорская власть посредством справедливых законов управляет земным».
В «Эпанагоге» мы находим развернутое учение о правах и обязанностях «двух глав» – Императора и Патриарха, которые являются не представителями различных властей (государства и Церкви), но двумя главами единого государственно-церковного организма. Лишь обе главы вместе знаменуют собой полноту земной верховной власти в Византийской империи. Верховным же Законодателем, Судией и Правителем церковно-государственного организма является сам Господь Иисус Христос.
В «Эпанагоге» последовательно давались общее определение власти Императора и Патриарха, формулировались их основные задачи, цели деятельности, назывались необходимые свойства и личностные качества.
В 1-й главе титула II «О Василевсе» говорилось, что Император – это «правовая власть, общее благо для всех подданных. Царь не подвергает кого-либо наказанию по антипатии к нему и не делает добра по пристрастию, но дает награды беспристрастно, подобно судиям в борьбе».
Согласно 2-й главе, «…задача Императора – охрана и обеспечение существующих сил [народных] добрым управлением, восстановление поврежденных сил бдительною заботою, приобретение новых сил мудростью и справедливыми путями и действиям».
3-я глава: «…цель Императора – благодетельствовать, почему он и называется благодетелем. И когда он отложит благодетельствование, кажется, что он извратит смысл понятия царя сравнительно с древними учениями».
4-я глава: «…Император должен защищать и подкреплять, во-первых, все написанное в Божественном Писании, потом также все догматы, установленные семью Святыми Соборами, а также избранные римские законы».
5-я глава: «…Император должен быть отличнейшим в Православии и благочестии и прославленным в божественном усердии, сведущим в догматах о Святой Троице и в определениях о спасении через воплощение Господа нашего Иисуса Христа».
Титул III «О Патриархе» открывался следующим определением:
«Патриарх есть живой и одушевленный образ [икона] Христа, словом и делом свидетельствующий истину» (1-я глава).
2-я глава гласит: «…задача Патриарха, во-первых, та, чтобы тех людей, которых он принял от Бога, охранять в благочестии и чистоте жизни, а потому он должен всех еретиков по возможности обращать к Православию и единству Церкви, а еще приводить к принятию истинной веры неверных, поражая их блеском и славностью и чудом своего служения».
3-я глава: «…цель Патриарха – спасение вверенных ему душ; патриарх должен жить о Христе и распяться для мира».
4-я глава: «…Патриарху особенно свойственно быть учительным и равно относиться без ограничений к высоким и низким, и мягким быть в правосудии, искусным на обличение неверных, а о правде и защите догматов говорить перед лицом императора и не смущаться».
5-я глава: «Патриарх один только должен толковать правила древних (Патриархов) и определения Святых отцов и положения святых Синодов».
6-я глава: «…содеянное и устроенное древними Отцами в соборах и епархиях, особенно и соборне, Патриарх должен лечить, пользовать и очищать».
8-я глава: «…государство составляется из частей и членов подобно отдельному человеку. Величайшие и необходимейшие части – Император и Патриарх. Поэтому единомыслие во всем и согласие царства и священства [составляет] душевный и телесный мир и благоденствие подданных»2016.
Учение о «симфонии» властей имело колоссальное значение для истории развития церковно-государственных отношений во всем христианском мире. В высшей степени определяющим было оно и для Древней Руси. Церковно-государственные взгляды преп. Иосифа Волоцкого, старца Филофея, Иоанна Грозного, Андрея Курбского были бы невозможны без оплодотворяющего влияния византийского учения.
Проблема взаимоотношений Церкви и государства остро стояла и в синодальную эпоху, в особенной полноте проявившись во время Поместного собора 1917–1918 гг., на котором действовал отдел, посвященный этому вопросу, и было принято специальное определение. Предваряющая его декларация, составленная по поручению Собора проф. С. Н. Булгаковым, гласила, что принцип отделения Церкви от государства «должен быть соединен с принципом их «симфонического соработничества». Требование абсолютного отделения Церкви от государства сравнимо с пожеланием, чтобы «солнце не светило, а огонь не согревал. Церковь по внутреннему закону своего бытия не может отказаться от призвания просветлять, преображать всю жизнь человечества, пронизывать ее своими лучами».
Церковь не связывает себя с определенной формой правления. «Ныне, когда волею Провидения рушится в России царское самодержавие, а на замену его идут новые государственные формы, Православная Церковь не имеет определения об этих формах со стороны их политической целесообразности, но она неизменно стоит на таком понимании власти, по которому всякая власть должна быть христианским служением»2017, – говорилось в материалах Собора.
Проблема сотрудничества Церкви и государства занимает значительное место и в «Основах социальной концепции Русской Православной Церкви», принятых на Юбилейном Архиерейском соборе 2000 г., где областями соработничества Церкви и государства в настоящий исторический период названы:
«…а) миротворчество на международном, межэтническом и гражданском уровнях, содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами и государствами;
б) забота о сохранении нравственности в обществе;
в) духовное, культурное, нравственное и патриотическое образование и воспитание;
г) дела милосердия и благотворительности, развитие совместных социальных программ;
д) охрана, восстановление и развитие исторического и культурного наследия, включая заботу об охране памятников истории и культуры;
е) диалог с органами государственной власти любых ветвей и уровней по вопросам, значимым для Церкви и общества, в том числе в связи с выработкой соответствующих законов, подзаконных актов, распоряжений и решений;
ж) попечение о воинах и сотрудниках правоохранительных учреждений, их духовно-нравственное воспитание;
з) труды по профилактике правонарушений, попечение о лицах, находящихся в местах лишения свободы;
и) наука, включая гуманитарные исследования;
к) здравоохранение;
л) культура и творческая деятельность;
м) работа церковных и светских средств массовой информации;
н) деятельность по сохранению окружающей среды;
о) экономическая деятельность на пользу Церкви, государства и общества;
п) поддержка института семьи, материнства и детства;
р) противодействие деятельности псевдорелигиозных структур, представляющих опасность для личности и общества.
В то же время существуют области, в которых священнослужители и канонические церковные структуры не могут оказывать помощь государству, сотрудничать с ним. Это:
а) политическая борьба, предвыборная агитация, кампании в поддержку тех или иных политических партий, общественных и политических лидеров;
б) ведение гражданской войны или агрессивной внешней войны;
в) непосредственное участие в разведывательной и любой иной деятельности, требующей в соответствии с государственным законом сохранения тайны даже на исповеди и при докладе церковному священноначалию»2018.
Будем надеяться, что принятая Концепция и постулируемо-реализуемая на ее основе социальная доктрина окажет свое плодотворное влияние и станет сдерживающим фактором набирающих мощь процессов деперсонализации и дегуманизации в инновационноволюнтаристской кратократической картине мира Новейшего времени.
Человек – общество – Церковь – государство: мир Бога и власть государства (Тодоров А. А., Шмидт В. В.)
Более двух тысяч лет назад в истории мира была явлена доминанта, которая преобразила весь мир. Для понимания этого сущностного преображения достаточно сравнить исторические или философские тексты и Священное Писание Нового Завета, написанное учениками Иисуса Христа, помня, что они были созданы в одно историческое время. Отличие будет разительным, поскольку Евангелие – это Благая Весть о нашем спасении, спасении человека и человечества, переданная нам Сыном Божьим, Самим Богом; это как незыблемая картина мира, совокупный текст, выразивший аксиологическое целеполагание этого мира в совокупном взаимотворящем и взаимообусловливающем тео-антропо-бытии.
С приходом Христа в социобытии произошло явление, дотоле не существовавшее, – рождение Церкви, которая будет оставаться на рождающей земле до скончания веков. Иоанн Златоуст определяет Христову Церковь следующим образом: «Церковь есть общество верующих в Иисуса Христа, поставивших своей целью приготовление к жизни лучшей, бессмертной, нетленной …Они ведут свою жизнь так, что, живя на земле, образуют из себя царство не от мира сего, “государство небесное”, гражданство Нового Иерусалима всех верующих во Христа»2019.
В этом определении Церкви присутствуют антропо-историософские категории и понятия: «царство», «государство», «гражданство», «соборность», «общее-частное», «сакральное-профанное», «временное-вечное» и другие, а также топонимическо-иеротопический символизм, соотнесенный с вещественностью (заданы координаты «земной» предметно-вещной истории) и духовно-опредмеченной реальностью, здесь проявилась детерминированность трансцендентально-трансцендентного.
О подобном «Новом Иерусалиме» говорится в Апокалипсисе святого Иоанна Богослова: «И видех небо ново и землю нову: первое бо небо и земля первая преидоша, и моря несть к тому. И аз Иоанн видех град святый, Иерусалим нов сходящ от Бога с небесе, приготован яко невесту украшену мужу своему. И слышах глас велий с небесе, глаголющ: се скиния Божия с человеки. И вселится с ними: и тие людие Его будут, и сам Бог будет с ними Бог их: И отимет Бог всяку слезу их. И рече седяй на престоле: се нова вся творю; и глагола ми: напиши, яко сия словеса истинна и верна суть. И рече ми: совершишася; Аз есмь Алфа и Омега, начаток и конец» (Откр.21:1–6).
В IV в. усилиями святых равноапостольных Царя Константина и его матери Царицы Елены город Иерусалим был очищен от языческих капищ, возведенных на местах страдания Иисуса Христа, и был обретен Крест Христов. Это событие св. Константин описывал так: «Это чудо во столько выше всего в Эйкумене, вмещаемого в себя человеческим разумом, во сколько небесное превосходнее человеческого»2020. На месте погребения и чудного Христова Воскресения был воздвигнут храм, который историк Памфил, духовный соратник св. Константина, называет “новым Иерусалимом, в противоположность так называемому древнему Иерусалиму… в ознаменование победы Спасителя над смертью, может быть, тот самый храм, который пророческое слово называет новым и юным Иерусалимом, и во славу которого, по внушению Духа Божьего, так много говорится в Писании»2021.
Безусловно, говоря о Новом Иерусалиме, апостол и Святые Отцы в первую очередь связывают его с именем Бога – Иисуса Христа, с появлением Которого исчезли старые, ветхие законы, а жизнь человеческая ознаменовалась новым, Божественным содержанием. Именно об этом новом «государстве» говорили пророки Михей и Исайя за семь веков до пришествия Спасителя в мир: «И будет в последние дни, гора дома Господня будет поставлена во главу гор и возвысится над холмами и потекут к ней все народы. И пойдут многие народы и скажут: придите и взойдем на гору Господню, в дом Бога Иаковлева, и научит Он нас Своим путям и будем ходить по стезям Его; ибо от Сиона выйдет закон, и слово Господне – из Иерусалима» (Мих.4:1; Ис.2:2).
Как же согласуются между собой старые формы и новое содержание, земные категории и их «Небесная» интерпретация? Это можно понять из поступков и слов самого Спасителя – из Евангелия.
За пять дней до Своей спасительной смерти Иисус Христос впервые вступает в Иерусалим во исполнение пророчеств как Царь Израилев, показывая всенародно, как может быть Мессия предреченным через пророков Царем и в то же время быть совершенно чуждым земному владычеству: «Его именуют Царем Израилевым; Ему поют осанна; пред Ним сыплют ветви, постилают одежды, оказывают почести, выражающия величайшую любовь, искренность и силу усердия: но где же торжественная колесница? Где вооруженные слуги? Где царские украшения? Все это заменено двенадцатью учениками, столь же убогими, как Учитель, ослицею и осленком, взятыми на время у других! Самый последний из владельцев никогда не являлся в такой простоте и убожестве, как теперь Иисус!»2022.
Когда же Иисус Христос был поставлен на суд представителя римской власти, пред Понтием Пилатом, по обвинению, в частности в том, что называл себя царем земным, прокуратор спросил Его: действительно ли Он – Царь иудейский, на что Иисус Христос отвечал: «Царство Мое не от мира сего; если бы от мира сего было Царство Мое, то служители Мои подвизались бы за Меня, чтобы Я не был предан Иудеям; но ныне Царство Мое не отсюда» (Ин.18:36). Тогда вторично Пилат спросил Иисуса Христа, Царь ли Он? На это Иисус ответил: «Ты говоришь, что Я Царь. Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать о истине; всякий, кто от истины, слушает гласа Моего» (Ин.18:37).
Святитель Иннокентий так комментирует этот отрывок из Евангелия: «Пилат, по-видимому, остался доволен таким ответом; только слово “царство” еще звучало сомнительно в ушах политика. «Однако же Ты – Царь?», – спросил опять Пилат, давая понять, как неуместно это слово в устах Обвиняемого. Господь отвечал: “Ты верно говоришь, что Я – Царь, и это наименование совершенно согласно с истиною”…Пилат не способен был понять слова Господа в нашем христианском смысле; но он был знаком с сочинениями своих языческих мудрецов, из коих один говорил: “Ты царь, если живешь добродетельно”; в таком смысле и понял слова Господа Пилат»2023.
Итак, Царя всей земли, всего недвижимого и живого, Царя всего видимого и невидимого не признали ни иудеи – хранители Божьего Закона, каковыми они считали себя, ни язычники, для которых царь означал высшую политическую фигуру. Но независимо от этого на земле была установлена Христова Церковь – видимое воплощение Небесного Града, Небесного Царства, цель которой была и останется всегда одной – спасение человеческой души ради жизни будущей, вечной. Христова Церковь выживала в условиях и злобной ненависти и гонений иудейского синедриона, и физического истребления языческой властью. Но, наконец, настало время, когда Кесарь всей Римской империи открыто объявил всему миру, что он христианин и что цели его империи, помимо основной – земного благополучия своего народа, – совпадают с целями Христовой Церкви – спасение человечества в будущей жизни.
Какое же место было суждено занять Христовой Церкви в христианском мире? На каких основах и принципах должны были строиться и развиваться отношения между государством и Церковью, между царем и патриархом? Где баланс между государственными законами и церковными канонами? Каким должно было быть отношение государства к другим верам и исповеданиям, верующим и собственно конфессиональным институтам?
Чтобы ответить на эти и другие многочисленные вопросы, необходимо было создать теоретическую базу, учение о Церкви Христовой как особом религиозном учреждении – институции. Основой этой теоретической базы и ее практического применения всегда были и остаются Священное Писание, а также творения Святых Отцов Церкви, из которых Иоанн Златоуст более других занимался вопросами приложения истин Откровения к земной жизни.
Одной из основных идей сосуществования двух властей, церковной и государственной, явилась идея «симфонии», «выражаемой в духовном единении царя с архипастырями Церкви… в духовном согласии совместного подчинения одной Богооткровенной Истине», которая была юридически закреплена новеллой VI императора Юстиниана: «Великая паче иных иже в человецех есть дара Божия, от Вышняго дарована человеколюбия Божия, священство же и царство; ово убо Божественным служа, се же человеческими владея и пекийся: от единаго же тогожде начала обоя происходят человеческое украшающее житие, якоже ничтоже тако бывает поспешнее царству сего ради, якоже Святительская честь: о обоих самех тех присно вси Богови молятся: аще бо они непорочни будут во всем и к Богу имут дерзновение и праведно и подобно украшати начнут преданные им грады, и сущее под ними будет согласие некое благо, во еже добро человечестей даруя жизни… мы поэтому имеем величайшую заботливость о сохранении истинных догматов и о почитании священства; верим, что при почитании его Бог пошлет величайшия нам блага, утвердит те, которые уже имеем, и мы приобретем те, которых еще не было до сих пор.
Сему бытии веруем, аще священных правил блюдение сохранится, их же праведно похваляемии самовидцы Божию славу предаша апостоли и святии отцы сохраниша же и заповедаша»2024.
«Симфония» двух властей в свою очередь однозначно признавала священническую власть выше царской, а право трактовать и издавать церковные каноны оставляла исключительно за священством. Хотя идее «симфонии» на словах оставалось верным большинство Византийских императоров за более чем тысячелетнюю историю, однако на практике Церковь постоянно вела борьбу с покушениями со стороны светской власти на ту систему церковно-государственных отношений, которая была установлена и предана Богом, осмыслена и охранена святыми Отцами Церкви. Причина этого кроется, по-видимому, в глубоких традициях языческого государства использовать религию как политический и идеологический инструмент в своих меркантильных и утилитарных целях. Православный мыслитель, профессор государственного и канонического права М. В. Зызыкин, описывая соотношение государственной и церковной властей от императора Константина до XV в. – времени падения Византийской империи, говорил, что наблюдаются два течения мысли: одно под различными основаниями стремится продолжить древне-Римскую традицию божественного Августа понтифекс-максимуса, верховного понтифика, и которое давало себя знать в злоупотреблениях Византийского двора, а другое выходит из сознания глубокого различия Церкви и государства, и, не отвергая покровительства Церкви со стороны государства, твердо охраняет самостоятельность церковного союза от захвата его функций властью светской.
Так, источником высшей узурпации Церкви явилось признание за императором титула императора-первосвященника, который стоит выше церковных Соборов (император не имел права совершать богослужения, но пользовался всеми епископскими привилегиями). Это оправдывалось тем, что как когда-то Император Константин видел свою задачу в распространении спасительного учения Христа среди языческих народов, так и теперь (XIV–XV вв.) императоры видели свою задачу в православном просвещении христианских народов. Такое наделение верховной власти функциями церковной власти, как и узурпация последней со стороны светской, носит название цезарепапизма.
В отличие от цезарепапизма, при котором императорская власть «становится источником церковного законодательства и управления и высшим судьей в делах веры или по крайней мере канонов»2025, в западной части христианского мира, где в вероучительных вопросах безраздельно действует мнимая непогрешимость Папы, Церковь ставится над государством, исчезает независимость государства, функции государственной власти и управления присваивает Церковь. На практике это выражалось правом Папы низлагать королей, освобождать подданных от присяги королю (трактуя это священническим правом вязать и разрешать на земле), правом распоряжаться территориями (ссылаясь на легендарное дарение св. Константином Великим права управлять территориями Западной Римской империи Папе Сильвестру), объявлять и вести крестовые походы. Такая теория и практика сосредоточения государственной власти и управления в руках Римского Папы (начиная с XI в.) получила название папоцезаризма.
В дальнейшем, когда в результате сложных политических процессов власть Папы Римского в Европе была подорвана, и католицизм под воздействием немецких и французских реформаторских учений Мартина Лютера и Жана Кальвина уступил место «новым» христианским конфессиям в большинстве европейских стран, теории цезарепапизма и папоцезаризма получили дальнейшее развитие. Поскольку реформаторские учения Лютера и Кальвина не признают иерархии2026, то все функции Церкви, перенесенные на государя, становятся частью его государственной власти, ему предоставляется полный простор в церковных делах. Обращаясь к Германскому Императору, М. Лютер утверждал следующее: «Ввиду того, что светская власть установлена Богом для наказания злых и защиты благочестивых, должно предоставить ее обязанностям свободно и беспрепятственно распространяться на тело всего христианства, без всякого исключения, коснется ли она Папы, епископов, попов, монахов, монахинь или кого там еще… Поэтому светская христианская власть должна выполнять свою должность беспрепятственно, не обращая внимания на личность тех, кого она касается, будет ли это Папа, епископ или священник: кто виновен, тот и должен терпеть наказание»2027.
Спустя 16 лет французский реформатор, вынужденный жить в Швейцарии, продолжает развивать идею «реформаторского цезарепапизма» в обращении к Королю Франции: «Речь идет о великой задаче – познать, каким образом слава Божья укрепится на земле, и божественная истина вновь обретет честь и достоинство, и Царство Христово сохранится в своей целостности. Дело, достойное Вашего слуха, Вашего правосудия, Вашего королевского трона! Ибо Короля делает истинным королем признание того, что он правит своей страной как наместник Бога. И наоборот, кто пользуется королевской властью не ради служения славе Божьей, тот не король, а разбойник»2028.
Говоря о том, как развивались в Русском государстве отношения сначала великокняжеской, а затем царской власти с властью церковной, следует иметь в виду каноны периода ранневизантийской империи, собранные в единый свод правил под названием Номоканон, имеющий русскую версию – Кормчая, который был переведен, дополнен и введен в употребление в Русском государстве и Русской Церкви.
Русское государство было готово принимать как догму права теорию «симфонии» и на разных этапах пыталось осуществлять ее на практике. Но, как и в случае с Константинопольской матерью-Церковью, постепенно государство стремилось использовать Церковь в качестве инструмента государственной политики, со временем, казалось бы, институционально полностью подчинив ее себе. Можно сказать, что государство как историческое социально-политическое образование прошло в своем развитии все мыслимые формы, творя и свою собственную историю, и историю мира. В этой истории было место периодам государственной раздробленности и становления абсолютистской монархии; разрушительным варварским нашествиям и расширению границ; осуществлению на практике идеи «симфонии» государства и Церкви и жесточайшему преследованию Церкви государством и физическому уничтожению всех, кто называл себя христианами; социально-гражданскому расколу и расколу Церкви, попыткам ее реформации и мирному сосуществованию людей разных конфессий; наконец, всенародному отречению от Христа и столь же всенародному покаянию и возвращению в лоно Христовой Церкви2029.
В чем же уникальность исторического развития нашего государства, Русской Православной Церкви, всего российского общества, народа? Думается, что ответ необходимо искать в Божественном предназначении жизни человека на земле: «Наипаче ищите Царствия Божия, и это все приложится вам. Не бойся, малое стадо! ибо Отец ваш благоволил дать вам Царство» (Лк.12:31–32). Как же Божественное приложить к земному так, чтобы, не нарушив земного, отдать кесарево кесарю, предоставив мертвым погребать своих мертвецов? (см.: Лк.9:60, 20:25).
Некоторое время назад один их архиереев Русской Православной Церкви справедливо сопоставил историю нашего государства с Церковными Таинствами.
Крещение Руси в 989 г. как Таинство крещения омыло весь языческий народ Руси от первородного греха, а также и от всех грехов, совершенных до крещения, и возродило его благодатью Святого Духа в новую духовную жизнь и сделало членом Церкви, т.е. благодатного Царства Христова.
Через венчание первого Русского Царя на царство (Таинство миропомазания) Царю и всему его народу были посланы дары Святого Духа, которые должны были укреплять их в духовной христианской жизни.
Принятие Патриаршества на Руси в 1592 г. освятилось Таинством брака, которым Христос благословил Русскую Православную Церковь на верность Себе, ее Жениху, и на благословенное рождение и христианское воспитание ее чад.
Трагические годы жертвенности Царя-мученика Николая со своим царственным семейством, восстановления Патриаршества в России, мученических жертв православного священства и православных христиан – это исповеднические годы, когда совершалось видимое только Богу Таинство покаяния, в котором через жертвы весь народ получил прощение грехов от Самого Господа Иисуса Христа.
То чудо возрождения Христовой веры в русском народе, которое мы свидетельствуем за последние пятнадцать лет, – массовое возвращение в лоно Церкви ее чад, страдающих душевными недугами, – происходит через Таинство елеосвящения, благодать которого исцеляет от телесных и душевных болезней.
Сейчас мы живем в благодатные времена, когда каждый человек (гражданин), называющий себя православным христианином, делается причастником вечной жизни, веруя и исповедуя Иисуса Христа – Сына Бога Живаго, таинственно соединяясь со Христом в Таинстве причастия, под видом хлеба и вина принимая пресуществленное – самое Тело и Кровь Господа и Бога Иисуса Христа.
Так приоткрывается нам завеса тайн знамений времен, прошедших и грядущих.
Что же означает Таинство священства, через которое исторически должны пройти и государство, и весь народ? Священство есть Таинство, в котором избранному человеку архиерейским (апостольским) рукоположением по Божьему обетованию даруется благодать Святого Духа для священного служения Церкви Христовой. Но возможно ли получить целому народу дар и право служения Церкви Христовой, да и есть ли в этом какой-нибудь смысл?
Отцы Церкви сотни лет назад свидетельствовали: наступят такие последние времена, когда христианину будет чрезвычайно трудно спасти свою душу, для этого от него потребуется подвиг, даже превосходящий подвиги первых христиан-мучеников, потому что гонения на Христову Церковь будут страшнее и изощреннее, чем все предыдущие гонения. Еще одно наблюдение, которое, может быть, поможет подтвердить правильность данного свидетельства.
Суждено ли миру жить в четвертом тысячелетии – вряд ли кто из живущих осмелится ответить. Однако последний день второго тысячелетия, 31 декабря 2000 г., выпал на воскресный день, отмечавшийся Православной Церковью как Неделя Святых Отец, а в первое воскресение нового, третьего тысячелетия Церковь праздновала Рождество Господа Иисуса Христа, которое есть также и образ Второго Пришествия Христова. Каждый христианин верит в паки Грядущего со славою судити живым и мертвым и готовится предстать перед Его судом. Со всей приличествующей осторожностью осмелимся говорить о последних временах (символической Неделе Святых Отцов) как о времени, когда особенно важными станут молитвы и предстояние всех Святых Отцов, как живущих, так и уже пребывающих в лоне Церкви Небесной, в Граде Небесном – Новом Иерусалиме, за современных людей, спасающих свои души. А для этого уже в своей земной жизни христианам последних времен предстоит уподобиться Святым Отцам, чтобы войти в Царство Небесное.
Нетрудно заметить, что в предложенной форме рассмотрения истории нашего государства и Русской Православной Церкви угадываются их взаимоотношения на разных этапах истории; хотя можно говорить о большей или меньшей роли Церкви в жизни общества и его государства, даже можно найти объяснение, казалось бы, парадоксальным фактам. Так, например, в годы страшных послереволюционных гонений большевистским правительством был принят декрет «Об отделении Церкви от государства». И, хотя государство отнюдь не собиралось само прекратить вмешиваться в дела Церкви, а делало все возможное, чтобы подорвать Церковь изнутри, этот декрет тем не менее явился юридическим признанием независимости Церкви как института2030.
Кощунственно было бы говорить о независимости Церкви от общества в страшные годы физического уничтожения христиан, однако этот государственный закон возможно рассматривать как историческую победу Церкви, заплатившей за независимость кровью своих воинов. В 1993 г. была принята Конституция Российской Федерации, где постулируется светскость государства, отделенность Церкви от государства. Это предоставляет возможности главе государства, решая вопросы общественной важности, взаимодействовать с руководителями религиозных объединений, исходя из собственно институциональных основ.
Если в таком аспекте посмотреть на отношения св. митрополита Алексия с Великим Князем Иоанном Иоанновичем в XIV в. по вопросам государственной независимости и соотнести их с современной правовой моделью, то, казалось бы, некоторые действия митрополита Алексия можно было бы назвать исключительно политическими. Ведь сам «Великий Князь молил угодника Божия отправиться к грозному владыке Золотой Орды Бердибеку в качестве ходатая за всю землю Русскую. Ему удалось укротить гнев Ордынского Царя, и по возвращении в Москву его торжественно встречали и Великий Князь со всеми вельможами и боярами, и Собор духовенства при бесчисленном стечении народа»2031.
Патриаршая деятельность другого Святителя – Патриарха Гермогена – в обстоятельствах времени была также поставлена на служению Царю, а с ним и Отечеству, в борьбе сначала со лже-Дмитрием, затем с Польским Королем Сигизмундом. О духовном подвиге обоих Святителей можно сказать словами митрополита Макария: «Служа Отечеству, тем самым служили Церкви». Народ же так свидетельствовал о своих Святителях: «…наши великие святильники и хранители Петр, Алексий и Иона чудотворцы, да первопрестольник апостольской Церкви, святейший Гермоген патриарх, прям, как сам Пастырь, душу свою полагает за веру Христианскую несомненно»2032.
Отечественная история вместе с тем знает немало примеров того, как Великие Князья и Цари принимали схиму, чтобы по вере войти в Царство Небесное в ангельском чине. Тем и отличается жизнь во Христе, что ни патриарший, ни царский, ни монашеский чин не может быть спасительным сам по себе, но восславит только тех причастных, которые служили Богу и людям во имя Христово: «Иже бо грех творяй, раб есть греху, аще и тмами на главе венца имать. А иже правду делаяй, самаго царя царьственнейши есть, аще и всех последнейши будет»2033. О том, как трудно даже самым близким к Учителю оставаться верным Ему, верить в Его божественную силу, напоминает нам Евангельский эпизод, в котором Господь строго укоряет своих учеников в маловерии: «Иисус заповедовал им, говоря: смотрите, берегитесь закваски фарисейской и закваски Иродовой. И, рассуждая между собою, говорили: это значит, что хлебов нет у нас. Иисус, уразумев, говорит им: что рассуждаете о том, что нет у вас хлебов? Еще ли не понимаете и не разумеете? Еще ли окаменено у вас сердце? Имея очи, не видите? Имея уши, не слышите? И не помните? Когда Я пять хлебов преломил для пяти тысяч человек, сколько полных коробов набрали вы кусков? Говорят Ему: двенадцать. А когда семь для четырех тысяч, сколько корзин набрали вы оставшихся кусков? Сказали: семь. И сказал им: как же не разумеете? Как не разумеете, что не о хлебе сказал Я вам: берегитесь закваски фарисейской и саддукейской? Тогда они поняли, что Он говорил им беречься не закваски хлебной, но учения фарисейского и саддукейского» (Мр.8:15–21; Мф.16:11–12). Этого неверия должен храниться каждый человек, христианин, этого неверия должны храниться и церковные пастыри. Именно эта закваска когда-то погубила Византийскую империю, именно на этой закваске взращены Католическая и Реформационно-протестантская церкви на Западе.
Дивен Бог во святых своих! Богата Россия святыми. Но особенно дивен в среде их один из верных Христовых пастырей, один из стойких защитников Христовой веры и ревнителей благолепия Христовой Церкви на земле, мудрый духовный наставник Царя и царский соратник, собинный друг в деле укрепления Российского государства и его защиты от внешних врагов, христианин, выполнивший до конца свое общественное служение и стойко претерпевший гонения, хулу и клевету. Его имя – Святейший Патриарх Никон.
Жизнь Патриарха Никона невозможно рассматривать иначе, нежели подвиг человека, взявшего свой крест и последовавшего Христу своим Голгофским путем, чтобы на своей Голгофе стать сораспятым со Христом и за Христа, иначе, нежели за человека.
Начало духовного подвига схи-Патриарха было положено еще в миру, когда отрок Никита возгорелся желанием посвятить свою жизнь Богу в монашеском чине. Немало трудностей и искушений выпало на его долю, прежде чем Господь привел его в Анзерский скит, где он принял монашеский постриг с именем Никона. Потом он продолжал свой подвиг в Кожеозерском монастыре сперва как простой монах, а затем как духовный отец братии обители и ее настоятель. Однако Господь готовил монаха Никона не только для духовного наставничества монастырской братии, но вел его к высшему священническому и общественному служению – Первосвятительству для всей Руси и Предстоятельству в Русской Церкви.
Именно при Патриархе Никоне Русская Церковь приобрела такое благочиние, благолепие и торжественную славу, которые заставляли всех людей удивляться и радоваться, прославляя Бога. Но главный подвиг Патриарху Никону предстояло совершить, отстаивая независимость и самостоятельность Церкви именно тогда, когда блеск и великолепие Церкви и величие и сила царской власти, казалось, соединились в духовном союзе, воплощая заветную мечту о «симфонии». Кратко всполохнув и в этой вспышке соединив братское православное славянство, задав динамику вековому могуществу державы, эта заветная «симфония» так никогда и не зазвучала…
3 октября 1649 г. Земский собор принял свод государственных законов, или Соборное уложение, разрушив раз и навсегда так и не сбывшиеся чаяния о православном общежитии, о создании духовной «симфонии» в государстве. В единственном сохранившемся ´ на земле православном государстве было положено начало разорению и унижению Христианской Церкви. Очевидные факты свидетельствуют об этом. Вот что говорится в предисловии Соборного уложения о том, как должны были готовиться нормы для свода законов: «Которыя статьи написаны в правилех святых апостол и Святых отец и в градских законех Греческих царей, а пристойны те статьи к государьственным и к земским делем, и те бы статьи выписать и чтобы прежних Великих Госудаей Царей и Великих Князей Росийских и отца его Государева, блаженные памяти Великаго Государя Царя и Великаго Князя Михаила Феодоровича всеа Росии указы, и боярские приговоры на всякия государьственныя и на земския дела собрать, и те государьския указы и боярские приговоры со старыми судебниками справити.
А на которые статьи в прошлых годех прежних Государей в судебниках указу не положено и боярских приговоров на те статьи не было, и те бы статьи по тому ж написати и изложити по его Государеву указу общим советом, чтоб Московскаго государства всяких чинов людем от болшаго и до меншаго чину суд и росправа была во всяких делех всем равна».
А вот данные, зафиксированные учеными-правоведами, опубликованные в книге, изданной Академией Наук СССР: «В Уложении использован 101 царский указ, с 1550 г. по 30 апреля 1649 г., а также Уложения 1597 г., 1633/34 гг. и 1636 г., Указная книга Поместного приказа от 17 декабря 1636 г.
На полях свитка напротив ряда глав и статей написаны источники, которые использовались для тех или иных глав и статей. Среди всех особо выделяется “Литовский статут”»2034.
Вот оценка Соборного уложения, данная Патриархом Никоном: «А ис правил святых апостол и Святых отец и благочестивых Царей градских законов ничево не выписывал, якоже и самыя та Уложеная беззаконная книга свидетельствует беззаконие их (составителей. – Авт.). А где и написал, будто ис правил святых апостол и Святых отец, и то солгал. Во апостолских и Святых отец таковых правил нет и во всей его книге ни единаго апостолскаго правила, ниже святых отец седми Вселенских соборов и прочих нет, ни благочестивых Греческих царей градских законов что любо, ниже от православных Великих Государей Царей и Великих Князей Руских, но все ново некое списание чюжде православия и святых апостол и Святых отец церковных законов и православных царей Греческих градских законов». Святейший неоднократно называл Уложение «беззаконной книгой, написанной по совету антихриста»2035.
Ревностный служитель и Церкви, и Отечеству, Святейший взял на свои рамена крест Патриаршего служения, прекрасно представляя всю трагичность предстоящего духовного пути. Факты свидетельствуют, что Святейший Никон согласился принять Патриаршую кафедру только после того, как Царь Алексей Михайлович «обещался во святей церкви и клялся евангельские Христовы заповеди и святых апостол и Святых отец правила соблюдати», а архиереи «обещалися во всем последовати и повиноватися Вселенским Святейшим Патриархом и нам, отцу своему, еже и по нас пребывающим благоволением Божиим Святейшим Патриархом»2036. Но свои клятвы и Царь, и многие из архиереев нарушили.
Пока Государь оставался в духовном единении со своим высоким наставником и «собинным другом», их усилиями удавалось сдерживать растущие нестроения в светском и церковном окружении, укрепляя государство и преукрашая Церковь: «Два меча владычествовати, иже есть духовный и мирский во представительство людей своих Господь Христос в Церкви утвердил, от них же архиерей духовный, царь же мирский»2037.
Свидетельства патриаршего подвига мы черпаем не только из жизнеописания Первосвятителя, но и сами его прекрасные монастыри и архитектурные постройки, справленные церковные богослужения и песнопения, церковные обычаи и традиции свидетельствуют об этом подвиге. Бесценным сокровищем остается эпистолярное духовное наследие Святейшего Патриарха. Сохранившиеся материалы позволяют оценить высоту духовного стояния Первосвятителя, его готовность на самопожертвование ради сохранения целостности вверенной ему Богом Церкви и духовного спасения пасомых христиан, будь то Царь или рядовой мирянин. По глубочайшему убеждению Святейшего, никто на свете, даже царь, не обладает теми достоинствами и богатствами, которыми одаривает Господь Свое священство и которыми через Церковь «питаются» ее чада. «Священство боле есть царьства… И царие предпочтоша священство паче царьства, но мы не едино, но три достоинства с преимителством имамы ныне, ибо Царьствие имамы восприяти и священницы бываем, приносяще в жертву телеса наша. И с сими и пророцы поставляемся, яже око не виде и ухо не слыша, сия откровенна суть нам… Многи имать воинства царь, но и мы паче сих множайшая имамы помышления. Несть бо счести неисчетное мыслей множество, еже в нас. Что ли другое творит царя, ризы ли? Но мы лутчею и добрейшею обложени есмы одеждою, юже ни тля снедает, ниже время изнуряет. И венец имамы различный, иже славы, иже щедрот Божиих»2038.
Недолго продолжалась «собинная» дружба и длился духовный союз Царя и Патриарха. Вскоре пришло время испытания для обоих. Как духовный наставник Святейший никогда не оставлял усилий помочь своему царственному другу и христианину. В «Наставлении христианину», адресованному Алексею Михайловичу, Патриарх Никон, заботясь о духовном состоянии Царя-христианина, настоятельно советует ему обратиться к Священному Писанию, отдельные тексты которого, душеполезные к современным обстоятельствам, с пастырскими назиданиями, он выписал в отдельный сборник: «Изволь милостиво принять сии тетради с нужнейшими заповедями Божия Завета, без которых невозможно никакому христианину спастись, и со вниманием прочитать. Во всем познаешь свое ничтожество перед Господом Богом и пуще оценишь необходимость любви к ближнему. Надеюсь на Господа, да милостив будешь к нам»2039.
Когда до Патриарха Никона дошли сведения, что Алексей Михайлович не удостоил внимания этот духовный пастырский совет, Святейший со скорбью писал: “Писал ради твоего спасения, помня, что говорил мне, когда я был там, что должен наставлять тебя. На то я и поставлен для наставляемых. Потому и писал я тебе, заботясь о твоем спасении, души же и тела, а также всего твоего дома. Посылал я и нечто для того, что если посланное сохранишь, то скажу тебе еще. А если не сохранишь, то и я буду молчать и ничего не скажу тебе. Но как ты ничего не сохранил из того, власть твоя сама знает, и ужасная лютая скорбь одолела тобой, чуть не до смерти. И да хранит тебя Господь, о чем в своих искренних подаяниях ты просишь, и не только тебя, но весь дом твой от скорбей всех, и весь твой возлюбленный род и всех прочих»2040.
В одной из самых значительных работ Патриарха Никона, озаглавленной им самим «Возражение или Разорение смиренаго Никона, Божиею милостию Патриарха, противо вопросов боярина Симеона Стрешнева, еже написа Газскому митрополиту Паисию Ликаридиусу, и на ответы Паисеовы», руководствуясь текстами Священного Писания, Апостольскими правилами, деяниями семи Вселенских Соборов, решениями Поместных Соборов, толкованиями из Кормчей и трудов Святых Отцов, цитируя градские законы Греческих царей, церковные уставы святого Владимира, Ярослава и других русских Великих Князей и Царей, Святейший подробнейшим образом показал, на каких основах и принципах должна создаваться и сохраняться Русская Православная Церковь, как должны строиться отношения между Церковью и властью в православном государстве, каким образом созидается православное государство – великая держава.
Сама по себе эта часть Никонова наследия представляет уникальный материал по государственно-правовому и общественному строительству Российского государства в условиях православного самодержавия. Наиболее обстоятельно государственные и канонические воззрения Патриарха Никона были описаны М. В. Зызыкиным в капитальном труде «Патриарх Никон: Его государственные и канонические идеи» (изд. в 1930 г. в Варшаве). Мы же обратим внимание на ту часть «Возражения, или Разорения…», где Святейший Патриарх показывает, как государство в лице Царя и правящей верхушки узурпировало сначала имущественные права Церкви, а затем посягнуло на ее священные основания.
Для развития этого тезиса необходимо вновь обратиться к тексту Соборного уложения 1649 г. Как отмечалось выше, оно было составлено в интересах служилого дворянства, которое из-за активного разрастания чиновничьего аппарата все увеличивалось и ему становились все более нужны земли и крестьяне на них. Чтобы осуществить отчуждение земель от церковных приходов и монастырей (по существу, обеспечить захват), был учрежден орган административной и судебной власти – Монастырский приказ, что фиксирует гл. XIII Соборного уложения. Эти земли находились в пользовании и распоряжении приходов и монастырей, которые получили их в качестве десятины за период с Крещения Руси2041. Об этом говорится в Уставах св. Князя Владимира и его сына – Великого Князя Ярослава: «А кто вступится в церковное или в митрополичье, и на того будет гнев Божий, а по нашему великому истязанию не извинится ничим же и умрет злою смертию»2042.
Эти права Церкви были подтверждены 23 февраля 1551 г. Царем Иоанном Васильевичем: «Аще ли ж кто покусится что взяти от церкве, таковый ничему подобен есть, точию священная крадущему и скверностяжателем иноверным человеком и сии убо яко тати суть и хищницы и разбойницы Церкви Божия. Сице бо Господь наш Иисус Христос, заповеда, рек: Отдадите кесарева кесареви, а божия Богови».
Именно эти действия светской власти по отношению к Церкви, по мнению Патриарха Никона, приводили к многочисленным бедствиям, которые обрушивались на государство и весь народ: «А еже бы царю обладати властелски церковным имением или монастырями, нигде же обретается. А иже кто презорством и владети начнет святыми церквами или монастыри или церковными и монастырскими вещми, движимыми или недвижимыми, и того ради гнев Божий бывает на него и на все царьство его»2043.
Для более глубокого понимания сути действии государства в отношении Церкви приведем лишь названия некоторых государственных декретов из истории более поздней2044.
– Декрет ВЦИК «О ценностях, находящихся в церквах и монастырях» от 27 декабря 1921 г.;
– Декрет ВЦИК «О порядке изъятия церковных ценностей, находящихся в пользовании групп верующих» от 23 февраля 1922 г.;
– Постановление ЦК ПОМГОЛ и Наркомюста «О порядке изъятия церковных ценностей, находящихся в пользовании групп верующих» от 23 февраля 1922 г.
Одновременно с изъятием монастырских и приходских земель произошло переведение священнической подсудности на Монастырский приказ, т.е. суд светский. Естественно, делалось это с целью исключить всякое возможное выступление духовенства против неправомерных действий власти. Это открытая узурпация канонических прав Церкви. Как Первоиерарх Святейший Никон считал своим долгом обличать эти действия: «Патриарх есть образ жив Христов и одушевлен делесы и словесы в себе живописуя истину. Патриарху еже учителну и кротку убо быти ко всем приступающим ему и собеседующим ученми. Обличителну же к непокоряющимся, о истинне и о отмщении преданий, соблюдении правды и благочестия глаголати пред цари»2045.
Чем больше обличал Патриарх Царя, тем больше ожесточались против него Царь и вся гражданская власть. Когда нарушил Царь обетную клятву послушания и невмешательства в духовные, церковные дела по образу апостольского послушания, данную при избрании на Русское Патриаршество Никону как верховному пастырю, так ожесточилось против последнего и церковное архиерейство, не умевшее противостоять боярско-княжескому местническому давлению. Тех архиереев, которые оставались верными своей клятве и своему Патриарху, царской властью низвергали, а на их место ставились другие, угодные власти: «По всей России сыскивает з болшим страхом и прещением о несведомых наших и бысть сам судия и истец. Весь на себя суд и управление архиерейское взял… Еда глава есть Церкви царь? Ни, но глава есть Христос, якоже пишет апостол»2046. Поэтому и называет Патриарх Царя прелюбодеем, что последний подобно тому, как царь Давид прелюбодействовал с незаконно отнятой у мужа Вирсавией, исхитил Церковь Христову от ее Жениха, нарушив таким образом Таинство венчания, о тайном смысле которого для Русского государства писалось выше.
В Никоновом наследии мы находим вразумления о нашем прошлом. Более того, Святейший Никон как истинный отец Церкви свидетельствует, как важно блюстись христианину, жить по евангельским заповедям, в современном мире: «Где есть ныне Евангелскаго словеси послушание и святых Его заповедей хранение? То есть отступление от Бога». И далее пророчески добавляет: «Что есть отступление? Того антихриста нарицает отступление. И сядет, глаголет, во Церкви Божией, не иже во Иерусалиме единем, но повсюду во церквах власть его будет. Свидетельствует Иоанн Богослов глаголя, яко антихрист уже в мире есть, но никто же слышал или видел чювственно, то есть чрез Божественыя заповеди владети начнут мирския власти Церковию Божиею. И повелит себе кланятися, не чювственно, но якоже ныне архиереи, и оставя свое достояние священническое и честь, кланяются царем и князем аки преобладающим и о всем тех спрашиваются и чести ищут. И сподобляются, по писаному: Оставя свет, возлюбили тму, оставя правый путь, ходят во стезях погибели, осуетишася в помышлениих своих, ослепи бо их злоба их и не разумеша таин Божиих. Их же верховный Петр проклиная, глаголет: Клятвы чада, оставлше правый путь, последоваша пути Валаама Восорова. Сии суть источницы безводнии и облацы и мглы от ветр преносимы, имже мрак темный во веки блюдется»2047.
Вот какие испытания ожидают христиан «последней недели» земных времен перед Пришествием Христовым!
Но как истинный пастырь стада Христова и Святитель Церкви Христовой, не оставляющий своего служения и за пределами земной жизни, Святейший Никон оставил нам спасительную икону, которая помогает тем, кто с верой к ней прибегает, – икону Небесного Града – Нового Иерусалима. Это Воскресенский монастырь Нового Иерусалима с первейшей в ней святыней – Гробом Господним.
Святейшего Патриарха Никона обвинили в том, что он дерзостно дал своему строению священное имя Небесного Града, пойдя против истины, что есть только два Иерусалима: один – земной, другой – Небесный, и третьему быть не дано. Также говорили про него, что он и есть тот антихрист, о котором пишет Священное Писание, что он выйдет из Иерусалима. На эти обвинения Патриарх Никон отвечал: «Дерзость ли то, что святые книги переписываются, пишутся иконы Господа, или празднуются Рождество Христово и Его Крещение и другие Господские праздники? Или если бы и собственно того Иерусалима по его образу кто-то во славу Божью святое место создал, для постоянного созерцания того святого Иерусалима, в котором спасительные Страсти для нашего же спасения претерпел Господь, дерзость ли это?»2048.
В разорении 27-го вопроса–ответа цитируемой нами книги Святейший Патриарх на примерах из Ветхого и Нового Заветов показывает губительные и спасительные помыслы и дела, которые ведут к вечной смерти или вечной жизни.
Сама по себе вся 27-я глава «Возражения…» представляет собой непревзойденный образец святоотеческой душеспасительной проповеди, которая не может оставлять равнодушным, сколько бы ее ни читать. В ней Святейший раскрывает понятия «дерзновения» и «дерзости». Он пишет: «Дерзновение это, кто сам волю Божью творит и не творящих понуждает творить. Сам Христос повелевает: Дерзайте, Я победил мир и не бойтесь никого. И еще: Не бойтесь и убивающих ваше тело. И еще говорится: Проповедая Божье Царство и наставляя о Господе нашем Иисусе Христе всегда с искренним усердием. Это есть дерзновение.
Дерзость же, когда кто-нибудь, возгордившись, не только заповеди Божьи не слушает, но и на создавшего его Бога возгордившись, проповедника Божьего слова унизит или убьет»2049.
***
В современном мире одной из важнейших функций государства и гражданского общества является духовно-нравственное воспитание человека, который любит свою Родину, свой народ, знает его историю, духовное и культурное наследие, готов их отстаивать, защищать и приумножать. Любая конфессия (Церковь) и государство видят в этом свою прямую обязанность, поэтому так важно, чтобы и члены общества, граждане, имели максимальные возможности не только к познанию духовного мира, но также духовного познания мира, что, пожалуй, первично и более ценно.
В поликонфессиональном мире Русская Православная Церковь остается уникальной – хотя бы тем, что, наследовав и сохранив премудрость и благодать Ветхо- и Новозаветного мира, она щедро питает ими своих членов и предоставляет возможность овладеть этим богатством всему миру. Поэтому для современников, воспитанных в православной культурной традиции и парадигме, слова ветхозаветных пророков Михея и Исайи, которые цитировались в начале статьи, так же близки и понятны, как и слова Святейшего Патриарха Никона: «Не позорю аз старо-новаго Иерусалима, еже называю Воскресенской монастырь Новаго Иерусалима, понеже писано есть во пророцех: Из Сиона изыдет закон и слово Господне из Иерусалима. Того закона есмь любитель и слова Господня хранитель, не стыжуся и сам иерусалимлянином нарицатися и со всем воследующим нам. Писано есть: [на поле л. помета: Исаии. гл.9] Отроча родися нам и Сын дастся нам, Ему же власть на раме Его и мирови Его несть предела. И по мале. Велия власть Его и мирови Его несть предела»2050.
По-иному понимались эти пророчества на родине пророков. Уже после разрушения Иерусалима во II в. по Рождестве Христовом, когда самое святое его имя было отнято у него, иудейский Патриарх Симон III отправил в Вавилон посольство с требованием, чтобы тамошние евреи закрыли свой Синедрион и снова подчинились духовной власти палестинских законоучителей: «Послы напомнили, что в Св. Писании сказано: “Из Циона (Палестины) исходит учение ”, а не “из Вавилона исходит учение”. Тогда вавилонские евреи покорились и снова признали над собою власть палестинского Синедриона»2051.
И для реформаторов «просвещенного» мира «знамения времен» (Мф.16:2) оказались неразрешимыми. «Для пророков вообще привычно описывать евангельские события образами своего времени. Это станет понятнее из примеров. Вместо того чтобы сказать, что все народы обратятся к Богу, они говорят, что все народы взойдут в Иерусалим (Исаии.2:2; Михей.4:1)»2052, – писал Жан Кальвин.
Для нас же Новый Иерусалим, приняв по благодати Божьей чувственно-зримый, иконичный образ Воскресенского монастыря, поет нашим сердцам «симфонию» грядущего Царства Небесного.
Внешняя политика Русского царства в XVII в. (Меньщиков А. А., Рыбаков Ю. М., Шмидт В. В.)
Познание смысла произошедших в глубине веков исторических событий – не самоцель, оно всегда ориентировано на конструктивное целеполагание в социальном бытии, т.е. на использование уроков истории в практической деятельности. Когда в масштабах социума речь заходит о познании самого себя, об оценке своих роли и места, возможно, миссии, или предназначения, в системе мирового развития, тогда ставится задача наиболее точно и полно «снять слепок» давней действительности, которая поможет познать себя, самоидентифицироваться.
Исторический слепок следует рассматривать прежде всего с позиции социальной психологии. Б. Ф. Поршнев отмечает: «История без психики –“обесчеловеченная” история»2053. Он выделяет два социально-психологических основания общности: психический склад (обычаи, традиции, привычки, жизненные порядки, пассивно, некритически усваиваемые, стереотипы, мифы; духовная культура) и психический сдвиг (настроения, мода, которые подвижны). Именно эти два основания служат смыслообразующим источником, в «недрах» которого осознанно, зачастую с учетом стратегической перспективы, даются ответы на злободневные вопросы действительности в виде «вечных» заветов, законченных доктрин, программных документов. «Исторический» человек предстает не абстрактным очевидцем исторических событий, а человеком конкретной страны и эпохи, связанным с социальными и материальными условиями своего времени, а также с другими людьми, которые так же, как он, принадлежат определенной стране и эпохе. Такое погружение в века, которое условно можно назвать историко-психологической контекстуализацией, служит идее самопознания, последующего самовыражения и в конечном счете самоактуализации2054.
Разделяя данный подход, применим его к рассмотрению истории внешней политики Руси XVII в. Во внешней политике неизменна задача–отстоять национальную идентичность, т.е. право народа создавать, выбирать форму политико-государственного устройства на основе своей социально-психологической общности, этнокультурного и религиозно-философского своеобразия. Однако заметим, что методологический подход к интерпретации истории внешней политики Российского государства, доминировавший на протяжении всего советского периода, отражал главным образом позиции господствующей (государственной) идеологии и, как правило, исключал при изучении предмета систему традиционных исконно русских православных мировоззренческих устоев.
Процесс освоения иных методологии и историософских подходов вследствие смены социально-формационных парадигм общественного развития в наименьшей степени касался вопроса восстановления преемственности русской религиозно-философской и исторической мысли. И прежде всего это относится к истории международных отношений, «которая вообще редко рассматривалась на фоне эволюции религиозно-философской картины мира в человеческом сознании»2055.
В настоящей работе история внешней политики Руси XVII в. осмысливается с учетом религиозно-философских позиций исторического времени, которые влияли на формирование и развитие базиса российской государственности и придавали этой государственности историко-культурную самобытность2056. Эта самобытность зачастую ускользала от внимания ученых, о чем справедливо замечает Ю. С. Пивоваров: «Большинство исследователей даже не подозревает, что “Русское государство” есть нечто в высшей степени специфическое. И оно весьма отличается от того, что мы привыкли называть государством»2057.
Еще раз подчеркнем, что с учетом религиозно-философской парадигмы рассмотрения истории появляется возможность определить своеобразие пути России и оценить ту роль, какую она играла, играет и будет играть в мировом соотношении, порядке духовных сил, цивилизаций и государств как мощная евразийская держава, сохраняющая и охраняющая свое бытийное ядро – православную систему ценностей. Эта система по своей сути теоцентрична, характеризуется категориями кафоличности, соборности, вселенскости и мессианства, которые в свою очередь предопределяют собственно систему общественно-государственных идеалов, идей и идеологии.
Такие ракурс и подходы в осмыслении сущности российского общества и государства позволяют предвидеть возможные духовную и геополитическую катастрофы в результате разрушения и утраты преемственности в христианском понимании истории России и ее миссии как в геополитическом, так и вселенском масштабах. В парадигме исторического материализма и социального детерминизма с их формационно-позитивистским и евроцентристским подходами подобная логика рассуждений затруднительна, а получаемые выводы не всегда критично-объективны, а иногда требуют переосмысления2058.
Дореволюционная история нашего Отечества в целом, а русская история допетровского периода в особенности, наиболее адекватно понимаются и раскрываются именно в историософско-богословской парадигме рассмотрения. К такой исследовательской позиции понуждают собственно истоки становления русской государственности – принятие системы ортодоксального христианства. При этом с самого начала утверждения Церкви на Руси имели место социальные и метафизические поиски оптимальной формулы и формы взаимоотношений между религиозной и светской властями2059.
Принимая христианство, Русь была крещена не духовным лицом, а Киевским Великим Князем. В этом смысле история Князя Владимира перекликается с историей Императора Константина, обратившего в начале IV в. подвластную ему Римскую империю в Христианство2060. Они оба узрели Христа и признали богооткровенность Истины в результате обретения веры. Политические соображения также сыграли свою роль в деле принятия христианства.
Именно христианская вера открывала духовно-нравственные ценности как онтоаксиологический фундамент миропорядка. Это обеспечивало власти и государству совершенно иное духовно-историческое содержание – его эсхатологическую и экклезиологическую перспективу. Отныне не политическое доминирование и властное господство сами по себе, не земное благополучие определенного государственного образования (системы), его превосходство и преобладание стояли на вершине политико-государственных отношений, а причастность Государя и его служилых людей к исполнению определенной всемирной миссии. В итоге происходило рождение новой духовной личности, занятой отправлением высших государственных дел2061.
Такое пристальное внимание к первоосновам государственности Русского Царства, в котором удалось построить «симфонию» властей–светской и религиозной, обусловливается тем, что не только содержание внешней политики, но и стиль, методы и формы ее осуществления в отношении отдельных стран и регионов, проблемные направления в целом, задаются сложившейся практикой взаимоотношений, взаимодействия между властью, обществом, Церковью.
К середине XVII в. Русь являла пример воцерковленной христианской державы с признаками религиозной гомогенности; практически были сформированы черты православной империи2062. В православном царстве-империи понятия «воцерковленная власть» и «огосударствленная Церковь» существуют в неразрывном единстве, хотя этимологически они не тождественны2063. Глава империи-царства, как любой другой православный, обязан защищать истинную веру от всевозможных соблазнов, искушений и покушений прежде всего личными благочестием, помыслом, словом и делом, а, если нужно, и силой2064. Власть для русских православных Государей поэтому не была самоцелью, средством удовлетворения материальных и статусных потребностей своей семьи и приближенных, это скорее тяжелое бремя, великое служение, посильное лишь для Помазанника Божия2065. О помазании Царя Саула говорится в Ветхом Завете так: «И найдет на тебя Дух Господень, и ты будешь пророчествовать; и сделаешься иным человеком», «Бог дал ему иное сердце» (1Цар.:10:6, 9). У Царя как Божия Помазанника иное сердце (оно «в руце Божией»), он – иной человек, потому и по плечу ему с помощью Божией непосильное бремя Верховной власти в Империи.
В русской православной традиции земной правитель – великий князь, царь, государь, император – представляется не кем иным, как высшим носителем идеала национального духа, совокупным воплощением народа, всех его идей, надежд и верований. Именно в этом нравственном единении Царя и народа росло и крепло Русское государство – держава. Именно в факте единения Государя и народа можно увидеть смысл олицетворения государства в образе Царя, а также возможности династической монархии вообще. Даже народные бунты вдохновлялись царским именем, их предводители стремились поднять народ именем Царя. Народ выступал в защиту его якобы попранных коварным окружением прав. Царь в общенародном представлении не был исключительно господином, как это существовало на Западе, в странах католико-протестантской традиции, а был отцом и благодетелем своих подданных, ответственным ходатаем и заступником о них перед Богом. Русский Царь, объединяя все начала стихии властвования и «власть-предержания», олицетворял единую нераздельную Россию, охранял ее исторические национальные традиции и был подчинен в осуществлении своей суверенной власти нормам авто-иеро-кратической и государственной этики, сознанию целесообразности для народного блага предпринимаемых им мероприятий. В защите Православной Эйкумены – Ортодоксии была наипервейшая и главная задача всех православных Государей, в том числе и русских2066.
Русская государственность строилась не на писаных конституциях и законах, а на реальной силе русской нации, духовной и физической, имевшей олицетворение в державных вождях – Православных Государях. Поэтому в русской цивилизации вместо Rechtstaat (правового государства) строится «государство правды», которое, по словам М. Шахматова, «есть подчинение государства началу вечности», в чем первостепенное значение имеет «преемство благодати от Бога»2067. Категория правды в русском понимании в отличие от права означала и истину, и добродетель, и справедливость, и закон; она выражала тождество греха и преступления, а, значит, неразрывную связь идеи государственной жизни с идеалами жизни вечной.
Весьма показательным в этом смысле можно считать понимание Смутного времени на Руси. Эта тема связана, в частности, с работой Посольского приказа2068. Преодоление Смуты мыслилось как возвращение к прежним, освященным вечностью порядкам. B 1613–1616 гг. правительство первых Романовых отправило в разные страны серию посольств (в Польшу, к Ногайским татарам, в Римскую Империю, Турцию, к Константинопольскому Патриарху, в Англию, Данию, Крым и Персию), чтобы известить главы государств об окончании «смуты», о ее причинах и с просьбой о военной и денежной помощи. В наказах послам указывалось, например, что «турки искони враги креста Христова и турский Салтан всем Государям христианским искони вечный недруг», что турецкий Султан захватил Греческое царство «за грехи всего христьянства», а падение второго Рима объяснялось разномыслием христиан и нарушением заповеди братской любви.
В грамоте от 3 октября 1614 г. на Вологду, где находился английский посол Дж. Меррик, причины кризиса и упадка Московского государства – третьего Рима – объясняются следующим образом: «… в прежние времена, каково было славно, и велико, и пространно, и всем изобильно Московское государство, а ныне за грехи всего христьянства… в Московском государстве везде запустошенье»2069. Очевидно, что толкование причин Смуты в данном случае аналогично объяснению падения второго Рима – Константинополя. Вечность мыслилась в это время на Руси в категориях ортодоксального вероучения – общехристианского единства против отступников и неверных, христианского благочестия и исполнения Евангельских заповедей. Мера благочестия осознавалась и трактовалась русской мыслью как показатель преуспевания в делах личных, общегражданских, и в том числе политических. Увеличение этой меры вело к успехам и процветанию, убывание – к неудачам, провалам, несчастьям2070.
Идея Страшного суда пронизывала сознание и все сферы бытия каждого православного. Государство было главным средством коллективного спасения. Поэтому верой и правдой надо было служить тому, кто «прирожден» быть Государем, ибо последний исполняет волю Бога на земле и отвечает перед Судьей за неисполнение его «подвластными» заповедей Божиих. Измена православной вере (правде) приравнивалась к измене государственной, т.е. Царю. В этом отношении показательно объяснение И. С. Пересветовым причин падения царств. По его мнению, главная причина падения Византии в том, что греки «правду потеряли», а, потеряв ее, стали хвалить «благоверного русского Царя»2071.
Михаил Романов стал первым Царем новой династии Русских Царей2072. При нем сложился удивительный союз между священством и царством, не имевший аналогов ни до, ни после этого2073: детерминированное земное в его сакральной обусловленности и зримости установления (помазание, венчание на Царство) фокусировало в себе два начала – духовное и светское. При Михаиле Федоровиче функции «царства» и «священства» были как бы взаимно гармонизированы: духовному лицу принадлежала ответственная окормляюще-назидающая роль в светских делах, в том числе внешнеполитических.
В этот период внешнеполитическая направленность Русского Царства слагалась из нескольких ключевых составляющих: Царь как носитель нравственно-религиозного идеала в государстве и через то удерживающий единение с народом охранял правую веру, стремился ввести под свое «охранение» другие исконно православные народы и племена, освобождая их от католического влияния. Другими словами, в приоритетах внешней политики стояли не торгово-экономические интересы страны, как это принято считать, диктовавшие якобы выход к Балтийскому морю и другие территориальные завоевания2074, а защита «своего» жизненного пространства – Православной Эйкумены2075, простирающейся от прибалтийских Лифляндии и Курляндии до Балканских и североафриканских территорий2076, вхождение которых, кстати сказать, в чисто юридическом смысле в состав Русского Царства, по нашему мнению, как внешнеполитическая задача не ставилось.
Эту точку зрения подтверждает профессор патрологии и восточного богословия Венского университета Э. Суттнер: «По причинам историческим, географическим или национальным Православная Церковь… считала «своими» православных, униатов и всех, чьи предки когда-то были отделены от Ее стада. И, стремясь сделать все возможное для «возвращения домой заблудших», некоторые православные иерархи, следуя своему пониманию воли Божьей, полагали еще более неотложным послать миссионеров к ним, чем к язычникам. Потому что, по слову Христа, добрый пастырь имеет неотложную обязанность разыскивать потерянных овец»2077. Сложившаяся в Русском Царстве «симфония» властей определяла содержание и характер внешнеполитической линии на протяжении большей части XVII в., а впоследствии стала своеобразным архетипом в вопросах внешнеполитической, дипломатической деятельности и национальной безопасности страны.
«Симфония» властей оказала серьезное влияние на положение, содержание деятельности и состав Посольского приказа2078. Когда А. Л. Ордин-Нащокин называл Посольский приказ «оком всей великой России», он подразумевал евангельское изречение «Светильник тела есть око, и так, если око твое будет чисто, то и все тело твое будет светло» (Лк.11:34)2079. Слова руководителя внешнеполитического ведомства – это не просто метафора, это своеобразная программная декларация, в которой сформулировано единство Христианской веры и Российского самодержавия и утверждена высокая роль Посольского приказа в государственной жизни России2080.
Юридический статус Посольского приказа, правовые нормы дипломатического этикета неразрывно связаны с вероучением Церкви, ее канонами и традициями, которые были привнесены в социально-гражданскую жизнь России и утвердили идею богоустановленности и почитаемости власти2081. В свою очередь власть обременялась ответственностью не только перед людьми, но и перед Богом2082. Присяга, к которой приводились все без исключения Государевы подданные, гражданско-государственный и дипломатический церемониал выражали определенные политические и религиозные идеи. И, хотя в России XVI–XVII вв. Православие было сутью всей жизни, а принадлежность к католической, протестантской и тем более мусульманской традиции имела негативные социальные последствия, в Посольском приказе служили представители разных национальностей, конфессий и вероисповеданий.
Среди служащих Приказа были татары, греки, поляки, шведы, лифляндцы, итальянцы и другие, которые чаще всего выполняли обязанности переводчиков. Некоторые из них крестились повторно – принимали Православие; к присяге приводили в присутствии подьячего Посольского приказа, заведовавшего личным составом, всех – независимо от вероисповедания – как православных, так и протестантов, католиков, магометан. Католики и протестанты присягали в присутствии живших в Москве ксендзов и пасторов, татар приводили к присяге (шерти) на Коране татарские же толмачи. Без присяги не разрешалось приступать к работе: «в приказех не сидеть и никаких дел не делать»2083.
Выдвижение в качестве приоритета русской внешней политики отстаивания Православной веры во всей Эйкумене было далеко не случайным2084. Католическая Церковь в лице Римского Папы проводила активную внешнюю политику по закреплению восточных христиан за своим престолом через заключение уний, которые, помимо чисто обрядовой части, уравнивали примкнувшее население с другими в социально-политических правах. Однако этот процесс сопровождался, как пишет Э. Суттнер, образованием партий в Восточных Церквах, что приводило в конце концов к социально-гражданскому, а затем и церковному расколу2085. Более того, восточные христиане, которые благодаря унии поднимали свой социально-экономический статус, вынуждены были принять не только другую религиозную традицию, но и обычаи той нации, в которой они ассимилировались, во многом утрачивая свои. В такой ситуации возникала реальная угроза утраты народом своей культурно-национальной идентичности. На канонических же территориях Православной Церкви с ее доминирующими принципами соборности, поместным вполне независимым способом организации и последовательным сохранением богослужебного языка такой процесс был затруднителен, если Церковь сохранялась как институциональное образование2086. Вот как, например, описываются последствия унии для румын: «…обязательный и личный переход был той ценой, которую они платили за расширение собственных прав. Высшие слои были довольны таким поворотом событий, потому что интеграция в другую нацию наиболее способных к продвижению румын лишала румынский народ потенциальных лидеров, а значит, легче было держать в рабстве румын, отняв у них лучшие головы»2087.
О роли Православной Церкви, например в Греции, говорит профессор Салоникийского университета Э. Д. Теодору: «Элладской Церкви пришлось вести во время оттоманского владычества новую духовную борьбу. В это время Церковь как любящая Мать и как птица, собирающая «птенцов своих под крылья» (Мф.23:37), выступила в защиту порабощенного греческого народа и оказала огромную помощь в сохранении органической целостности греческой нации. Без поддержки своей Церкви греческий народ под гнетом турок оказался бы в очень серьезной опасности. Церковь поддерживала духовные силы народа и его национальные традиции, верной хранительницей которых она являлась при посредстве греческого языка и письменности, и особенно церковных богослужений… С помощью Церкви было построено множество школ, библиотек, типографий, общественных столовых для студентов. Церковь предоставляла стипендии и осуществляла другую деятельность подобного рода. В этот период Церковь способствовала даже развитию науки… Таким образом, Православные греки объединились вокруг своей Церкви, сохраняли свое национальное сознание и не поддавались ассимиляции со стороны ислама… Как во всеуслышание заявил Евгений Булгарис в патриаршей часовне в Константинополе в 1760 году, Церковь “даже в оковах рабства излучала свет и сохраняла свое достоинство”. Вся жизнь порабощенного народа имела церковный характер: интересы Церкви были интересами народа и наоборот… В период оттоманского владычества огромную деятельность осуществляли монастыри. Они являлись убежищем для всех угнетенных, укрепляя благочестие народа… Монахи-учителя преподавали или в самих монастырях, или же во время путешествий по стране; проповедники и духовные исповедники воодушевляли людей как в вере, так и в стойкости. Во многих монастырях регулярно работали школы, причем все они превращались в хранилища рукописей… Элладская Церковь не только спасла греческую нацию, но и подготовила ее освобождение от турецкого ига, участвуя и словом, и делом в борьбе за национальную независимость»2088.
Превращение Руси в Российскую империю как преемницу Византийской в «судьбах пременения царств» после разорения последней в XV в. было залогом выживания Православной цивилизации2089, оказавшейся неспособной удержать секуляризационные тенденции в расширении и умножении форм предметных мнимостей политического самосознания и социально-гражданско-экономической активности. Свободная от культурно-экспансионистской агрессивности, столь присущей католическому романо-германскому духу (аристотелевско-августиновской традиции), Православная цивилизация могла устоять, самоукрупнившись до определенных пространственных пределов, сохраняя национальные, традиционно-кафолические и политико-экономические связи2090.
Таким образом, закономерность формирования и развития потенциала государственно-территориальных образований для Руси состояла не в организации торговых путей и выходе к морям, а в удержании под своим контролем некогда единой торговой сети, известной еще со времен Древней Руси как «путь из варяг в греки» и «путь из варяг в персы». Вот что написал в начале XX в. известный русский ученый-геополитик И. И. Дусинский по этому вопросу: «…должно быть совершенно чуждо России стремление вести завоевательную политику под флагом приобретения рынков сбыта. При нашей промышленной отсталости и огромном внутреннем рынке… потребность во внешних рынках сбыта у нас не Бог весть как велика, да и эту потребность мы отлично можем удовлетворить вполне мирным путем, без всяких территориальных захватов…»2091.
Удержание торговой сети под своей властью обеспечивало бы Русское Царство прочным щитом от воздействия католицизма, неминуемо привносимого вместе с осуществлением торговых связей на более свободных «либеральных» правовых основах. Поэтому, если и соглашаться с Н. А. Нарочницкой, которая считает, что борьба наций за выход к морю была главным содержанием истории до окончательного формирования геополитического облика мира, то только в той части, что России необходимо было не закрепить политическое, а удержать свое географическое положение (лишь в этом случае для России географическое расширение и закрепление на морях было закономерным условием ее стабильности и безопасности: она должна была отвечать экономико-политическим вызовам времени – предоставлять «лоцманские» гарантии иностранным торговцам и защиту от «лихих людей» на своей территории, которые и старалась обеспечивать всеми доступными силами и средствами).
Такой же точки зрения придерживается русский историк С. Жигарев, обусловливающий стремление русского народа к Каспийскому, Азовскому и Черному морям течением рек Волги, Дона, Днепра и Днестра, которые своею сетью захватывали самую сердцевину только что начавшего укрепляться русского Православного царства2092. В силу этого географического условия Россия должна была постоянно вести оборонительные и наступательные войны с мусульманами, защищая от набегов свои юго-восточные границы и отодвигая последние на юг и восток, до естественных пределов.
На протяжении национальной истории происходили сложнейшие процессы конфессионально-этнонациональной консолидации и формирования общих интересов. Именно в эти периоды в русском языке фиксируются понятия «всея земля России», «верховенство всея Земли», отражающие доминанту общего над частным, удельным. Подтверждают это и титулования Русских Государей и Патриархов: от удельного князя земли до Государя Царя и Великого Князя всея Великия и Малыя и Белыя России Самодержца2093; от епископа церковной области до Святейшего Архиепископа царствующего града Москвы, всей Великой и Малой и Белой России и всех северных стран и поморья и многих государств Патриарха.
Становится очевидным, что новая династия Романовых должна была сплотить народные силы, чтобы возвратить потерянное до нее, – «это был ее национальный долг и условие ее прочности на престоле»2094. Возобновив внешнеполитическую активность, Россия должна была решать задачи, завещанные ей еще в XVI в., но уже в новых условиях: в Европе бушевала Тридцатилетняя война (1618–1648)2095, разбросавшая страны в два противоборствующих лагеря: габсбургский во главе с Императором Священной Римской империи Фердинандом II и антигабсбургский во главе с французским Королем Людовиком XIII. Каждое из государств, втянутых в этот общеевропейский конфликт, стремилось заключить союз или завязать дружественные отношения с Русским государством, чтобы обеспечить себе тыл с востока и получить выгодный рынок2096.
Круг внешних сношений России, которую вовлекали в различные политические и экономические союзы, значительно расширился; русская дипломатия вышла на международную арену в новом качестве: международный престиж России поднимался – несмотря на то, что государство ослабло в период Смуты2097. Приезд иностранных посольств в Москву, как и пребывание московских послов в европейских столицах, становится обычным явлением2098.
Внешнеполитическая активность Русского православного царства, преодолевая свое извечное состояние «ответа» становится инициативной с элементами стратегического планирования; «мессианская» дипломатия все еще является сущностной, дипломатия же «экспансионистская» начнется лишь с эпохи Петра I как элемент неизбежного и стабильного включения России в сферу интересов западноевропейского мира, но основы этого включения формируются и утверждаются во второй половине XVII в.2099 Это убедительно подтверждается делопроизводством Посольского приказа – главного ведомства по ведению международных дел, в функциях которого были: сношения с монархами иностранных государств, с их временными и постоянными представителями – гонцами, послами, посланниками и резидентами; отправка, встреча и оснащение посольств; придворный протокол; внешнеторговые дела. Постепенно складываясь и развиваясь (с 1549 по 1700 г.), Посольский приказ в ходе своего становления имел различную структуру: если в 1646 г. в нем существовало четыре повытья, в 70-х гг. – пять, то к 90-м гг. их становится шесть.
1-е повытье обеспечивало: отношения с Папским престолом2100, Священной Римской империей германской нации2101, Испанией2102, Францией2103, Англией2104; все протокольные вопросы;
2-е повытье ведало отношениями со Швецией2105, Польшей2106, Валахией2107, Молдавией2108, Турцией2109, Крымом2110, Голландией2111, Гамбургом, ганзейскими городами2112, с Грецией и обеспечивало визиты «греческих властей» (Вселенские Патриархи)2113;
3-е повытье ведало связями с Данией2114, Бранденбургом, Курляндией2115 и всеми техническими сторонами сношений (переводчики, толмачи, драгоманы, переписчики, золотописцы);
4-е повытье занималось отношениями с Персией2116, Арменией2117, Индией2118, Калмыцким государством2119, с донскими казаками2120, а также вопросами связи (почта, включая дипломатическую переписку, курьеры, гонцы, вестовые, связные, служба обеспечения безопасности дипломатических работников – «расправные дела» и торговое представительство);
5-е повытье ведало отношениями с Китаем2121, Бухарой2122, Ургенчью (Хива)2123, сибирскими калмыками (Джунгарское государство)2124, Грузией2125, а также снаряжением посольских работников (суконное, позументное дело, полотняные заводы и т.д.), устроением приемов.
Таким образом, в 80-х гг. XVII в. три отдела занимались европейскими делами, два – азиатскими (эта структура сохранится до 1701–1702 гг., до конца существования приказа). Число переводчиков с момента организации Посольского приказа и до его роспуска было разным, но по мере роста объема работы и числа стран, вступавших в дипломатические отношения с Русью, постоянно росло, оно увеличилось2126 с 10 до 20; толмачей, знавших от двух до четырех языков, было от 12 до 16; работали 5 золотописцев, 9 приставов, 4 охранника – две посуточные смены. На протяжении всего столетия шла напряженная работа дьяков и подьячих, предопределившая успехи отечественной дипломатии2127.
Ярким подтверждением высокой международной активности России того времени являются посольские книги. Если в XVI в. «крымских» посольских книг (по связям России с Крымским ханством) было 21, то в XVII в. стало 82; «польских» – было 25, стало 231; «ногайских» – было 10, в XVII в. прибавилось только две, зато «шведских» было семь, стало 122 и т.д.
Основное количество опубликованных посольских книг сосредоточено в «Сборниках Русского исторического общества». Среди них: две «английских» (т. 38), изданных под ред. Ю. В. Толстого и К.Н. Бестужева-Рюмина в составе «Памятников дипломатических сношений Московского государства с Англиею»; десять «польских» изданы среди «Памятников дипломатических сношений Московского государства с Польско-литовским государством» (т. 35, 59, 71 под ред. Г. Ф. Карпова; т. 137, 142 под ред. С. А. Белокурова); четыре «шведские» посольские книги опубликованы в «Памятниках дипломатических сношений Московского государства с Шведским государством» и подготовлены Н. П. Лихачевым и В. В. Майковым (т. 129); одна «прусская» книга издана под ред. Г. Ф. Карпова в «Памятниках дипломатических сношений Московского государства с Немецким орденом в Пруссии» (т. 53); одна «турецкая» (т. 95), одна «ногайская» (т. 41, 95), пять «крымских» (т. 41, 95) опубликованы в серии «Памятники дипломатических сношений Московского государства с Крымом, Ногаями и Турцией». Под ред. Г. Ф. Карпова, Г. Ф. Штендмана и Д. Ф. Кобеко вышел т. 95, Г. Ф. Карпова – т. 41. Всего в Сборниках Русского исторического общества было опубликовано 24 посольские книги.
Большой труд по изучению и публикации дипломатических документов, относящихся к истории взаимоотношений России с Персией за период с 1588 г. до середины XVII в., предпринял Н. И. Веселовский. Изданные под его редакцией документы включают три «персидские» посольские книги – см.: Памятники дипломатических и торговых сношений Московской Руси с Персией / под ред. Н. И. Веселовского. Т. 1. СПб., 1890; Царствование Федора Иоанновича // Труды Восточного Отделения императорского Археологического общества. Т. 21. СПб., 1892.
Н. Ф. Каптерев, используя «греческие» и «турецкие» посольские книги, составил документальный исторический очерк сношений Иерусалимских Патриархов с Русским правительством со второй половины XVI до конца XVIII в.: Православный палестинский сборник. Вып. 43. Т. 15. СПб., 1895. В сборнике, подготовленном С. А. Белокуровым, опубликованы две «грузинские» посольские книги: Белокуров С. А. Сношения России с Кавказом. Вып. 1 (1578–1613). М., 1889.
При описании архива МИД были открыты материалы, относящиеся и к эпохе Патриарха Никона, его «Делу», которые были изданы Н. В. Гиббенетом: Историческое изследование дела Патриарха Никона: в 2 ч. СПб., 1882–1884; некоторая часть издана под ред. Г. Ф. Штендмана: Дело о Патриархе Никоне. СПб., 1897; первые же документы были опубликованы в 1861 г. в Записках Отделения русской и славянской археологии Императорского русского археологического общества В. И. Ламанским: Дело Патриарха Никона. Т. II. СПб., 1861 [см. подробнее: Шмидт В. В. Никоноведение: библиография, историография и историософия // Государство, религия, Церковь в России и за рубежом. 2008. № 3–4 (44–45)]; наиболее полные материалы о Патриархе Никоне представлены в книге «Патриарх Никон. Труды» (М., 2004).
Ф. Ф. Лашков издал отдельные фрагменты посольских книг по связям России с Крымом (крымские шертные грамоты и два статейных списка): Лашков Ф. Ф. Памятники дипломатических сношений Крымского ханства с Московским государством в XVI и XVII вв. Симферополь, 1891. С. 23–38; Статейный список московского посланника в Крым Ивана Судакова в 1578–1588 гг. // Известия Таврической ученой архивной комиссии. Симферополь, 1891. № 14. С. 41–80 (далее: ИТУАК); Статейный список московского посланника в Крым Семена Безобразова в 1593 году // ИТУАК. 1892. № 15. С. 70–94.
Материалы по истории взаимоотношений России и Швеции в 1616–1651 гг. опубликовал К. Якубов. Среди извлечений из различных актов в его публикации помещены отрывки «шведских» посольских книг: Якубов К. Россия и Швеция в первой половине XVII века. М., 1897.
Статейный список посольства в Китай Н. Спафария издал Ю. В. Арсеньев: Арсеньев Ю. В. Путешествие через Сибирь от Тобольска до Нерчинска и до границ Китая русского посланника Н. Спафария в 1675 г. СПб., 1892; Он же. Статейный список посольства Н. Спафария в Китай (1675–1678 гг.). СПб., 1906.
В советской историографии наиболее крупными публикациями посольских книг являются изданные в серии «Литературные памятники» тексты шести статейных списков послов XVI–XVII вв. Практически полностью повторяют это издание «Записки русских путешественников XVI–XVII вв.». Опубликованы также тематические сборники документов по русско-шведским, русско-китайским и русско-румынским отношениям: Путешествия русских послов XVI–XVII вв. М.; Л., 1954; Записки русских путешественников XVI–XVII вв. // сост., подг. текстов, коммент. Н. И. Прокофьева, Л. И. Алехиной. М., 1988; Русско-шведские экономические отношения в XVII веке. М.; Л., 1960; Экономические связи между Россией и Швецией в XVII веке. М.; Стокгольм, 1978; Русско-китайские отношения в XVII в. М., 1969–1972. Т. 1–2; Исторические связи народов СССР и Румынии в XV – начале XVIII в. М., 1965–1970. Т. 1–3.
Значительную группу составляют публикации-исследования, посвященные дипломатическим миссиям. М. А. Полиевктов ввел в научный оборот документы посольств князя Е. Ф. Мышецкого в Кахетию и стольника Н. М. Толочанова в Имеретию: Полиевктов М. А. Посольство князя Мышецкого и дьяка Ключарева в Кахетию: 1640–1643. Тифлис, 1928; Он же. Посольство стольника Толочанова и дьяка Иевлева в Имеретию: 1650–1652. Тифлис, 1926.
Н. Ф. Демидова и В. С. Мясников опубликовали статейный список посольства в Китай, составленный Ф. И. Байковым: Демидова Н. Ф., Мясников В. С. Первые русские дипломаты в Китае. М., 1966. С. 113–145.
Источники о поездке гонца Г. С. Дохтурова в Англию и его статейный список издан З. И. Рогинским: Рогинский 3. И. Поездка Г. С. Дохтурова в Англию в 1645–1646 гг. Ярославль, 1959; Он же. Лондон 1645–1646 годов. Ярославль, 1960. Г. Н. Анпилогов опубликовал документы о приезде в Москву польского посланника П. Волка и гонца М. Сушского, а также материалы Посольского приказа для русского посольства А. Д. Резанова в Польшу [Анпилогов Г. Н. Выписки из статейного списка «Польские дела» за 1592–1593 гг. // Новые документы о России конца XVI – начала XVII в. М., 1967. С. 7 (материалы извлечены из посольской книги по связям России с Польшей: РГАДА. Ф. 79. Оп. 1. Д. 22. Л. 1–72об.; 169–170об.; 193об.–194об.; 124об.–169об.)].
Издан также статейный список К. Скобельцына о его миссии при дворе Римского (Германского) Императора Максимилиана II: Статейный список Константина Скобельцына (1573–1574 гг.) / подг. текста Я. С. Лурье; коммент. Н. А. Казаковой // Археографический ежегодник за 1979 г. М., 1981. С. 304–310 (статейный список извлечен из посольской книги по связям России с Данией: РГАДА. Ф. 53. Оп. 1. Д. 2. Л. 145–156).
В 80-х гг. XX в. в Институте истории СССР АН СССР (ныне Институт российской истории РАН) под руководством члена-корреспондента РАН В. И. Буганова Н. М. Рогожин совместно с РГАДА начал издание полных текстов посольских книг (Посольская книга по связям России с Англией 1613–1614 гг. М., 1979; Посольская книга по связям России с Ногайской Ордой 1489–1508 гг. М., 1984; Посольская книга по связям России с Грецией [православными иерархами и монастырями] 1588–1594 гг. М., 1988; Посольские книги по связям Молдовы с Россией 1684, 1690–1691 гг. Кишинев, 1993; Посольские книги по связям России с Ногайской Ордой 1489–1549 гг. Махачкала, 1995). К 1996 г. опубликовано две посольские книги по связям России с Англией и Грецией, четыре «ногайские» и две по связям с Молдовой.
Подробнее см.: Рогожин Н. М. К вопросу о публикации посольских книг конца XV – начала XVII вв. // Археографический ежегодник за 1979 год. М., 1981. С. 185–209; Он же. Посольские книги начала XVII в. и архив Посольского приказа // Вопросы источниковедения и историографии истории СССР. Дооктябрьский период: Сб. статей. М., 1981. С. 99–114; Он же. Дела посольские // Сокровищница документов прошлого. М., 1986. С. 211–234; Он же. Обзор посольских книг из фондов-коллекций, хранящихся в ЦГАДА (конец XV – начало XVIII в.) / отв. ред. В. И. Буганов. М., 1990.
Наряду с Посольским приказом, занимавшимся собственно дипломатической и политической деятельностью, в системе управления Московским царством постепенно сложились и действовали другие учреждения, которые также обеспечивали международные дела, связанные с хозяйственными, пограничными, военными, административными и др. вопросами. Сложилась группа ведомств, которые образовали государственный аппарат, обеспечивающий все стороны отношений Московского государства с «заграницей». Среди них:
– Панский приказ ведал делами, связанными исключительно с Литвой и Польшей. Выделение этого ведомства из состава Посольского приказа объяснялось своеобразием отношений Руси с Польшей и Литвой как соседями.
– Полонянничий приказ ведал делами военнопленных – как русских в чужих государствах, так и иностранных в Московском царстве. Приказ литовских полонянничьих дел выделился особо в 1634–1636 гг.
– С 1624 по 1701 г. существовал Иноземный приказ, занимавшийся делами всех иностранцев, живших в России, – купцов, ремесленников, медиков, художников, ученых; персонала посольских дворов; войска иноземного строя, т.е. наемной царской гвардии и отборных (парадных) и технических войск, состоящих из иностранцев – немцев, западных славян, албанцев, швейцарцев и шотландцев.
– Приказ тайных государевых дел (1654–1676 гг.) возглавлялся Царем. Здесь разрабатывалась стратегия и велась предварительная секретная подготовка важнейших внешнеполитических вопросов и государственных дел, обсуждались вопросы и координировались мероприятия, направленные на обеспечение национально-государственной безопасности2128.
В связи с расширением территорий царская власть в средневековой Руси четко понимала важность особых управленческих органов для поддержания отношений с землями, которые присоединялись к России либо в результате войн, либо добровольно, имели иной национальный состав населения, свои хозяйственные особенности.
Национальная политика русской власти и механизмы управления названными территориями существенно отличались от политики всех существовавших в то время государственных установлений как в Западной Европе, так и в Азии. Общим их правилом было непосредственное инкорпорирование присоединенных территорий и введение в них той же модели управления, что и на коренных землях2129.
Русское правительство действовало иначе: во-первых, присоединенные территории «изолировались» от коренных, им давалось особое управление из центра; во-вторых, чутко учитывались национальные особенности новых территорий, в поле зрения властей постоянно были вопросы их развития и ассимиляционные процессы; для управления из центра этими землями активно использовались национальные кадры. Такая геополитическая тактика и принцип экстерриториального управления способствовали тому, что Россия, расширяясь, объединила в себе множество разных народов и этносов, не подавляя, а привлекая народы и страны дифференцированной в отношении их политикой (эта система управления инонациональными территориями просуществовала до XVIII в., при Петре I была ликвидирована, но ее прежняя суть, выражавшаяся в особом отношении к новоприсоединенным национальным территориям все же сохранялась).
В число приказов, предназначенных для управления из Москвы автономными территориями, входили: Новгородская четь, Смоленский приказ2130, Казанский Дворец2131, Сибирский приказ, Малороссийский приказ, Литовский и Лифляндский приказы и Приказ Великия России2132. Эти так называемые территориальные приказы ведали землями, которые в разное время были присоединены к Московскому государству; в круг их функций входили не столько иностранные дела, сколько социально-политические, национально-конфессиональные и административно-хозяйственные вопросы данных территорий.
Включение Руси в активный процесс международного взаимодействия вызывает изменения в самооценке, самопредставлении государственной власти и оказывает влияние на традиционный уклад жизни и внутреннее состояние Русского государства: исчезают пережитки феодальной раздробленности, начинает развиваться сельское и товарное производство, завязываются торговые связи и т. д.2133 Монархия с Боярской думой и боярской аристократией включается в динамичный процесс абсолютизации2134, требующий совершенствования аппарата управления (это приводит к его расширению)2135; реорганизуется и перевооружается армия – создаются полки нового строя2136.
***
Итак, из трех основных внешнеполитических задач XVII в. главной по-прежнему остается борьба с Речью Посполитой. На это были свои причины: с одной стороны, Речь Посполитая, захватив Смоленск в годы интервенции в период Смутного времени и закрепив эти территориальные приобретения в Деулинском перемирии (1618) и в навязанном России Поляновском мирном договоре (1634)2137, продвинула свои границы на восток, постоянно угрожая Москве и покушаясь на существование национального Русского государства; с другой стороны, с формированием русской (великорусской) нации ускорился рост национального самосознания русского народа, укрепились связи с единокровными народами Украины и Белоруссии, противостоявшими папско-католической экспансии и прозелитизму.
В середине XVII в., когда на Украине развернулась освободительная война под руководством Богдана Хмельницкого2138, русское правительство, после длительных обсуждений и под давлением Патриарха Никона2139 осознававшее себя охранителем ромейского наследия, решило поддержать гетмана, что неминуемо должно было привести к войне с Речью Посполитой2140. Чтобы собрать силы для этой войны, России нужно было обезопасить себя от возможных столкновений с другими соседями. Русское правительство пошло на компромисс в отношениях со Швецией, заключив с ней Стокгольмский договор (1649)2141; оно настойчиво искало пути сохранения мира с татарами, одновременно укрепляя южные границы2142.
8 января 1654 г. Переяславская Рада провозгласила воссоединение Украины с Россией (в Москве представители малоросского народа и казацкого войска были приведены к присяге на верность Царю)2143, а летом того же года на русско-польском фронте развернулись боевые действия (за два первых года войны были освобождены Смоленская и Северская земли, большая часть Белоруссии и Литвы; отряды Богдана Хмельницкого доходили до Львова и Люблина)2144.
Затем военные действия приостановились: в 1656 г. в войну вмешалась Швеция, которая не была заинтересована в укреплении Руси за счет выхода к берегам Балтийского моря. Она предприняла усилия, направленные на окончательное разорение Речи Посполитой. В этих условиях Россия заключила перемирие с последней2145 и в 1656 г. начала войну со Швецией, чем спасла Речь Посполитую от разгрома2146.
B 1658 г. начался второй этап борьбы с Речью Посполитой, окончившийся тяжелейшими неудачами для русских. Речь Посполитая в 1660 г. заключила со Швецией Оливский мир2147 и бросила все силы против России. В результате Литва и Белоруссия Россией были утеряны.
К концу тринадцатилетней Русско-польской войны, после провала похода Короля Яна Казимира на Украину в 1664 г., обе стороны были совершенно истощены – начались переговоры, завершившиеся заключением в 1667 г. Андрусовского перемирия2148 сроком на тринадцать с половиной лет. К России отошли Смоленск с областью, Северская земля с Черниговом, Киев – на два года (фактически – навсегда), Запорожье юридически было под совместным владением России и Речи Посполитой.
Это был крупный успех. Руководствуясь мессианскими убеждениями в соответствии с концепцией «Москва – Третий Рим», Россия накапливала силы и добилась перевеса. В результате в апреле 1686 г., после долгих дипломатических дебатов, связанных с условиями организации антиосманской Священной лиги, с Речью Посполитой был заключен «Вечный мир»2149, утвердивший присоединение Левобережной Украины с Киевом и Запорожья к России. Договор о «Вечном мире» ставил жесткий заслон католической экспансии: он не только повторял статью старых договоров о запрещении принуждения православных к унии и католичеству, но и гласил, что «благословение и рукоположение всем духовным приимать, которые есть в Польше и Литве во благочестии прибывают, приимать благословение в богоспасаемом граде Киеве, от преосвещеннейшаго киевского митрополита по духовному их чину и обыкновению, безо всякого препинания и вредительства»2150.
Отношения со Швецией – второе главное направление внешней политики Русского Царства – были детерминированы, как уже отмечалось, стремлением России взять под свой контроль торговые пути в целях минимизации католического влияния и обеспечения, как бы странно это ни звучало, более короткого пути Англии и Голландии к их колониям в Индии. Если бы России удалось замкнуть их торговые интересы на себе, то она в длительной перспективе могла гарантировать бесперебойные поставки разных товаров как транзитом через свою территорию, так и для внутреннего потребления. Это способствовало бы росту ее политико-экономического значения для Европы.
Иностранные державы интересовались и другими путями в Индию, в частности через Северный морской путь, о чем свидетельствует активность их разведок, особенно английской, в Сибири. Зарубежные разведчики стремились добыть информацию о Сибирских землях и карты этого региона, чтобы выяснить, нет ли альтернативного способа попасть в Индию. Русское правительство, основываясь на донесениях разведки, справедливо опасалось, что «есть возможность… немцам (иностранцам. – Авт.) пройти в Мангазею из своих земель, минуя Архангельский город… которые многим людям Сибирских городов могут учинить разбой», поэтому в 1620 г. оно запретило всем пользоваться «морской дорогой» (освоение Сибири шло из центра России сухопутными и речными путями, которые были подконтрольны местным воеводам)2151.
Вовлеченное в систему международных связей и экономического взаимодействия, Русское государство было вынуждено развивать прямые экономические связи с европейскими державами, сформировавшими свои хозяйственно-общественные уклады на парадигмах «рационализированного стяжания» (с католическими государствами и их хозяйственным укладом было противостояние, с государствами англосаксонской культуры и хозяйственным укладом, нацеленным на конкуренцию, – сближение и большая степень доверия)2152.
Особенно остро стояла проблема материально-технического обеспечения оборонного потенциала страны. В это время боеспособность русской армии практически полностью зависела от поставок вооружения из ведущих европейских держав. К тому же в Москве прекрасно понимали, что Архангельск, единственный океанский порт России, находился в зоне досягаемости шведских сухопутных сил и флота. Столбовский мир (1617)2153, заключенный при посредничестве Англии и Голландии, завершил Русско-шведскую войну начала XVII в., и правительство первых Романовых пыталось сохранить хорошие отношения со Швецией, тем более что с неблагоприятным развитием конфликт мог перерасти в военное столкновение с угрозой для Архангельска. И это подтверждало необходимость материально-технического укрепления и развития северных рубежей России и обеспечения стабильности на берегах Балтийского моря.
Важно отметить, что уже в ходе Русско-польской войны 1654–1667 гг. Россия пыталась решить эту проблему за счет присоединения Литвы и Курляндии. Чтобы остановить русское продвижение, летом 1655 г. Швеция вступила в войну с Польшей и, разгромив ее армию, захватила Варшаву. Столь резкое усиление Швеции за счет Польши, Литвы и Курляндии вынудило Россию весной 1656 г. заключить перемирие с Польшей и вступить в войну со Швецией, о чем уже говорилось ранее. Но сил для борьбы с одной из самых передовых в военном отношении стран Европы было явно недостаточно, поэтому Россия в 1658 г. заключила Валиесарский договор2154 со Швецией о перемирии на три года, а в 1661 г. – Кардисский мир2155 на прежних условиях (Столбовского соглашения).
Таким образом, в середине XVII в. во время «симфонического» взаимодействия Царства и Патриаршества в деле созидания православной державы произошло сочленение социально-экономических задач развития северных территорий и мессианских целей, оформившееся в стратегическое военно-политическое направление внешнеполитической активности государства и общества на юге (славянские народы Балкан, Константинополь): были сформированы ценностно-определяющая ось и смыслополагающий вектор национально-государственного развития Московско-Ромейского царства в образе третьего Рима – Святой Руси.
В это же время возникает идея разрушения крымско-польско-шведского барьера на его флангах с помощью Польши и в союзе с ней. Реализация этой многосложной задачи легла на Посольский приказ во главе с А. Л. Ординым-Нащокиным (с 1667 г.)2156. Главный же идеолог – Патриарх Никон – в это время соборным решением (12 февраля 1666 г.) был низведен с Патриаршей кафедры и отправлен в ссылку, чем был нанесен непоправимый ущерб и внешнеполитическим делам Московского царства. Так духовно обескрыленная Россия неминуемо шла к абсолютизации верховной власти, но и в это же время вынуждена была вступать в тесные союзнические отношения с католической Речью Посполитой: Андрусовский договор провозгласил, а «Вечный мир» закрепил русско-польское сближение и указал дальнейшее направление внешней политики России – поиски путей для совместной борьбы с общими врагами славянских народов (создав союз вместе с Римской империей германской нации и Венецией, страны обязались совместно бороться против агрессии Оттоманской Порты и Крымского ханства)2157.
Третье направление внешней политики России – южное2158, связанное с борьбой против турецко-татарской агрессии, в XVI–XVII вв. развивалось драматически; в последней четверти XVII в. оно стало ведущим. Дело в том, что во второй половине XVI в. при Сулеймане Великолепном (1495–1566) Турция достигла наивысшего могущества и расширила свои владения на Балканах, угрожая странам Центральной и Южной Европы. На востоке Европейского континента вместе со своим вассалом – крымским ханом турецкий султан вступил в ожесточенную борьбу с крепнущим Русским централизованным государством и с народами Украины, входившими в состав Речи Посполитой.
Ко второй половине XVII в. границы России продвинулись далеко на юг, а на путях вторжения татар (ногайский, муравский и кальмиусский шляхи) выросли десятки новых городов-крепостей, соединенных между собой от Белгорода до Тамбова системой укреплений, получивших название Белгородской засечной черты. В дополнение к ней чуть позже были построены Симбирская и Изюмская черты, еще больше затруднявшие прорыв татарской конницы во внутренние уезды России. Таким образом, становится очевидным, что интересы национально-государственной безопасности Руси (и шире – Эйкумены в целом) московско-ромейского ее периода оформились в два вектора геополитического движения: на юг, прежде всего Кавказ и Персию, и на Дальний Восток, а обеспечивались миссионерско-политическими и военно-экономическими средствами.
Сразу же после Андрусовского перемирия и воссоединения Левобережной Украины с Россией резко обострились отношения последней с Крымским ханством и Османской империей. После тяжелых боев под Чигирином в 1676–1681 гг. русским войскам удалось остановить продвижение крымско-турецкой армии на Киев, что в итоге привело к заключению Бахчисарайского мира2159, но положение на южной границе оставалось напряженным по многим причинам. Постоянные татарские набеги, угон в рабство славянского населения, строительство оборонительных сооружений (засечных черт) негативно отражались на финансово-экономическом положении страны. Крымская угроза постепенно превращалась в проблему необходимости выхода России к берегам Черного моря и обеспечения доминирования в этом регионе. Следующим звеном в этой цепи было неизбежное столкновение с Османской империей и борьба с последствиями ее экспансионизма. Эту задачу ввиду ее масштабности можно было решить только при консолидации стран Центральной, Южной и Юго-Восточной Европы.
Во второй половине XVII в. все реже стала срабатывать дипломатическая тактика «разделяй и властвуй», которую использовали Османская империя и Крымское ханство в отношении своих северных соседей – России и Речи Посполитой. Международная обстановка диктовала необходимость пересмотра позиций. Если раньше польские магнаты охраняли лишь свои замки, иногда подкупали и натравливали татар на казаков и Россию, расплачиваясь за эту «помощь» имуществом и кровью украинского народа, то после войны со Швецией и Россией, когда отряды татар разорили и опустошили немало исконно польских земель, а султан угрожал национальному существованию страны, у Польши появился интерес к сближению с Россией для совместных действий на юге против агрессии Османской империи.
Руководствуясь миссианскими идеями, Россия осознала свою ответственность за судьбы балканских народов и одновременно с этим были сильны освободительные чаяния, связанные с восстановлением национально-государственной независимости православного Ближнего Востока. Так со второй трети XVII в. Православная Эйкумена ощутила реальность восстановления Ромейского Царства (империи Константина Великого), духовным и политическим центром которой теперь был третий Рим – Москва, а жизнеутверждающим началом – «симфоническое» единство государства и Церкви, Царя и Патриарха2160.
Но еще ранее, когда в Восточном Средиземноморье шла война Османской империи с Венецией за остров Крит («Кандийская война», 1645–1669 гг.), приведшая вследствие поражения османской армии к политическому кризису Османской империи, укреплялись надежды православных подданных империи на их скорое освобождение от власти иноверцев (в соответствии с бытовавшими пророчествами это освобождение должно было прийти от Русского Царя2161). Руководствуясь этими надеждами, греки принимали активное участие в подготовке союза Украины с Россией, который в их политических проектах был одним из этапов объединения сил всех православных народов для борьбы с мусульманским игом.
Сотрудничество греков и других православных подданных Высокой Порты с русскими властями играло в то время большую роль в деятельности Посольского приказа, позволяя получать ценную информацию о политической ситуации и корректировать русскую внешнюю политику2162. Среди наиболее известных лиц, не только сообщавших в Россию о происходивших событиях, но и принимавших активное участие в переговорах между гетманом Богданом Хмельницким и Царем Алексеем Михайловичем2163, в первую очередь следует назвать Иерусалимского Патриарха Паисия, Назаретского митрополита Гавриила, бывшего Константинопольского Патриарха Афанасия III (Пателара), Коринфского митрополита Иоасафа и других высших церковных иерархов.
Заключенное в Бахчисарае перемирие развязало Османской империи руки на севере и дало возможность предпринять рывок в Центральную Европу. Летом 1683 г. войска Султана Магомета IV осадили Вену. Под властью Оттоманской Порты к этому времени находились почти весь Балканский полуостров, значительная часть Венгрии, земли Дунайских княжеств, Молдавии и Валахии. В 1669 г. Венеция уступила Магомету IV остров Крит. У России появилась реальная опасность потерять земли Украины. Более того, серьезная опасность угрожала всему христианскому миру. Жизненно необходимым стало объединение всех антиосманских сил.
В 1683 г. была создана Священная лига – коалиция европейских держав, в которую входили Австрия (Священная Римская империя германской нации), Речь Посполитая, Венеция, Бранденбург, Пруссия и некоторые мелкие германские княжества. Участники Священной лиги были особенно заинтересованы в том, чтобы Россия вошла в их состав для усиления борьбы с Турцией. Польский Король Ян Собеский даже пошел на значительные уступки, заключив «Вечный мир» (1686) с Россией. По условиям договора Россия должна была вступить в Священную лигу и начать военные действия против вассала Турции – Крымского ханства. Таким образом, европейские политики создали противовес угрозе Османской империи с востока. При этом у западных участников Священной лиги появилась возможность активизировать свои действия и отразить натиск врага, а Австрии и Венеции даже удалось расширить свои владения на Балканском полуострове (благодаря двум Крымским походам В. В. Голицына2164 – в 1687 и в 1689 гг., – которые заставили Султана перебросить средиземноморский флот из Мореи в Черное море и остановить выдвижение армии, собранной около Константинополя, для «воевания» Речи Посполитой).
В течение XVII в. продолжали расширяться связи России с Грузией и Арменией. Закавказские правители искали у России покровительства в борьбе с персидско-турецкой агрессией. В 1639 г. Кахетинский Царь Теймураз присягнул на верность Русскому Царю, а в 1651 г. его примеру последовал Имеретинский Царь Александр (правивший же до него Царь Арчил переехал со своей свитой в Россию, основав в Москве грузинскую колонию, и создал в селе Всехсвятском первую грузинскую типографию). В 1667 г. был заключен договор с Армянской торговой компанией, таивший большие потенциальные возможности экономического общения между Россией и Закавказьем.
Со среднеазиатскими феодальными странами у России складывались в это время мирные отношения, основанные на торгово-экономических интересах. Оживленная торговля с ними поддерживалась тремя путями: караванным – от Яика к Аральскому морю, Хивинской дорогой – через Каспийское море и туркменские степи и, наконец, северным путем – через Казахстан в Тобольск и Поволжье. В торговле России с Бухарой, Хивой и Самаркандом со стороны последних участвовали не только частные лица, но и через доверенных лиц правители этих государств2165. В 1669 г. в Бухару и Хиву из Москвы было отправлено посольство Бориса и Семена Пазухиных, а в 1671 г. в Москву прибыл бухарский посол Мулла-Фаррух. В грамоте, данной Русским правительством, и в грамоте бухарского Хана выражались надежды на установление дипломатических связей между Россией и Бухарой, а также на беспрепятственную взаимную торговлю. В 1675 г. в Бухару, Хиву и Ургенч было направлено посольство В. А. Даудова. Особый интерес русское правительство проявляло к шелку-сырцу, в связи с чем русские послы должны были предложить выгодные для среднеазиатских купцов условия продажи товара исключительно русским людям. Из Бухары в Россию поступали ткани, каракуль, ковры, а Россия в свою очередь вывозила металлические изделия, скобяной товар, посуду и пушнину.
В XVII в. весьма оживленными были торгово-дипломатические контакты России с Персией2166. В первое десятилетие царствования Михаила Федоровича было отправлено в Персию три посольства, последнее из которых имело одним из результатов торговый договор и Нижегородскую ярмарку 1620 г.2167 При Алексее Михайловиче активно продолжаются переговоры между Россией и Персией, торговля расширяется2168, и Персия стремится сделать ее независимой от чужеземного влияния, использовать коммерческий флот на Каспийском море и в Персидском заливе, чему препятствовала утвердившаяся на берегах Индийского океана Англия2169.
Торговля России с Персией становится столь значительной, что в московском Китай-городе даже возникает особый Персидский двор (в 1660 г. представитель компании армянских купцов Григорий Лусиков получает разрешение на транзит шелка в Европу и европейских товаров в Персию через Россию, ликвидировав транзит через Турцию).
В мае 1667 г. Алексей Михайлович даровал на имя Армянской торговой компании жалованную грамоту, которая устанавливала режим торговых взаимоотношений между Россией и Персией в области торговли шелком-сырцом.
Одновременно с установлением регулярных торговых связей со странами Средней Азии возобновились попытки русских купцов добраться в Индию, а индийских – в Россию. В июле 1646 г. от имени Царя Алексея Михайловича индийскому Падишаху Шах-Джахану была отправлена грамота с предложением об установлении дипломатических отношений между Россией и Индией2170, и в 1675 г. в Индии побывало русское посольство, которое принял Шах Евреин-Зепу Мамет.
Сразу после присоединения к России Казанского и Астраханского ханств, а также всего Среднего и Нижнего Поволжья в 50-х гг. XVI в. начался процесс освоения Сибири2171. Основание русских крепостей и поселений в Западной и Южной Сибири вело к сближению границ Московского государства с владениями независимых монгольских князей и через них – с Китаем, где тогда правила династия Мин.
С 1616 по 1678 г. к Алтын-ханам Монголии было отправлено одиннадцать посольств2172. Это положило начало длительным дружественным связям России с Монголией2173. Стремление государства Алтын-ханов к сближению с Россией особенно ярко проявилось в политике Омбо-Эрдэни – сына Шолой-Убаши, который в 1634 г. не только присягнул на верность Русскому Царю, но и принял обязательство выплачивать русским властям «дань». Жалованная грамота Царя Михаила Федоровича от 9 февраля 1636 г. свидетельствовала о том, что предложение Алтын-хана о вступлении в российское подданство было в Москве принято2174 (на всех переговорах о подданстве лейтмотивом была настойчивая просьба Алтын-хана предоставить его подданным право на свободную торговлю в городах Сибири).
Мирные взаимоотношения складывались между русскими землепроходцами и ойратами-калмыками2175. Царское правительство в самой категоричной форме требовало от местных властей Сибири, чтобы те не «своевольничали» и «избегали насилий над калмыками». Так, например, в грамоте Тюменскому воеводе Ф. С. Коркодилову от 15 октября 1616 г. запрещалось без разрешения из Тобольска посылать служилых людей «против калмыков», за ослушание этого приказа ему угрожали «великой опалой», даже казнью2176.
Различного рода усобицы и столкновения внутри ойратского феодального общества увеличивали число тайшей (владельцев) и зайсанов (старейшин), переходивших со своими улусами в пределы России. Они постепенно продвигались через степи Центрального Казахстана к низовьям Яика и Волги. Здесь ойраты-калмыки одержали верх над ногаями, оттеснили их за Волгу, частично подчинили своей власти, приблизились к крупному русского торговому и административному центру на Каспийском море – Астрахани2177.
В 1647–1652 гг. к России было формально присоединено Приамурье, а в 1685 г. Нерчинский острог объявлен его административным центром. В этот же период началось хозяйственное освоение Дальнего Востока2178. По мере освоения территорий, распространения там православия и российского хозяйственного уклада приамурские племена все чаще принимали подданство России2179.
По мере сближения владений России и Китайской империи Цинь возрастала необходимость в установлении дипломатических и торговых отношений между двумя государствами2180. Изоляционистская политика и устаревшие китаецентристские взгляды Маньчжурских Императоров препятствовали этому (обширное Русское государство рассматривалось в Пекине лишь как одно из «даннических владений» Богдыхана)2181. Однако с укреплением политических и экономических позиций России на Дальнем Востоке в 60–70-х гг. XVII в., созданием в 1682 г. Албазинского воеводства2182, в которое вошли все разведанные к тому времени земли по Амуру, огромные малонаселенные пространства присоединялись к России.
Опасаясь возросшего влияния русских властей на племена за пределами Амура и Аргуни, Цинское правительство предприняло ряд мер по вытеснению русских из Приамурья2183. Лишь после неудачного для нападавших пограничного столкновения из-за Албазинского острога (1685 г.) между Россией и Китаем в 1689 г. был заключен Нерчинский договор2184, согласно которому между государствами устанавливались мирные отношения, а торговля расширялась на условиях равенства прав. Особое значение для дальнейшего развития русско-китайских отношений имела поездка в Пекин в 1692–1695 гг. купца И. Избранта, который одновременно выполнял дипломатическое поручение Петра I о налаживании регулярных торговых контактов2185.
Заключение в 1689 г. Нерчинского трактата привело к временному уходу русских с Амура, что затруднило установление связей России с Японией (и другими тихоокеанскими странами), однако отрывочные, порой неточные сведения об этой стране уже появились в России в середине XVII в.2186.
XVII в., эпоха Патриарха Никона, явился не только рубежом между Русью Древней и Россией Нового времени, между Русью, состоявшей из множества удельных княжеств, и централизованным православным Московско-Ромейским Царством, обремененным ответственностью за Вселенское Православие и Православную Эйкумену, – это была эпоха, в которую были сформированы основы и положены начала дальнейшей национально-государственной, даже шире – государственно-эйкуменической (имперско-экклезиологической) политики с активным участием в складывающейся Вестфальской системе международных отношений. Эта эпоха приобрела черты стратегической исторической и духовно-культурной значительности, ее наследие оказывало и продолжает оказывать серьезное влияние на совокупную жизнь с заботами о национально-государственной безопасности и перспективах международных отношений в меняющихся системах миропорядка.
Благодаря выработанному в этот период кросснациональному и кросскультурному наследию (ответственность за сохранение онтоаксиологичских ценностей – фундаментальных ценностей бытия и обще-жития) и сформированной двувекторности «Север-Юг» и «Запад-Восток» Россия стала мощнейшей мировой державой, стратегические интересы которой заключаются в удержании онтосоциальной стабильности и полиэтнической, поликонфессиональной, поликультурной открытости миру. Именно бремя этого наследия России обеспечивает перспективу существования и сохранения миропорядка «осевого времени», и именно с этим «ромейским» наследием она так неудобоварима для «ницшеанского» мира с его стесненным формой квазибытия духом, жаждущим расширения и разменивающим онтоаксиологичские ценности на социально-экономические в их глобалистических и энтропийных тенденциях и устремлениях, нивелирующих этнонациональные и персоналистские идентичности, инновационнно-технократическим духом кратократии, вожделеющей мир с его ресурсами, рынками сбыта, но утрачивающего Красоту.
Москва, Мосох и Третий Рим: из истории политических учений русского средневековья2187 (Паламарчук П. Г.)
«Москва – это принцип» – «Воскрешение» Мосоха – Мосох в Библии – Мосох и «звездные войны» – Мосох в зарубежной историографии – Мосох в русской историографии – Мосох в историографии XX века – Москва против Мосоха – Мосох и Филофей – Ветхий Рим и старый Иерусалим – Москва против Третьего Рима – Раскольники и диссиденты – Единство
«Москва – это принцип»
В 1986 г. Борис Ельцин произнес в Кремле ответственные слова о том, что «вопрос о потере своеобразия архитектуры Москвы, особенно ее центра, перешел уже в разряд политических»2188. Утверждение это имеет глубокие исторические корни, поскольку архитектура города – это не только запечатленные воочию в его зданиях смена стилей и совершенствование строительной техники; в первую очередь архитектура есть главная идея, заложенная в основу градостроительства. («Политика» происходит от греческого слова полис, т.е. город, град; недаром в наших средневековых кодексах права политические законы так и именовались – градскими.) Таким образом, вопрос о философских основах градостроительства представляет собой вопрос о Граде в самом высоком, символическом смысле этого понятия.
Напрямую касается он и Москвы, которую поэт Федор Глинка исключительно точно назвал град срединный, град сердечный, коренной России град; его современник М. Н. Катков высказал ту же мысль еще короче: Москва – это не город, Москва – это принцип.
Поскольку речь здесь пойдет об отечественном Средневековье, следует указать, какие именно символы Града были наиболее распространенными в ту эпоху. Если до нашей эры таких символических городов было по крайней мере два – столица почти что всемирной языческой империи Рим и средоточие культа ветхозаветной религии «избранного народа» Иерусалим, – то в новую эру их собою заменил описанный в Апокалипсисе «Новый Иерусалим» – образ царства правды, грядущей победы любви над злом и упразднения самой смерти. Насколько учение о нем было близко сердцам наших предков, показывают недавние исследования архитектора М. П. Кудрявцева, занимавшегося идейно-символическим содержанием градостроительной композиции Москвы2189. По его мнению, Москва в конце XVII в. являла собой как бы воплощение этого Града будущего, облик которого весьма подробно изображен в последней книге Нового Завета. Однако конечный вывод исследователя страдает некоторой прямолинейностью, вносящей в средневековые представления о природе символа узость и чувственность мышления уже преодоленной дохристианской поры. Гораздо ближе к истине точка зрения исследователей, обращающих в этой связи внимание на выстроенный Патриархом Никоном не в Москве непосредственно, а рядом с ней монастырь Нового Иерусалима – своего рода «градостроительный образ», архитектурную икону, главный собор которого представляет подобие иерусалимского храма Воскресения – храма Гроба Господня2190.
Уместно также привести пример обратного свойства – неудавшуюся попытку Бориса Годунова – снести Успенский собор Кремля, чтобы воздвигнуть на его месте копию ветхозаветного храма Соломона. Согласно свидетельствам иностранных путешественников, заветной мыслью Царя Бориса было построение храма, который «…своим видом и устройством походил бы на храм Соломона… Мастера тотчас же принялись за работу, причем обращались к Священному Писанию, к сочинениям Иосифа Флавия и других писателей»2191. Провал этой затеи можно назвать прообразовательным для всей судьбы годуновского правления.
Вопрос о духовной основе градостроительства чрезвычайно ответственно понимался на Руси, а потому и подходить к его изучению следует с достоинством и осторожностью. Здесь совершенно недопустимо затевать с явлениями отечественной истории некую «игру в бисер», наглядный образец которой представляет следующее замечание Ю. М. Лотмана в комментариях к «Евгению Онегину»: «Название Невского проспекта “бульваром” представляло собой жаргонизм из языка петербургского щеголя, поскольку являлось перенесением названия модного места гуляний в Париже… Сравнить для Средних веков аналогичные (! – П. П.) уподобления типа Новый Иерусалим под Москвой или название «Бродвей» (Брод) для Невского проспекта между Литейным и Садовой в более позднее время»2192. Вряд ли стоит доказывать, что уравнение дела жизни Никона с блатной музыкой нынешнего хлыща не только ненаучно, но и безнравственно.
«Воскрешение» Мосоха
Насущность задачи выяснения символического содержания образа средневековой Москвы чрезвычайно ярко показывает возрождение в последние годы легенды о происхождении ее имени от ветхозаветного патриарха Мосоха. Под видом забавного предания или просто косвенных упоминаний она все чаще проникает в общедоступные издания по истории, постепенно отвоевывая себе местечко в нашей памяти. Например, археолог М. Г. Рабинович в своей книге «Не сразу Москва строилась» приводит выписку из хроники дьякона Холопьего монастыря на реке Мологе Тимофея Каменевича-Рвовского, «по-видимому, ученика киевских монахов»: «И созда же тогда Мосох князь и градец себе малый на превысоцей горе той над устии Явузы реки на месте оном первоприбытием, идеже и днесь стоит на горе оной церковь каменная святаго великомученика Никиты, бесов мучителя». От этого Мосоха Иафетовича и жены его по имени Ква и произошло, излагает далее Рабинович по Каменевичу, название реки и города Москвы. Отношение современного автора к сказанию ироническое и потому-то, вероятно, ссылок на источники он предпочел не давать2193.
Зато наиболее подробно и со множеством сносок это учение, нареченное «теорией “Москва – Мосох”», разбирает А. Н. Робинсон в приуроченной к V Международному съезду славистов книжке, изданной тиражом в 1200 экз. с грифом «бесплатно»2194. Некоторыми из выявленных им источников мы также воспользуемся ниже, но сперва приведем заключение, с которым по форме согласны, хотя и вкладываем в него иное по сути содержание. Создавшие теорию «Москва – Мосох» историографы, пишет А. Н. Робинсон, «…не были беспочвенными фантастами или легкомысленными фальсификаторами. Их фантазия, как и их риторика, теснейшим образом были связаны с идеологическими основами и методами историографии»2195.
Мосох в Библии
Что же нам известно о предполагаемом предке из Ветхого и Нового Заветов? Мосох, или по-русски Мешех, что означает в переводе «высокий», был внуком Ноя и сыном Афета (согласно славянской Библии, переведенной с более древнего греческого текста так называемого «Семидесяти толковников», седьмым; по русскому же переводу, выполненному с позднего еврейского масоретского текста, шестым); родился он вслед за Фувалом (слав. – Фовелом), о котором впоследствии также пойдет речь. Они упоминаются уже в первой библейской книге Бытие (10:2; ср. 1Паралип.1:5).
Затем имя его возникает в 119-м псалме (ст. 5–7), где псалмопевец горько сетует: «Горе мне, что я пребываю у Мосоха, живу у шатров Кидарских. Долго жила душа моя с ненавидящими мир. Я мирен: но только заговорю, они – к войне».
Наиболее подробное описание находим в книге Иезекииля, в которой пророк изрекает предсказание о взятии Иерусалима врагами, разрушении ими Храма, долгом пленении, а потом переходит к предвидению о будущем поражении Египта и восстановлению Храма.
В гл. 27 ст. 13 коротко упоминается, что Фувал и Мешех «…торговали… выменивая товары… на души человеческие и медную посуду». Зато в гл. 38–39, где речь заходит о «последних годах», когда иудеи возвратятся из пленения и станут жить безопасно, образ Мешеха вырастает до размеров поистине дьявольских. Бог обращается к своему пророку: «Сын человеческий! обрати лице твое к Гогу в земле Магог, князю Роша, Мешеха и Фувала (слав.: Рос, Мосоха и Фовеля). В тот день, когда народ мой Израиль будет жить безопасно, – следует далее обращение уже непосредственно к Мешеху и присным его, – ты пойдешь с места твоего от пределов севера, ты и многие народы с тобою, сборище великое и войско многочисленное. И поднимешься на народ Мой, на Израиля, как туча… и Я приведу тебя на землю Мою». Но тут-то и ждет их уготованная Яхве смерть – «…призову меч против него и пролью на полки его и многие народы, которые с ним, всепотопляющий дождь и каменный град, огонь и серу». Поражение будет столь страшным, что хоронить убитых будут семь месяцев, а жечь их оружие целых семь лет. Причем гибель ждет северян поголовная: «И дам Гогу место для могилы в Израиле и будут называть ее долиною полчища Гогова», куда звери и птицы соберутся «…есть мясо мужей сильных и пить кровь князей земли».
Путь Мешеху лежит прямо в преисподнюю, где ему назначено место рядом с египтянами: «Там Мещех и Фувал со всем множеством своим, вокруг него гробы их, все необрезанные, пораженные мечом.., которые с воинским оружием своим сошли в преисподнюю и мечи свои положили себе под головы, и осталось беззаконие их на костях их, потому что они, как сильные, были ужасом в земле живых» (32, 26–27).
У Иезекииля имя Мосоха впервые сплетается с Росом («голова» или «главный») и Гогом («крыша», «расширение»); Магог («распространение», «расширение») назывался уже в книге Бытие рядом с Мосохом в числе сыновей Афета, которому приходился вторым отпрыском после Гомера. Завершение библейской судьбы Мосоха, вошедшего в состав объединения Гога и Магога, описано в последней книге Нового Завета – Откровении Иоанна Богослова – Апокалипсисе.
В 20-й главе повествуется о том, как после Второго пришествия Христос поразит сатану и скует врага на тысячу лет, в продолжение которых будет царствовать на земле с праведными. «Когда же окончится тысяча лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на четырех углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань: число их как песок морской. И вышли на широту земли, и окружили стан святых и город возлюбленный. И ниспал огонь с неба от Бога и пожрал их. А диавол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков (Откр.20:7–10). Вслед за этим непосредственно и идет описание сходящего с небес града Нового Иерусалима.
Перед нами, таким образом, чуть ли не единственный случай, когда упоминание одного народа (помимо самих евреев) пронизывает Библию насквозь, начинаясь в первой книге Ветхого Завета – Бытии – и через важнейшие в ней Псалтирь и пророка Иезекииля переходит к венчающему новозаветный кодекс Апокалипсису.
Мосох и «звездные войны»
Как это ни удивительно, позабытая, казалось бы, политическая теория становится необычайно современной в наши дни. Ведь когда государственные деятели начинают говорить на языке детской песочницы, употребляя понятия вроде «звездные войны» или «империя зла», заимствованные из примитивного фантастического сериала американского производства, – подобное словоупотребление может вызвать лишь сожаление о резком снижении уровня культуры в области политологии и социальной философии. Зато в отношении полулегендарных Мосоха и Гога с Магогом дело обстоит куда серьезней.
Согласно статистике на 1983 г., число приверженцев различных религий составляет 82% населения Земли (и эта цифра практически не меняется). При этом, поскольку количество атеистов растет приблизительно на 8,5 млн человек в год (при общем росте около 90 млн), цифра эта далека от уменьшения в обозримом будущем2196. Между тем из трех мировых религий две – христианство и ислам (Гог и Магог известны под именами Йаджудж и Маджудж2197) – исповедуют пророчество о грядущем смертельном противоборстве с ними, как заклятыми врагами Града добра и истины; сюда следует прибавить и иудаистов, у которых это учение доныне сохраняется, хотя и в искаженной талмудизмом форме2198.
Нетрудно представить, каково будет отношение большинства человечества к России и всем россиянам – от далеких предков до малых детей и их потомства – если кому-то удастся убедить его в тождестве Москвы и Мосоха2199 …
Мосох в зарубежной историографии
Родоначальником изучения истории потомков Мосоха предание называет вавилонского жреца Бероза (ок. 350–280 гг. до н.э.). Однако извлечь какие-либо достоверные сведения из его сочинений крайне сложно: они дошли до нас лишь в отрывках, цитируемых другими авторами более позднего времени2200; помимо того, в Средние века различные сочинители не раз подписывали именем давно умершего халдейского мудреца собственные догадки и выдумки2201.
Вслед за ним древнееврейский историк Иосиф Флавий (37 – после 100 гг.) в труде «Иудейские древности» пишет, что «…от Мосоха произошли мосхи, именуемые ныне каппадокийцами. Сего древнего их названия ясной имеется довод: ибо находится у них и по ныне град, называемый Мазака»2202.
Албано-армянский историк VII в. Моисей Утиец называет «великим царем росмосохов» хазарского кагана; в примечаниях к описанию хазарских событий он соединяет с именем хазар не только Мосоха, но и Фовеля: «В то время царь росмосохов со своими полчищами фовельскими (тубальскими) собрал также все войска гуннов»2203.
Три века спустя, в X столетии другой армянский автор – Моисей Каганкатваци – указывает в «Истории албан», что «рос-мосош» называется «северное варварское племенное объединение»2204.
Еврейский средневековый писатель Иосиф бен Горион (IX–X вв.), перечисляя имена потомков Иафета, говорит, что «Руси живут по реке Кира; Мешех (Мосох) – это Шибанени»2205. Как свидетельствует исследователь средневековой письменности своего народа А. Я. Гаркави, еврейский путешественник Петахия именем Мешех называл хазар; а позднейшие еврейские писатели обозначали этим названием Россию (Московию)2206.
Сжатый очерк изменения содержания имени Рос-Мосоха, Гога и Магога дает в энциклопедической статье С. С. Аверинцев: «Иудейская ученость эпохи эллинизма и Римской империи отождествляла Магога (соответственно Гога и Магога) со скифами (наприм., у И. Флавия)… византийцы сопоставляли Гога, князя Роша, с русскими («Рош» транскрибируется по-гречески как Rёs); с XIII в. Гог и Магог ассоциировались с татаро-монголами»2207.
Непосредственный перенос наименования потомков Мосоха на себя был осуществлен польскими хронистами. Еще в XV в. Ян Длугош (1415–1480) упоминает лишь о Мосохе из Каппадокии, сыне Иафета Каппадокийского, следуя, таким образом, за Иосифом Флавием2208.
Но уже в XVI в., с появлением сарматской теории происхождения славянских племен, генеалогия их от Мосоха становится ее составной частью. Первым, по мнению А. Н. Робинсона, признал ее Мартин Бельский (ок. 1495–1575), хроника которого вышла в свет в 1551 г.2209 Она произвела впечатление и на С. Сарницкого, первое издание Анналов которого относится к 1587 г.2210
Наиболее полно собрал и обобщил все легендарные и письменные свидетельства о Мосохе, мосхах и Москве польско-литовский историограф Мацей Стрыйковский (1547 – после 1582). Для этого он привлек сочинения Бероза, Ксенофонта, Геродота, Птоломея, И. Флавия, Плиния, Тацита, Страбона, «Древности Библии»; «новейших» историографов – Кадлубка, Анонима Галла, Длугоша, Кромера, Меховского, Мартина Бельского и множество других (еврейских, халдейских, греческих, латинских, польских, немецких, итальянских и чешских). Впервые его «Хроника Польская» была напечатана на польском языке в Кенигсберге в 1582 г. Как установил автор единственной отечественной монографии, о М. Стрыйковском А. И. Рогов, в течение 1668–1688 гг. эта хроника частично или полностью переводилась на русский язык четыре раза, причем особым вниманием пользовались 1–3-я главы четвертой книги, посвященные истории Руси и славян. В них М. Стрыйковский и называет патриарха Мосоха отцом всех славянских народов, потомки которого Рус, Лех и Чех стали родоначальниками отдельных племен2211. Хотя эта хроника и по сей день не издана по-русски, она повлияла на последующие произведения Т. Каменевича-Рвовского, А. А. Манкиева, В. Н. Татищева, В. К. Тредиаковского, М. М. Щербатова, «Синопсис» И. Гизеля2212.
Примерно в это же время, в 1588–1589 гг., Россию посетил английский посол Джильс Флетчер, книга которого «О государстве Русском» вышла из печати в 1591 г. (русский перевод 1906 г.; изд. 1911, переизд. 2002 г.). В ней он также, ссылаясь на халдейца Бероза, повторяет генеалогию Москвы от Мосоха. По его пересказу, Нимврод (Сатурн) послал Ассира, Меда, Моска и Магога в Азию для основания там колоний, и Моск действительно основал их не только в Азии, но и в Европе. Флетчер счел достойным, вероятным мнение, что река, а от нее и город Москва получили свои имена от этого Моска. Между тем, как справедливо указывает исследователь сочинения «О государстве Русском» С. М. Середонин, работа, на которую ссылается Флетчер, не подлинное сочинение Бероза, а подделка, изданная в 1510 г., где в пятой книге есть подобное известие2213.
Современный историк М. В. Алпатов подтверждает этот вывод своего соотечественника, сделанный уже почти век назад: «Во времена Флетчера имела хождение книжечка, в которой были собраны фантастические сведения из древней истории, в том числе и отрывки из Бероса; Флетчер, ссылавшийся на Бероса, познакомился с ним именно по этой книжечке; отсюда он взял и название Москвы от Мосоха. Кроме того, Флетчер пользовался известным сочинением Мартина Кромера «О происхождении и славных делах поляков» (1555). Но он читал лишь отрывки из книги Кромера, иначе… он не мог бы не заметить, что Кромер отвергал происхождение названия Москвы от имени Мосоха»2214.
После воссоединения Украины с Россией теория «Москва – Мосох» начинает проникать и в московскую историографию через сочинения писателей-южноруссов. Так, Михаил Лосицкий во введении к Густынской летописи (1670), основанном на польских источниках, утверждает: «От Мосоха… наш народ словенский изыде и Мосхинами, сиесть Москвою именовася и от сея Москвы все сарматы Руси, Ляхи, Чехи, Болгаре, Славяне изыдоша»2215. Ему вторит и изданная в 1672 г. «Кройника» насельника киевского Златоверхого монастыря Феодосия Софоновича: «…взяла теды Москва имя свое от Мосоха»2216.
Мосох в русской историографии
Первое свидетельство восприятия в России теории «Москва – Мосох» исследователь отечественного летописания А. И. Попов находит в так называемом 3-м разряде 3-й редакции русского хронографа (из 12 списков, бывших доступными ученому, самый ранний относился к 1661 г.). А. И. Попов пишет о них так: «Все русские статьи… до царствования Феодора Ивановича дословно выписаны из краткой редакции Хронографа, но им предпосланы две новые баснословные… Несмотря на свою вымышленность, обе они небезынтересны в историко-литературном отношении, как порождение того вредного влияния исторической Польской литературы, которое так сильно было у нас во второй половине XVII в. Первая из них озаглавлена “Выписано на перечень из дву кроник Полских…”. Сличив эту статью с Польскими Хрониками XVI и XVII вв., приходим к убеждению, что под двумя Хрониками Польскими следует разуметь М. Стрыйковского… и М. Бельского… По этим двум Хроникам русский компилятор и составил свою статью, по которой Славянский народ выводится от Мосоха, сына Афетова, принимает участие в Троянской войне, получает грамоту от Александра Македонского, разоряет Рим и т.п. Русских вымыслов здесь нет, и вина на существующие падает на одних Польских хронистов. Хроника Стрыйковского известна была и в русском переводе XVII в., впрочем, нужно допустить, что компилятор наш пользовался польскими оригиналами, по крайней мере грамота Александра Македонского приводится на польском языке, хотя и русскими буквами и притом дословно, согласно с Польской хроникой Бельских»2217.
Вот основные положения этих новых статей хронографа: «Выписано на перечень из дву кроник Полских, которые свидетелствованы з Греческою и з Чешскою и с Угорскою кроникого многими списатели, от чего имянуется великое Московское государство и от коея повести Словяне нарекошася и почему Русь прозвася.
О сем убо давный халдейский философ Беросус пишет, яко от седмаго сына Афетова от Мосоха изыде Словенский народ, Еврейски же и Халдейски именуется от Масху(и)ния, сына Афетова. От них же мнози народы: Русь, Печерцы, Болгары, Сербы, Хорваты… И потом мнози древнии философы истинно уверяся от писания и во всех крониках сице описуют, яко от Мосоха, сына Афетова, изыде толик народ; по сем убо нарицается Москва, яко от Мосоха и приселницы суть от Чермнаго моря приидоша на место между Днепра и Дона и седоша в лесех, идеже река ныне зовомая Москва. Прежде бо не именовашеся тако река сия, но по вселении их и от их имяни прозвася».
Далее следует повесть о заселении потомками Мосоха земель от Вислы до самого Белого озера: «…вся же сия места поседоша едина Мосохова колена, аще и разноимяны, но вси един Московский народ». Потом помещена написанная по-польски русскими буквами подложная грамота Александра Македонского, и вновь речь возвращается к Мосоху: «Истинный же столп языка словенского в Московской земли, глаголаша прямо от размещения языка прияша прадед своих, и болшим именем страна та нарицашеся, понеже изыде корень от Мосоха, по Еврейску же и Халдейску от Мосхиния, сына Афетова; по сему убо тако имя нарицашеся Московия, и письмена Словенския еже от Кирилла изведено и сими писаху Московия, тако яже и язык прадеден глаголаху. И Чехи и Ляхи сии язык глаголаша, но не истинно, изменено много от Немец и Латинского языка множество словес их… старейшее же имя словенского народа Московия именоватися, иже от Мосхиния, сына Афетова, еже в Библии описуется Мосох»2218.
За этим безымянным хронистом следует и уже знакомый нам Тимофей Каменевич-Рвовский, который назвал свой труд так: «Историчествующее древнее описание Кенсемира Кифича Рвовского о начале Славенороссийского народа и градов Москвы, Новаграда Великаго и протчих, писанное собственною ево рукою вчерне лета мироздания 7207 году», т.е. в 1699 г. Он несколько более витиеват, но столь же уверен: «Ною же праведному внука суща бывша, именем Месеха, или рещи, Мосоха; сей же убо Мосох, егда отдоися и совозрасте, бысть муж крепкорукий и вытяганец л укос ильный… патриарх бо он быв первый той и отец наш князь Великий Мосох Иафетович и господарь всем нам»2219.
Еще подробнее о Мосохе распространяется «Синопсис», приписывающийся ученому архимандриту Иннокентию Гизелю, изданный впервые в 1674 г., затем неоднократно перепечатывавшийся и длительное время служивший самым доступным пособием по отечественной истории. В начале его находится глава «О Мосохе прародителе Славено-российском и о племени его», сопровождаемая прямыми ссылками на Стрыйковского: «Мосох шестый сын Афетов внук Ноев, толкуется же от Еврейска Славенски “вытягающий и растягающий” от вытягания лука, и от расширения великих и множественных народов Московских, Славенороссийских, Польских, Волынских, Чешских, Болгарских, Сербских, Карвацких и всех обще, елико их есть, Славенский язык природне употребляющих. Той бо Мосох по потопе лета 131, шедши от Вавилона с племенем своим, абие во Азии и Европе, над берегами Понтскаго или Чернаго моря, народи Мосховитов от своего имене и осади: и оттуда умножшуся народу, поступая день от дне в полунощныя страны за Черное море, над Доном и Волгою реками, и над озером или отногою морскою Меотис, идеже Дон впадает, в полях широко селеньми своими разпространися, по свойству и истолкованию имени отца своего Мосоха. Ибо яко Афет толкуется разширение или расширителен, тако подобие сказуется и Мосох растягающий и далече вытягающий. И тако от Мосоха праотца Славенороссииского, по последию его, не токмо Москва народ великий, но и вся Русь или Россия вышенареченная произыде, аще в неких странах мало что в словесех и пременися, обаче единым Славенским языком глаголют».
В другой главе – «О наречении Москвы, народа и царственнаго града» – следует ссылка уже на М. Кромера: «Москва народ от Мосоха праотца своего и всех Славенороссов, сына Афетова. А царствующий град Москва от реки Москвы… Наречение сие Москва, от имени праотца Мосоха изшедшее, аще оно и издревле вестно древним летописцам бе, обаче на мнозе и в молчании пребываше; ибо когда трие братия Князи Варяжстии… Россиею обладаша, тогда Россами или Русаками звахуся… Москва бо град над рекою Москвою от имени ея нареченный, первее из древа создан бысть и незнатен, даже до Великого Князя Иоанна Даниловича, иже престол княжения от Владимира града в Москву град пренесе.
И тако величеством славы престола княжения от Владимира града пренесеннаго, Богоспасаемый град Москва прославися, и прародительное в нем имя Мосоха в народе Российском обновися, еже неувядаемою в веки памятию процветая…».
В третьей главе – «О народе Русском или, свойственнее, Российском, и о наречении или названии его» – вновь со ссылками на М. Стрыйковского рассмотрены несколько преданий о происхождении имени русских: от городка Роси близ Невы, от реки Роси, от русых власов… «Но паче всех тех подобий достовернее и приличнее, – высказывает собственное мнение Гизель, – от рассеяния своего, Россы имя, от древних времен себе стяжаша. Ибо на широкой части света, по многим различным странам, иные над морем Черным Понтским Евксином; иные над Танаис или Доном и Волгою реками; иные над Дунайскими, Днестровыми, Днепровыми, Десновыми берегами, широко и различно селенми своими рассеяшася. Тако вси древнии летописцы Греческие, Российские, Римские и Польские свидетельствуют. Наипаче и Божественное писание от пророчества Иезекиилева, во главе 38 и 39, имя тое Россов приличие изъявляет, нарицающе князя Росска, Мосох и прочая. И тако Россы от рассеяния своего прозвашася, а от Славянов именем точию разнствуют, по роду же своему едино суть, яко един и той же народ Славенский нарицается Славеноросский, или Славнороссийский»2220 (вопрос о принадлежности Синопсиса И. Гизелю считается до конца не решенным; по крайней мере достоверно известно, что он был его редактором).
Под влиянием Стрыйковского пишет и историограф Царя Федора Алексеевича († 1682 г.): «Довод: от святаго писания и от розных языков и историков, что от Мосоха Москва имя свое получила»2221. О том же ясно свидетельствует собственно заглавие другой рукописи конца XVII в.: «Повесть известная, со свидетельством многих историков, о многословутном граде Мосхве, яко таковое звание прия от Мосоха»2222.
Официозное признание, по мнению А. Н. Робинсона, теория «Москва – Мосох» получила при Петре I, когда по его личному указанию в Амстердаме в 1699 г. было издано «Введение краткое во всякую историю…», в котором прямо сказано: «Москва река паче всех рек прославися, зело и именем Мосоха, праотца Российского, и пресветлейшим престолом пресветлейшаго и великаго монарха»2223.
Куда осторожнее говорит об этом предмете в «Летописи» святитель Димитрий Ростовский: «Еще же и Москве, и прочиему русскому народу, и всему славенскому языку от Мосоха произыти глаголют многи, якоже и святый пророк Иезекииль именно Мосоха, князя быти Руска, рече»2224.
Генеалогию Москвы от Мосоха поддержал поэт и ученый В. К. Тредиаковский в «Трех рассуждениях о трех главнейших древностях российских…», вышедших в свет в 1758 г.: «Пускай же, по-моему, будет оно двухсотлетнее токмо у поляков; да что из сего в том? Поляки были первыми, кои сие мнение разгласили» – и потому они «всякаго, по моему ж, приятия достойни за сие»2225.
В начале XVIII в. приверженцем теории «Москва – Мосох» выступил в «Ядре российской истории» А. А. Манкиев: «Мосох или Месех был патриарх и родоначальник народов Московских, Русских, Польских, Волынских, Чешских, Мазоветских, Болгарских, Сербских, Кроатских и прочих всех, которые обще Словенский язык употребляют… По времени сии народы, произошедшие от Мосоха, ради смешения иных народов и рубежности, или для различных туда и инде походов и войн, старое свое название пренебрегше, звани и писаны были от князя своего Русса, которой от Мосоха произведение свое вел… и держава их Россия. От той великой славы сии Мосоховы наследницы… Славянами прозваны были»2226.
Но кое-кому в местнической гордости уже и происхождения от Мосоха было недостаточно. Так, когда во второй половине XVIII в. Г. А. Полетика привез в Петербург с Украины «Историю руссов», приписывавшуюся тогда Григорию Конисскому, там еще значилось, что все славяне зовутся «…по князю Мосоху, кочевавшему при реке Москве и давшему ей сие название, московитами или мосхами»2227. Но уже в 1710 г. Григорий Грабянка, казачий полковник, в отличие от потомков Мосоха – москалей, происхождение казачьего племени выводил от первого сына Иафета – Гомера2228. Налицо прекрасный пример того, как спесь принимает размах прямо-таки гомерический…
В том же XVIII в. теория «Москва – Мосох» совершила обратное путешествие на юго-восток Европы, откуда в свое время и пришла к нам. В составленной в 1762 г. «Истории славеноболгарской» Паисий Хилендарский пишет в частности, что когда Ной делил землю между тремя сыновьями, то Иафету заповедал населить Европу. Сына Иафета звали Мосхос: «На негово племя пал и разделил ся Мосхосов род». Потомки Мосхоса «…пошли на полунощна страна, где е сега Московска земля». По имени «Мосхоса, прадеда своего», они назвали реку «Москва, а по нея и село» и «нарекли ся москами»2229.
У южных славян сторонниками «Москвы – Мосоха» выступили в XVIII в. также историограф Йован Раич (1794–1795) в «Истории разных славянских народов»2230 и на основании Гизелева Синопсиса болгарский иеросхимонах Спиридон (1792)2231. В России в самом конце того же столетия ее поддержали в свою очередь поручик П. Захарьин в «Новом Синопсисе»2232 и издатель «Подробной летописи» Н. Львов2233.
Известный немецкий ориенталист И. Гаммер-Пуршталь (1774–1856) в сочинении «О происхождении русских», выпущенном в 1827 г. в Петербурге на французском языке, приводит несколько древних текстов восточных писателей, в частности, арабского историка Айни (1451), который упоминает Гога, Магога и Монсока, делая на этом основании предположение, что Рос жили у Аракса, а Мосох – это народность месхи, переселившаяся на Волгу. Однако никаких доказательств тождества Рос-Мосохов с русскими в его сборнике нет2234.
Довольно любопытно восприятие теории «Москва – Мосох» масонами и скопцами. Осуществлявший непосредственную связь между ними в начале царствования Александра I камергер польского происхождения Алексей Еленский, следуя поветрию «дней александровых прекрасного начала», подал Императору проект… преобразования всего государства в скопческую коммуну. Во главе ее должны были стать особый советник на положении Патриарха при Царе и бюро из двенадцати главных пророков. Во всех армейских полках, на каждом военном судне и в городах полагалось по пророку чином ниже; скопцам предназначалось и руководство Церковью, а поскольку каноны издревле запрещают занимать священные должности «каженикам», их предписывалось посвящать через прямой обман. И все это затеяно было, как особо отмечено в предисловии к записке Еленского, «…на возвышение возлюбленного отечества, Рос-Мосоха именуемого»2235.
В 1879 г. сторонником теории о Мосохе выступил проф. А. А. Некрасов в исследовании «Место первоначального обособления славянского племени…»2236.
Мосох в историографии XX века
Выпущенное в 1914 г. в Вильне «Пятикнижие Моисеево» (оно же не так давно было воспроизведено фототипически в культовых целях и распространялось официально через Московскую хоральную синагогу) в примечаниях на Толедот (родословие сынов Ноя. – Быт.10) к имени Мешех дает следующее толкование: «…а) Мосхи, жившие между Черным и Каспийским морем (ср. напрягающие лук: Ис. 66:19); б) Некоторые ориенталисты разумеют под Мешех Московию, а под Рош-Мешех (Иез.38:2–3) Русь Московскую». Далее приведено еще предположение, что предшественник Мешеха в Толедот Тубал (Фовель) дал имя уральской реке Тоболу и названному по ней городу.
В советской науке поддерживать в той или иной мере мнение о происхождении имени Москвы от Мосоха склонны были академик Н. Я. Марр2237 и Н. И. Шишкин, автор появившейся в 1947 г. статьи «К вопросу о происхождении названия “Москва”»2238.
И, наконец, некоторые современные зарубежные ученые сочли возможным рассматривать отождествление русских с сатанинским воинством Гога и Магога в качестве общепринятого. Несколько туманно, хотя вполне развязно, пишет об этом профессор Гарвардского университета Ричард Пайпс, бывший в 1981–1982 гг. сотрудником Совета национальной безопасности США, где он ведал вопросами Восточной Европы и СССР. В своей книге «Россия при старом режиме» Пайпс утверждает, будто после крушения Золотой Орды и Византии на Руси среди темного народа пошли фантастические легенды, связывающие деревянный по большей части город на Москве-реке со смутно понимаемыми событиями библейской и античной истории2239.
Читателю становится вполне ясно, кто и почему на самом деле видится за «темным народом», по одному из самых распространенных изданий протестантской Библии, неоднократно выходившему на разных языках и снабженному примечаниями целой коллегии в 30 «эрудитов». В комментарии на Толедот они в целом следуют виленскому Пятикнижию: «Многие думают, что Россия соответствует странам обитания Магога, Тубала и Мешеха», опять-таки от племенного прозвания Тубала производя сибирский Тобольск. Поясняя смысл появляющегося у Иезекииля в гл. 38–39 Гогова полчища, они и вовсе прямо говорят: «Намек на северные державы Европы во главе с Россией… Гог – это, очевидно, князь, Магог – страна. Россия и северные державы в продолжение долгого времени были гонителями рассеянного Израиля. После их попыток истребить остаток Израиля в Иерусалиме – уничтожение их вполне отвечает и божественному правосудию, и его заветам одновременно. Все это пророчество касается грядущего “Дня Господня”». А если кто-то невзначай пропустит это ценное разъяснение, для него в конце книги в именном указателе помещена нарочитая подборка текстов, которые рассматриваются в качестве пророчеств о будущем отдельных стран. И, конечно, для «России в пророчестве» избран пресловутый стих: Иез.38:22240 …
Вот так и оказались мы – и, следует признать, не без собственного содействия, – не то что империей зла, а попросту воинством дьявола; и чтобы понять вывод, следующий из этого определения, вовсе не требуется смотреть заокеанский боевик – ведь библейская символика не первую тысячу лет является на свете наиболее распространенной. Но невольно напрашивается недоуменный вопрос: неужели же все с этим диким отождествлением согласны? Были ли у него противники?
Москва против Мосоха
Конечно, не все. Разумеется, были. Причем не только в нашем отечестве, но и за его рубежом.
Противником произведения славянских корней от Мосоха выступил гуманист и противник Реформации епископ Вармийский Мартин Кромер (1512–1589). В его хронике, доведенной до 1506 г. и изданной в 1555 г. в Базеле, опровержение этой генеалогии излагается на первых страницах2241.
В русском летописном сборнике конца XVII в. рассказ И. Гизеля о Мосохе решительно отвергается: «Это у него в летописце напечатано не против божественного писания и старых древних летописцев, своим изволом, к похвале Мосоха и Москве реце. Буди то от его [Мосоха] родов вся Словенская и Русская [земля] распространилася, несть сие полезно и не праведно… А о сем Мосохе ничто же бысть в Писании… ни о части его в Руссийские земли… до 182 года»2242, т.е. до первого издания Синопсиса в 1674 г.2243
Татищев в «Истории Российской» вину изобретения теории о Мосохе возлагал целиком на поляков, которые сперва при татарах отказывались даже признавать за русским князем титул Великого, но потом, в XVI в., «…как они сего силою удержать не могли, то они употребили лестное коварство ко прельщению, стали в историях выводить, якобы сие имя от Мосоха сына Афетова произошедшее…», и затем приходил к такому обобщению: «Происхождение народов, хотя следуя письму святому, то есть Библии, не иначе, как от Ноя и сынов его произошло, но чтоб далее, от которого сына который народ, кроме имянованных у Моисея, верно и безсумненно сказать можно было, я не берусь. Правда, что Берозус, Иосиф Флавий, яко же и другие, Библию, равно как ковер Милитрисы, употребляют и на все, что токмо хотят, натягивают»2244.
В середине XVIII в. отрицательно относились к версии о Мосохе перешедшие на русскую службу академики Т.-З. Байер и Г. Ф. Миллер. М. В. Ломоносов, хотя и спорил по этому поводу с Миллером, сам, однако, от высказывания в пользу достоверности теории о Мосохе уклонился: «Мосоха, внука Ноева, прародителем славенского народа ни положить, ни отрещи не нахожу основания. Для того оставляю всякому на волю собственное мнение, опасаясь, дабы Священного писания не употребить во лжесвидетельство, к чему и светских писателей приводить не намерен»2245.
Против одобрения теории кн. М. Щербатовым, заявленного в его «Истории», в конце XVIII столетия выступал И. Болтин, который в своих замечаниях на этот труд подчеркивал: то, что Мосох был сыном Иафета – несомненно, однако думать, будто от него именно пошли Москва и весь русский народ – «есть невероятно»2246.
Столетие спустя А. И. Кирпичников называл известия о Мосохе «…образцом фантастики, то живой и остроумной, то педантически нелепой», отмечая в заключение: «Я оставляю в стороне эти измышления книжников»2247. Третировал в своей «Истории города Москвы» «…наивные сказки о Мосохе» и И. Е. Забелин2248.
Наконец самое авторитетное в дореволюционной библеистике 12-томное издание «Толковая Библия», вышедшее в 1904–1914 гг. под редакцией А. П. Лопухина и преемников, дает наиболее полную сводку известий древних историков и делает заключение, с которым нам в основном представляется возможным согласиться. Приведем выдержки из него:
«ФУВАЛ, МЕШЕХ. – Как в книге Бытия, так и в других местах Священного Писания эти два народа обычно соединяются вместе и изображаются данниками Магога (Иез.38:2, 39:1). Однажды, впрочем, они соединяются с Иаваном (Иез.27:13) и еще в двух местах местожительство их определяется на севере Палестины. В анналах ассирийских царей нередко упоминаются Muski и Tabal в качестве двух соседних народностей, населяющих Киликию; а Геродот говорит о Тибаренах или иберианах (иберийцы) и мосхах, живших по соседству с Колхидой. Ученые полагают, что первоначально обе данные народности обитали в верховьях Тигра и Евфрата, между Мидией и Скифией, т.е. в Колхиде и Иберии, расположенных на юге современного Кавказа (Фувал – предположительно иберы или грузины). Мешех – греч. Mosxoi – на севере Малой Азии, упоминаются впервые Гекатеем Милетским; в персидском царстве Мешех и Фувал принадлежали к 19-й сатрапии (Геродот III, 9; VII, 78)…
РОШ – по-еврейски “голова”, “главный”, как и переведено в Вульгате вместо “Рос, Мосоха” – “главный князь Мосоха”. Но в переводе 70-ти толковников и всех других древних переводах “Рош” считается собственным именем. Библия не знает такого народа. Сопоставляют с ним ROS византийских и восточных писателей X в. (ср. также: “Рос” Корана*), называющих так скифский горный город у арктического Тавра или у Черного моря и Волги, т.е., очевидно, нас, русских. Против такого отождествления Генсенберг (Гезениус) заметил (будем признательны ему), что “русские не могут быть помещены между врагами Царства Божия”. Сопоставляют также с роксоланами Плиния (Hist. Nat. IV, 12) и Птоломея (III, 5) и “Раси” клинописных надписей, которых нужно искать на западной границе Елама у Тигра. Во всяком случае тоже (как Гог и Магог) – народ отдаленнейшего Севера и страшный своею неизвестностью.
Если Рош-Мешех и Фувал – это скифы, то пророк мог иметь в виду тот большой поход скифов в переднюю Азию, о котором рассказывает Геродот (1, 103 и след.; ср.: IV, 11 и след.) и на который, кажется, не раз указывает кн. Софонии и Иеремии IV–VI. В Пс.119, 5 Мешех означает варваров отдаленнейшего Севера, а несомненно, что скифы жили тогда между Черным и Каспийским морями. По Геродоту, они грабили Переднюю Азию в течение 28 лет и опустошили ее страшно.
ГОГ. – У Иезекииля впервые употреблено это страшное своей новизной и поражающее краткостью и энергией имя, причем он, может быть, сопоставил его с созвучным именем Магог, одним из самых северных народов, чтобы обозначить этим редким и малознакомым именем всех новых врагов Израиля отдаленного будущего, которые появятся с самых отдаленных частей всегда враждебного иудеям Севера, откуда надвинулась на них и последняя катастрофа – плен, откуда вышли и все враги Израиля (Ассирия, скифы, Вавилон, персы), – и, появившись оттуда, получит с Юга сильные вспомогательные войска, благодаря чему как бы весь мир обрушится на Израиль.
МАГОГ. – У Иезекииля представители этого племени выступают в качестве искусных и опытных стрелков (38, 16; 39, 3), а само оно помещается несколько севернее Гомера. Ввиду этого большинство склонно видеть здесь указание на скифов… На судьбе скифов исполнилось и пророчество Иезекииля о погибели их в долине Хамон-Гога, когда они потерпели страшное поражение в области Палестины от войска Псамметиха, и от развившихся у них повальных болезней, как свидетельствует об этом Геродот (1, 105–106)»2249.
Как видим, библеистика склонна в большинстве своем считать предсказание Иезекииля сбывшимися до нашей эры и в особенности на скифах; по крайней мере серьезных оснований для отождествления Мосоха с русским народом она не признает. Остается, впрочем, гадательным облик Гога и Магога в грядущем, как он символически изображен в Апокалипсисе. И тут нам очень хотелось бы знать мнение главного знатока теории «Москва – Мосох» А. Н. Робинсона. Но в этом отношении он хранит загадочное молчание – как будто бы, описавши историю толкования образа в средневековом общественном мнении, он позабыл заглянуть в Библию, чтобы узнать – кто же таков этот столь занимающий его Мосох и что ему написано на роду. А в отсутствие серьезной научной разработки отвержение журналистом В. Большаковым в еженедельнике «За рубежом» существования в США боязни апокалипсиса, «…который придет из мифической земли Рос, ассоциируемой с Россией»2250, выглядит по меньшей мере голословным.
Мосох и Филофей
Тут возникает простой соблазн списать нелепую генеалогию если не на поляков, то на недостаточную образованность и легковерие предков. Однако даже и последний невежда прошедших времен поостерегся бы назвать своим родоначальником, скажем, Иуду или Каина, а тем более уж самого древнего из числа отверженных – сатану.
Дальнейшее направление поисков подсказывает одно уже дважды упоминавшееся замечание Т. Каменевича-Рвовского, который в послании к Кариону Истомину, озаглавленном «Божий град» (1680–1681), говорит: «Писана быша сия не во Италии, святем старом и ветцем Риме, ниже в Палестине, святем Иерусалиме, но во велико-славном нашем словено-российском государстве, третьем Риме Московском царстве…»2251. Это указание дает, на наш взгляд, возможность отодвинуть время принятия на Руси происхождения от Мосоха с середины XVII в. более чем на столетие назад и связать воедино две теории «Москва – Мосох» и «Москва – Третий Рим».
Прислушаемся к ключевому предложению второй из них, сформулированному в главном произведении старца псковского Елеазарова монастыря Филофея «Послание Мисюрю Мунехину на звездочетцев» (ок. 1523): «… вся христианская царства приидоша в конец и снидошася во едино царство нашего государя, по пророческим книгам, то есть росеское царство: два убо Рима падоша, а третий стоит, а четвертому не бытии»2252. Тут важно каждое слово; обратим сперва внимание на странное название нашего царства – росеское.
Во всех прежних изданиях, за исключением последнего, из которого мы здесь сделали точную выписку, вместо «росеского», писалось или «российское», или «ромейское». В. В. Колесов, издавший вышеназванное послание по старейшей рукописи первой половины XVI в., в цитируемом нами томе «Памятников литературы Древней Руси» делает к загадочному определению такое примечание: «Может быть, игра слов: в пророческих книгах говорится о ромейском царстве»2253. Соображение малоубедительное – в книгах ветхозаветных пророков речь о Ромейском царстве не заходит впрямую ни разу.
Исследовавший послания Филофея с точки зрения текстологии А. Л. Гольдберг считает слово «росейское» или «росийское» ошибкой переписчиков – вместо опять-таки более правильного, с его точки зрения, «ромейского» царства. Но именно в исследовании он показывает, что и самые древние редакции содержат определение «росейское» (в их числе он называет и ту рукопись из РНБ под шифром Q XVII. 15, переписанную в 40–50-х гг. XVI в. в Иосифо-Волоколамском монастыре, которую впервые издал В. В. Колесов)2254.
Здесь мы рискуем предложить следующее толкование: «росеским» – по «пророческим книгам» – царство наше названо в соответствии со словами книги пророка Иезекииля о Рос-Мосохе. И основанием для него служит не только не известное более нигде искажение «российского» в «росеское». Именно при жизни Филофея в той самой епархии, к которой принадлежал Елеазаров монастырь, при новгородском владыке Геннадии был завершен полный перевод на славянский язык всего корпуса Библии. По этому переводу она и была в 1581 г. впервые издана в Остроге, а затем с этого знаменитого острожского издания в 1663 г. при царе Алексее Михайловиче напечатано и первое внутри России. Так вот, во всех этих изданиях в пресловутом стихе Иезекииля 38, 2–3 допущено сознательное искажение: «Рош, Мешех» переведено не как в католической Вульгате «главный князь Мосоха» (известно, что сотрудниками Геннадия были два доминиканца славянского происхождения, с помощью которых работа и была завершена к 1499 г.); здесь мы с удивлением видим даже не «князя Рос», а прямо «князя Росска»! Подобная подгонка не имела под собой уже и вовсе никаких оснований, кроме вожделений самого переводчика; и неслучайно во всех последующих переизданиях славянской Библии, начиная с Елизаветинской, самочинное «Росска» исправляется вновь на «Рос» с подстраничным примечанием «Евр.: Рош, Славен.: глава или главнейший».
Так что кажущееся совпадение – возложение на себя «достоинства» Мосохова потомства совпадает с первым отчетливым заявлением о готовности признать Москву Третьим Римом – вовсе и не совпадение.
Вернемся же к приведенной выше формуле Филофея и рассмотрим допущенные в ней искажения в порядке возрастания – от меньшего к большему.
Сразу вслед за утверждением, что «четвертому не бытии», следует ложная отсылка: «Многажды и апостол Павел поминает Рима в посланиих, в толкованиих глаголет: “Рим – весь мир” …»2255. «Точно таких слов в дошедших до нас посланиях апостола Павла нет», – вынужден признать В. В. Колесов, и потому, по его мнению, следует понимать лжецитату расширительно, тем более, что «Рим» и «мир» – палиндром (перевертыш, читаемый одинаково с начала и с конца)2256. И вновь приходится считать его вежливое оправдание не слишком основательным, а приведенное изречение апостола Павла, попросту говоря, выдуманным.
Теперь перейдем к вопросу, почему-то многочисленными толкователями теории о «Третьем Риме» почти не замеченному. В наиболее обширном исследовании В. Малинина2257 приведено замечательное собрание текстов, которые каким-либо образом могли дать основание для учения о трех мировых царствах и наставшем четвертом, завершающем. Но, естественно, тотчас вслед возникает недоумение: уж коли последнее из этих царств, отождествляемое с Римским, имеет столицу подвижную, то почему же она не может двигаться сколько угодно? Отчего только три Рима, а «четвертому не бытии»?! И оказывается, что под это утверждение ни богословских, ни литературных оснований подвести невозможно – их нет. Единственное остроумное соображение, которое находится в этой связи в специальных и общих исследованиях предмета, содержалось в выступлении профессора М. Капальдо из Рима на VI Международном семинаре «От Рима к Третьему Риму» (Москва, 1986). В любопытном докладе «Римская идея и теория “Москва – Третий Рим” в XV–XVI вв.» – чуть ли не единственном из всех выступлений, посвященном непосредственной теме семинара, – он высказал догадку, что «четвертому не бытии» следует переводить не как обычно – «четвертому не бывать», а в смысле «дай Бог, чтобы четвертого не было!». Соображение, конечно, скорее красиво звучащее, нежели верное, – но в любом случае это единственное оправдание данного положения Филофея.
Ветхий Рим и старый Иерусалим
И, наконец, главное и краеугольное недоумение: почему все-таки образцом избран был Рим? Языческий Рим, сколь-нибудь положительное отношение к которому начисто отсутствует в новозаветной традиции, имеющей совершенно иной и вовсе не чувственный идеал «Нового Иерусалима»?
Вера в «вечность Рима» и бесконечность его царствия над землею действительно была одной из важнейших составляющих частей римского язычества. Именно под впечатлением ее крушения современник падения Рима, взятого и разрушенного готами Алариха, исповедовавшего христианство арианского толка, Аврелий Августин создал в V в. н.э. знаменитое учение о двух градах: граде «богов» Риме и Граде Божием, ничего общего с ветхим Римом не имеющем2258.
Для первых христиан Рим отождествлялся с апокалиптической блудницей, сидящей на звере, имеющем семь голов, «матерью блудницам и мерзостям земным», упоенной «кровью святых». Образ ее толковался в той же 17-й главе Откровения Иоанна Богослова: «Жена же, которую ты видел, есть великий город, царствующий над земными царями», а «семь голов», на которых сидит жена, «суть семь гор». Современные комментаторы согласны в том, что черты этого описания заимствованы из исторической действительности языческого «семихолмного» Рима2259. Но языческий Рим есть только прообраз грядущей великой державы зверя и яростной, но тщетной борьбы ее с Агнцем2260.
Образ, конечно, для правоверного человека русского Средневековья отнюдь не привлекательный. Но при ближайшем рассмотрении исторические обстоятельства, в которых складывалась теория «Москва – Третий Рим», оказываются весьма далеки от правоверия.
Псковская земля была колыбелью первого широкого еретического движения на Руси, начавшегося в XIV в. – стригольничества, остатки которого продержались во Пскове до 30-х гг. XV в.2261 При жизни Филофея, в конце XV – первой трети XVI в., еще вовсю полыхали страсти, вызванные второй волной еретичества – жидовствующими. Эта была занесена в Новгород заезжим торговцем Схарией (князем Таманского полуострова Захарией Скарой2262) и, распространившись впоследствии на Москву, проникла даже в великокняжеский дворец. Внешние формы ереси порой доходили до предела кощунства – жидовствующие иконы считали идолами и потому топили в отхожих местах2263, а чрезвычайно распространенный среди их приверженцев содомский грех современные ученые склонны считать уже не распущенностью нравов, а «ритуальным действом»2264. По вероучению жидовствующие относились к иудаистам2265.
Знаменательно, что как раз принадлежавший к числу тайных сторонников ереси жидовствующих митрополит Московский Зосима, удаленный затем с кафедры за бесчинство и содомский грех, первым в своем извещении о Пасхалии на восьмую тысячу лет назвал Великого Князя Ивана Васильевича новым Царем Константином – «новому граду Константину Москве»2266. Ересь в конце концов внешне была подавлена, но отнюдь не скоро вывелся посеянный ею плод. Недаром автор особого исследования «Русь – Новый Израиль: Теократическая идеология своеземного православия в до-Петровской письменности» Н. Е. Ефимов2267 подчеркивал, что сторонники учений, подобных теории «Москва – Третий Рим», вдохновлялись «…мистической фикцией, окружающей Русь ореолом ветхозаветного богоизбранного еврейства и вполне гармонирующей с их представлением о ней как о народе Божием, одиноком хранителе заповедей и откровений Господа»2268.
К несколько резкой формулировке дореволюционного исследователя следует, на наш взгляд, сделать в свете рассмотренного материала существенную оговорку. В теории «Москва – Третий Рим» встретились два религиозно-политических учения, возникших до нашей эры и уже никак не отвечавших новой действительности. Это были, образно говоря, коль скоро речь у нас идет о городской символике Средневековья, старый Иерусалим и ветхий Рим, воплощавшие в зримом образе идеал избранного народа и всемирного царства, а потому их соединение следует определить более точно как учение об избранном царстве.
Занесенное с запада или востока поверие никак не смогло бы укорениться на отечественной почве, не найди оно тут благодарного приема у того человеческого свойства, которое издревле почитается корнем всех прочих пороков – гордости. И покуда шла открытая борьба с новоявленной ересью со стороны церковной и гражданской властей, самый дух ее, куда более тонкий, нежели грубая внешняя форма, потихоньку овладевал нетерпеливыми умами.
В этом отношении показательна как раз та обитель, где был иноком создатель учения о «Москве – Третьем Риме» Филофей, – Спасо-Елеазаров Великопустынский монастырь, вопреки обыкновению названный не по монашескому, а по светскому имени основателя его преподобного Евфросина, в миру Елеазара. Вольное обращение со священными текстами, свойственное Филофею, было здесь отнюдь не единичным явлением. Как раз во время жительства в монастыре старца Филофея здесь была создана первая редакция жития основателя обители Евфросина (1510) – собственно даже не житие, а облеченный в форму жития трактат в защиту так называемой сугубой аллилуйи, в который сочинитель не стеснялся подверстывать и изобретенные им в «обоснование» своего заблуждения чудеса. Любопытно, что эта столь впоследствии любезная сердцу раскольников и осужденная соборно в 1667 г. апология сугубой аллилуйи была составлена по повелению уже упоминавшегося Новгородского архиепископа Геннадия, одного из главных противников жидовствующих и сторонника как раз трегубой аллилуйи2269.
Следует заметить, что в окружении архиепископа Геннадия была сочинена и чуть ли не первая реплика на Филофеево учение о Третьем Риме – «Повесть о новгородском белом клобуке» – произведение, в котором безоглядная любовь к Отечеству вновь разрастается до вселенской спеси, за что оно и было также осуждено на Соборе 1667 г. как написанное «от ветра главы своея»2270.
И последний штрих к истории места жительства Филофея. Как пишет исследовательница псковской старины Н. Н. Масленникова, этот монастырь, бывший «…одним из самых богатых в Псковской земле… после присоединения Пскова к Москве… больше в летописях не упоминается»2271.
Москва против Третьего Рима
Будучи создана в кругах образованных книжников, теория «Москва – Третий Рим» так и не стала частью государственной идеологии. Даже в общественном мнении средневековой Руси она отнюдь не пользовалась всеобщей поддержкой. Напротив, с ее опровержениями выступали такие писатели, как известный борец против ересей середины XVI в. Зиновий Отенский2272; один из первых поборников всеславянского единства в XVII столетии Юрий Крижанич, который виновниками этой теории прямо называл греков2273. При этом Крижанич, как пишет исследователь историко-политических идей русской средневековой книжности А. Л. Гольдберг, «…был убежден в автохтонности русской государственности и в изначальном ее суверенитете, который не нуждался в опоре на вымышленные связи с мировыми державами… Не в уподоблении Руси Риму, а в укреплении национальных устоев великой славянской державы видел Крижанич задачу русской историграфии»2274. Гольдберг, как и большинство исследователей, стоит на той точке зрения, что государственного значения доктрина не получила из-за своего коренного противоречия действительным потребностям развития Московской Руси. На языке своего времени это внятно выразил Иван Грозный, когда в разговоре с Папским послом Антонием Поссевино ответил на предложение принять унию с Римом и получить от него помощь в завоевании Константинополя: Мы в будущем восприятия малого хотим, а здешнего государства всее вселенные не хотим, что будет ко греху поползновенно 2275. Р. П. Дмитриева пишет о том же уже в понятиях нашей эпохи: «Русское правительство нигде и никогда не применяло во внешнеполитических переговорах в XVI в. теорию “Москва – Третий Рим”»2276; В. Т. Пашуто, выступая на одном из семинаров «От Рима к Третьему Риму», состоявшемся в Риме, делает и более общий вывод – о том, что данная теория «…занимала подчиненное положение в истории политических идей XVI–XVII вв. и к концу XVII в. утратила свое политическое значение»2277.
Но самое решительное столкновение между идеями Нового Иерусалима и Третьего Рима в применении к Москве произошло в середине XVII столетия в связи с «Делом Патриарха Никона»2278. В переизданную Святейшим Никоном Кормчую2279 он поместил составленное при Патриархе Филарете известие об учреждении Патриаршества на Руси, в котором мысль о Москве как Третьем Риме в формулировке, заимствованной у Филофея, вложена в уста Константинопольского Патриарха Иеремии. Но в итоговом своем произведении «Возражение или Разорение…», написанном в ответ на обвинения, выдвинутые против него Паисием Лигаридом, Никон гневно вопрошает: «Ты говоришь: слава и честь Рима перешли на Москву. Откуда ты это взял? Покажи мне. Ты видел, что говорят деяния Отцев Константинопольского Собора [1593 г., который утвердил основание Патриаршества на Руси. – П. Я.]? Что там сказано об этом? Патриарх Московский, будучи, сравнен в чести с Иерусалимским, должен поминаться в диптихах после Иерусалимского. И мы счастливы оставаться при таком правиле и утверждении и не преступать меры…»2280. Совсем не то имел в виду Царь Алексей Михайлович, добившийся удаления Никона с Патриаршего престола, чтобы единолично взяться за осуществление собственной политической доктрины. Итоги вышли, однако, плачевными, ибо, как заключает особо занимавшийся этим вопросом прот. Л. Лебедев: «Отвергнуть духовную идею Нового Иерусалима значило избрать “Третий Рим”, то есть встать на путь земного могущества. Но одно оказалось невозможным без другого, как и полагал Патриарх Никон»2281.
При всей стремительности государственных преобразований сына Царя Алексея, Петра I, теория «Москва – Третий Рим» нашла определенное отражение и в идеологии его царствования, как показало исследование Б. А. Успенского и Ю. М. Лотмана2282.
Вместе с тем ту же концепцию дружно поддержали и наиболее непримиримые противники Никона с другой стороны – раскольники. Крайне показательное их собрание исповедания веры в «третьеримское достоинство» Москвы находится у Малинина. Вот слова попа-расстриги Аввакума: «Иного же отступления уже нигде не будет: зезде бо бысть, последняя Русь зде». Ему вторит Никита Пустосвят: «Российское царство третий Рим и отвсюду христианское благочестие в него едино собрася». Прямо ссылается на Филофея инок Авраамий: «…пишет бо святый [!] Филофей Елизарова монастыря… два убо Рима падоша, а третий стоит, а четвертому не быть». Не сговариваясь с ними, о том же твердят соловецкие старцы в известной своей челобитной: «Все благочество в твое государство едино царство собрашася и третий Рим, благочестия ради, твое государство московское царство именоваша». И так далее – поп Лазарь, дьякон Федор и проч.2283. Апофеозом раскольнического восторга по поводу этой доктрины является вышедшая на заре XX столетия книга И. Кириллова «Третий Рим: Очерк исторического развития идеи русского мессианизма»2284.
Здесь перед нами воочию яркое доказательство того, что крайности поневоле сходятся, ибо на пути абсолютистских претензии царей Алексея и Петра и поистине ветхозаветной ярости о единой букве раскольников стоял один и тот же Никон со своей идеей духовного единства, воплощенной в образе Нового Иерусалима.
И, чтобы затмить ее, потребовалось не только устранение Никона из Москвы и созданного им Ново-Иерусалимского монастыря. Нужно было произвести полную подмену корней, подмену родословия и по крови, и по духу. Памятник этой подмены дошел до нас в нескольких изводах – это так называемые «Повести о начале Москвы», созданные во второй половине XVII столетия. В них вновь после произведений Филофея встречаются совсем рядом, в одном предложении, и теория «Москва – Третий Рим», и пресловутый «праотец наш Мосох»: «Вся убо христианская царства в конец дойдоша и снидошася во едином царстве, по пророческим книгам: сей град Москва именуется Третий Рим, Москва же по званию праотца нашего Мосоха, Афетова сына, внука Ноева, яже тот Мосох племя свое во все страны расшириша и умножи»2285.
Символично, что ни 3-й разряд 3-й редакции «Русского хронографа», где впервые открыто признается наше происхождение от почтенного Мосоха Иафетовича, ни подложные повести о Москве неизвестны до 1653 г. – времени удаления Патриарха Никона из Москвы. Зато как скоро главный противник «всего кривого и колотого» был лишен сана, вся эта ложная историософия, словно дождавшись своего звездного часа, стремительно расцветает самым пышным цветом. Причем мосохова корени, третьеримского звания и даже заемных семи холмов уже недостаточно; требуется еще и чтобы Москва на образец ветхого Рима основана была непременно на крови. И крови, пролитой не за веру или спасение ближнего, а так – от блуда. В текст «Повестей о начале Москвы» вводится история о том, как жена Даниила Московского (в другом изводе – Андрея Боголюбского; оба были канонизированы, но отнюдь не за то, что навязывается читателю) «пала в смешение блуда» разом с двумя братьями Кучковичами, которые здесь, на его земле, обезглавили несчастливого мужа своей любовницы. Так что теперь, казалось бы, на полном историческом основании можно с удовлетворением заключить, что «…нашему сему Третьему Риму, Московскому государству, зачало бысть не без крове же, но по пролитии и по заклании кровей многих»2286.
Заслуги Никона и в дальнейшем попытаются предать забвению. Постараются даже стереть из памяти и его ведущее значение в восстановлении единства России и Украины, и нравственное воздействие на нерешительного Царя, и то, как он с отъездом Алексея Михайловича в армию на деле остался в Москве во главе государственного управления и спас царскую семью от чумы. Напротив, предав беспамятству идею Нового Иерусалима, где он стремился создать всеправославный очаг культуры, приклеят ему ярлык мнимого захватчика верховной власти [ну а затем, в начале XXI в., и вовсе под вывеской президентской реставрации привести к полному уничтожению монастыря Нового Иерусалима]2287.
В XIX столетии «Возражение, или Разорение…» Никона выпустит в переводе на английский В. Палмер в Лондоне2288. В 1982 г. впервые полный текст оригинала издаст Г. Вернадский за океаном, в Нью-Йорке2289. А на родине, где он вплоть до конца XX в. так и не был напечатан2290, кандидат философских наук, заведующий экспозицией Музея истории религии и атеизма Г. Прошин позволит себе, не утруждаясь ссылками и попросту голословно, почти в виде брани, заявить ста тысячам читателей его книги: «Никон грезил не о первенстве в русском “Третьем Риме” (чего он достиг), а о первенстве среди патриархов восточных и, наконец, – третья и последняя ступень – о первенстве вселенском»2291.
Раскольники и диссиденты
И здесь, по нашему мнению, самое время обратить внимание на опасный перекос, произошедший в исторической науке, изучающей политические учения Средневековья. Ф. Энгельс писал, что «…мировоззрение средних веков было по преимуществу теологическим»2292. Разбираясь с нынешними диссидентами, нельзя забывать, что понятие это также исконно религиозное. Диссидент в переводе на русский значит раскольник. Но почему-то именно сектантов и раскольников выбирают предметом своего сочувствия пишущие о Средних веках авторы. Помимо названной выше книги Г. Прошина, порой просто воспевающей гимн всякого рода средневековым диссидентам (напр., с. 144), стоит ради яркости примера также назвать работу Е. С. Варичева. В своей неуемной ретивости он сумел дойти до того, что изложил отказ Москвы от унии, принятой на Ферраро-Флорентийском соборе, как какую-то корыстную махинацию Великого Князя и его приближенных, забыв даже упомянуть, за что именно был отвергнут в России митрополит Исидор!2293 Между тем упорное, героическое противостояние Руси насильственным попыткам Рима подчинить ее себе давно и по праву считается выдающимся достижением в духовной жизни Московского государства2294. Многочисленные возмущенные отклики читателей на подобные выпады книги Е. С. Варичева, оскорбляющие их закрепленные в Конституции права, привели в конце концов к тому, что она была изъята из продажи.
Зато когда речь заходит о всякого рода духовно-интеллектуальных перверсиях вроде масонства и сатанизма, вниманию и заботливости некоторых авторов нет границ. В 1985 г. Политиздат стотысячным тиражом выпустил снабженную множеством цветных иллюстраций и таблиц работу Е. И. Парнова «Трон Люцифера» – сущий учебник оккультизма и магии, в котором скромная критика этих явлений попросту тонет в море многочисленных полезных сведений, а на четвертой стороне обложки красуется ни много ни мало символическое чудовище со вздыбленным срамным удом2295. И, хотя в этой книге немало ошибок и больших и малых (напр., на с. 275: «Сердцевиной христианской литургии является, как известно, причащение крови и телу Христову вином и хлебом» … и т.д.), ни одной мало-мальски критической рецензии на нее в печати не появилось. Точнее сказать, не пропустили, ибо такие отзывы существовали и были предложены, но труды Парнова почему-то числятся состоящими вне критики.
Невоплотившиеся идеи еретиков, в особенности таких, как жидовствующие, не дают кое-кому, видимо, покоя. Так, Я. С. Лурье в послесловии к переписке Ивана Грозного с Курбским сперва очень тепло отзывается об этом движении, особо отмечая роль принадлежавшего к нему митрополита Зосимы в создании теории «Москва – Третий Рим», а потом, сетуя на отказ великокняжеской власти от окончательного принятия учения жидовствующих, которое он отчего-то вдруг именует реформацией, переходит к вопросу об идеологических разногласиях Грозного и Курбского. Выясняется, что, с точки зрения Я. С. Лурье, у них есть общий главный порок – вера в пресветлое Православие, из-за преобладания которого в умах Россия не пошла по пути развития капитализма. Она, напротив, в отличие от Западной Европы, подавила предбуржуазные элементы – и в социальном, и в идеологическом, и в политическом плане (читай, тех же жидовствующих) «…и развитие Московской Руси уже двинулось по… наклонной плоскости»2296.
Между тем стоит только на миг вообразить себе, что было бы, сбудься мечта Я. С. Лурье и победи в ту пору любезные ему еретики. Со славными бы достижениями пришла наша страна к той точке отсчета, которую академик Д. С. Лихачев счастливо назвал тысячелетием русской культуры, возьми в государстве власть в Средневековье иконоборцы и содомиты!
Единство
В заключение приходится повторить ту седую истину, что оселком всякой теории является практика, в первую голову потому, что след на свете оставляют не диссиденты, а творцы. Не на блуде, а на труде основана наша Москва; не на крови, а на любви собирал вокруг нее 33 года русскую землю доставивший ей звание стольного града настоящий Князь Даниил, сын Александра Невского. И не чуждый Мосох или Рим, будь то первый, второй или третий, но созданный Андреем Рублевым образ Троицы символизирует для нас высшее достижение отечественной культуры Средневековья – да воззрением на нее, как сказано в жизнеописании Сергия Радонежского, «…побеждается страх ненавистной розни мира сего»2297.
Заключение
Патриарх Никон: историософия в памятнике2298 (Шмидт В. В., Струнин К. А., Алубаев А. В.)
Масштаб личности Патриарха Никона, его вклад в созидание государства Российского и сохранение наследия Вселенского Православия в исторических судьбах народов, государств и Церквей выражен концептуально и художественно-архитектурными средствами в памятнике (все надписи на памятнике приводятся по трудам Патриарха Никона).
1. Традиционно Святитель представляется одетым или в саккос и митру, или в мантию и клобук, в одной руке Святитель держит либо посох, либо Евангелие, либо храм, другой преподает миру имяславное благословение.
В нашем случае Патриарх Никон изображается в святительской мантии с «источниками», буквенными скрижалями «П»–«Н», белом патриаршем клобуке с надлобным деисусом, что соответствует ранней иконографической традиции (такое изображение помещалось на святых вратах Новоиерусалимского монастыря и прочно вошло в традицию наравне с парсунным), а также пониманию патриаршего служения как игуменства в большом монастыре – православной державе, а образа Патриарха – как «образ жив Христов». Патриарх держит посох митрополита Петра как своего великого духовного предшественника по кафедре и свиток со словами «любви начало бытие и конец Христово пришествие», которые отражают основной смысл Евангельского учения и христианского служения (обычно на этом свитке Патриарха надпись: Светися, светися, Новый Иерусалиме, слава бо Господня на тебе возсия, но она посвящается Новому Иерусалиму в образе монастыря, что и отражено на клейме грани пьедестала).
2. Патриарх Никон стоит на фоне возвышающегося за ним Кийского (никоновского) креста, который водружен на символической Голгофе мира. На склонах Голгофы обозначены политические центры христианского мира в условиях пременения царств, где Москва есть центр «Третьего Рима» и хранительница Ромейского царства, в историю которого вписан Христос. От Голгофы образован скол – символ отпавших от христианства народов и царств, а поэтому на его профиле со стеной града евангельская надпись: Се оставляется дом ваш вам пуст. Но этот скол не отвержен от жизни и истории, так как «есть еще время до срока», и многие вернутся через покаяние в лоно Церкви.
На кресте – контррельефное изображение Иисуса Христа, что напоминает нам о Его воскресении и возможности нашего воскресения через сораспятие со Христом. Место на этом кресте в жизни человека всегда свободно, и только вольный выбор жизни вечной или вечного отвержения определяет путь каждого из нас. Так и Патриарх Никон стоит перед этим крестом как образ и пример того, кто претерпел много злословия и мучений, но в своей любви и следовании за Христом взошел на Голгофу и посредством смиренного и кроткого сораспятия Христу наследовал жизнь вечную. Поэтому на титле, на месте таблицы с виной Иисуса Христа, помещены слова, указывающие вину Патриарха Никона – за слово Божие и за Святую Церковь бе в тюрьме.
Обратная сторона этого креста представляет образ Кийского креста, который Патриарх Никон изготовил для молитвенной защиты северных земель России: в крест были вложены около 300 мощей святых угодников со всех концов Православного мира, и этот крест был отправлен в Онежский Крестный монастырь. На кресте надпись: Аще кто с верою к Животворящему Кресту на поклонение приидет, силою Честнаго и Животворящего Креста благодать дастся, в нем же святое Свое смотрение Христос Бог наш исполни.
3. Фигура Патриарха Никона с Кийским крестом водружена на пьедестал, восьмеричность граней которого символизирует вечность. Скульптурную композицию от пьедестала отделяет пояс ангелов, показывая тем самым, как и в монастыре Нового Иерусалима, что ангельский чин всегда незримо присутствует среди нас в постоянном попечении о наших душах. На крыльях ангелов – фигура предстоящего у престола Божия и преподающего этому миру Божье благословение Святителя Церкви Христовой Никона. На гранях же пьедестала изображены основные труды и подвиги Патриарха, которые вписаны в неистираемую книгу вечной жизни. Под каждым сюжетом – подпись, что позволяет осматривающему памятник не только узнать об основных этапах жизни Святителя, но и оценить величие его дел.
На фасаде – герб Патриарха, символизирующий институциональную независимость и самостоятельность Церкви, с буквами, которые расшифровываются в собственноручной подписи официального титула: Никон, милостью Божией архиепископ царствующего града Москвы, всея великия и малыя и белыя России и всех северных стран и поморья и многих государств Патриарх. Далее по кругу справа налево:
– Перенесение мощей святителей Московских, что подтвердило признание царской властью прегрешений против Церкви, общественное покаяние и заложило фундамент «симфонического» взаимодействия светской и духовной властей, подпись: Созиждется держава Российская молитвою праведников в Духе: и пренесе мощи Святителей Московских Филиппа, Иова и Гермогена; житие наше на небесех есть, и живот наш тамо сокровен со Христом в Бозе.
– Образ Иверского Валдайского монастыря, созданного по образу святой горы Афон, с иконой Иверской Богородицы и предстоящими – святителем Филиппом и праведным Иаковом Боровичским; подпись: Да пребудет на месте сем и на пребывающих зде с верою и благоговением милость Сына и Бога Моего; Аз же буду заступница месту сему и теплая о нем ходатайница к Сыну моему и Богу.
– Собор 1654 г. о книжной справе и необходимости обеспечения культурно-политического единства православного мира с подписью: Аще священных правил блюдение сохранится: что святии отцы утверждали, то и мы подтверждаем, что святии потребляли, то и мы извергаем: сия вера апостолская, сия вера отеческая, сия вера православная, сия вера Вселенную утверди.
– Образ Воскресенского монастыря Нового Иерусалима, созданного по подобию Святой Палестины с храмом Гроба Господня и во образ Града Небесного, с иконой Воскресения Христова, предстоящими Патриархом и Царем; подпись: Светися, светися, Новый Иерусалиме, слава бо Господня на тебе возсия.
– Защита Царем народов Православной Эйкумены и попечение о них Патриарха: военные походы и собирание земель и народов православного мира; подпись: От Вышняго в человецех даровано священство же и царство; ничто же тако бывает поспешнее царству, якоже святительская честь; сей богомудрой двоицей в соузе веры, любви и служения да мир христианский созиждется.
– Образ Крестного Кий-островского Онежского монастыря с иконой Кийского креста и предстоящими ангелами с рипидами, сооруженного для охранения пределов Православной Вселенной и Российской державы с севера мира по образу Крестного монастыря, который под Иерусалимом стоит на месте крестного древа, и во образ явленного Константину Великому на небе Креста, знамением Которого он утверждал и защищал Православную Эйкумену; подпись: О всепречестный Кресте, Ты Божественная победа и хранитель вселенныя; Крест красота Церкви: Крест царем держава: Крест верных утверждение: Крест христианом упование: Крест заблудшим наставник: Крест недужным врач: Крест мертвым воскресение.
– Монах Никон в заточении исцеляет болящих поданной Христом благодатью; подпись: Да что суть гордость наша, еже писаное совершаем делом; отступися от зла, сотвори благо, се ли гордость? О Никоне, отнято у тя Патриаршество, дается ти чаша врачебная…
4. Восьмигранник стоит на основании, пандусе, нижней части пьедестала, также символизирующей вечность. В совокупном восприятии памятник представляет собой ротонду по образцу ротонды Воскресенского собора в Новоиерусалимском монастыре и кувуклии Гроба Господня, с плоской крышей – гульбищем. По диаметру пандуса надпись: Несть наша брань к плоти и крови, но к началом, и ко властем, и к миродержателем тмы века сего, к духовом злобы поднебесным, и елицы победиша, о таковых сбытся другое писание: святии вси победиша царствия, содеяша правду, получиша обетования и паки: побеждающаго сотворю столпа в Церкви Бога Моего; и по мале рече: побеждающему дам сести со Мною на престоле Моем, якоже и Аз победих, и седох со Отцем Моим на престоле Его; и паки: побеждаяй наследит вся, и будет ему Бог, и той будет Мне в сына; и паки: побеждающему дам ясти от древа животнаго, еже есть посреде рая Божия; о них же есть инде речеся: сии суть, иже приидоша от скорби великия, и испраша ризы своя в крови Агнчи. Сего ради суть пред престолом Божиим, и служат Ему день и нощь в Церкви Его поюще песнь нову, глаголяще: достоин еси прияти книгу, и отверсти печати ея: яко заклан бысть, и искупи нас Богови кровию Своею от всякаго колена и языка, и люди и племен, сотворил еси нас Богови нашему царя и иереа: и воцарихомся на земли. С ними Бог их; блажени творящии заповеди Его, да будет область им на древо животное, и враты внидут во град. С ними же сподоби, Боже, и нас причастником быти.
На фасаде по центру – резные врата по образцу отлитых Патриархом Никоном врат для Голгофы, через которые можно войти внутрь памятника – часовню. На стене против врат – изображение (барельеф) Гроба Господня. На стенах часовни воспроизводится интерьер Ротонды Новоиерусалимского монастыря – шедевра русской и мировой архитектуры (роспись / лепнина): вокруг образа Кувуклии над Гробом Господним – 12 колонн, символизирующих 12 апостолов, над этими колоннами, выше – еще колонны, символизирующие малых апостолов Иисуса Христа, между ними – 12 минейных изображений святых Вселенской Церкви; на шатровом небе – сюжеты, составляющие «Библейскую симфонию». Таким образом, внутреннее убранство часовни-памятника подчеркивает единство Церкви Горней и земной, великое единогласное славословие Воскресшего Христа в чине святых Церкви Небесной и чине ныне живущих Церкви земной. Этому соответствует подпись по внутреннему периметру2299, расположенная на уровне глаз входящих: Вся Силы безплотныя, вси святии, вси предстоящия и молящияся ту, пред образом святаго Гроба Господня, всем миром славословим Воскресшаго и сидящаго одесную Отца Иисуса Христа, спрославляемаго в единей и нераздельней и Пресвятей Троице, Которая суть жизнь вечная: ликуй и веселися, граде Сионе, красуйся и радуйся, Церкве Божия…




По обе стороны резных врат – «ложные» храмовые люкарны, на плоскости которых помещены исторические тексты, посвященные Патриарху Никону, которые размещались при его гробнице:

Слева под печатью
Патриарх и схимонах Никон
родился в мае 1605 г. в селе Вельдеманово. По испытании пустынной жизни и прошедши все степени служения Церкви, в 1648 г. почтен саном митрополита Новгородскаго, а 25 июля/7 августа 1652 г. возведен при слезном молении Государя Царя и осиротевшего народа на Патриарший Всероссийский престол; в декабре 1666 г. низведен с Патриаршего престола и удален в Ферапонтов монастырь, а через 8 лет переселен в Кириллов монастырь; в августе 1861 г. царским указом возвращен в Воскресенской монастырь Новаго Иерусалима, но в дороге под Ярославлем скончался. Жития его было 76 лет 2 месяца и 24 дня. Патриаршества 15, а заточения 14 лет.

Справа под печатью
Никон Патриарх Всесвятейший в добродетелех краснейший, его же Господь Бог прославил за святыню его жития, как являют зде о нем бытия: клевету, изгнание и труд, великодушно понес муж мудр Святитель Божий избраный, за труд свят Богом знаменаный вечно, Святителю, с Богом пребываяй, и нас чтущих имя твое святое поминай предстоящи пред престолом Господа Бога, да и нам преподастся милость Его многа.
Памятник величайшему церковному и государственному деятелю, Патриарху Русской Православной Церкви Никону может быть осуществлен в одном из двух вариантов.
1. Основной – памятник-часовня. В данном виде памятник может быть включен в социальную жизнь территории не только как объект культуры, но и как место проведения общественных мероприятий, в рамках которых совершаются церковно-обрядовые действия: молебны, панихиды и т.д. В этой часовне (именование может быть Воскресенская, посвященная Воскресению Христову, или Всехсвятская, посвященная Всем Святым, от века Богу угодившим) будет возможность организации регулярных молебнов о мире всего мира, благоденствии властей и земли, с пением Пасхального канона во весь год, как это определяет устав Воскресенского монастыря и храма Гроба Господня в Иерусалиме. Кроме того, при этом варианте учтена возможность богослужебного почитания памяти Патриарха Никона.
2. Дополнительный – памятник. В таком случае памятник устанавливается без пандуса.

Послесловие
Патриарх есть щит Церкви против всех врагов
видимых и невидимых…
Из молитвы на поставление Патриарха
Обществоведческие науки даны человеку, чтобы он, усваивая уроки прошлого, правдиво оценивал настоящее, прозревая его корни, и разумно строил будущее. «Поминайте наставников ваших» (Евр.13:7), – учит божественный апостол. Великие люди прошлого – наши учителя – опытно прошли богомудрую школу жизни, которую нам, их потомкам, еще предстоит пройти. Пастырь стада Христова – учитель особый, поскольку на свое служение он возводится самим Творцом, являя «живый образ Христов». И поскольку духовная жизнь народа есть сердцевина его истории и ее главная движущая сила, то и история Церкви, история ее Патриарха есть важнейшая составная часть не только науки, но и собственно жизни.
След, оставленный Патриархом Никоном в истории нашего Отечества и Русской Церкви, необычайно ярок и огромен. Его личность настолько притягательна и богата, что, сколько бы о нем ни писали, все будет недостаточно и не умерит споров: каждый находит в образе этого великого Предстоятеля Церкви что-то близкое себе и интересное как для восхищения, так и для критики. Непреложным остается факт: исследователи, учитывавшие в своих работах, кроме всего прочего, эпистолярное наследие Патриарха Никона, неизменно приходили к высочайшей оценке личности этого Святителя Церкви Христовой. (В связи с этим и для уверения в достоверности изысканий как настоящих, так и будущих третью часть настоящего сборника мы посвятим XVII в. – представим в ней археографические материалы той краеугольной для нашего исторического бытия эпохи.).
***
Пастырь, поставленный Божиим Промыслом во главе Русской Православной Церкви в сложное, переходное для славяно-русской цивилизации время, должен был быть отмечен особыми дарами, особыми талантами, обладать особым пророческим даром, чтобы возвещать правду Божию без оглядки на обстоятельства и личности, – все это в полной мере было присуще Патриарху Никону, после великой славы испытавшему клевету, гонения и страдания как награду за праведные труды, предреченные Спасителем всем Его истинным ученикам и последователям.
На все обстоятельства своей жизни Патриарх Никон смотрел в свете Евангельских заповедей, в служении своем сознавая себя работником у Бога, а в злоключениях утешаясь надеждой на обещанное Богом воздаяние оставившим все «Мене ради и Евангелия ради»: «Сия поминаю и не смущаюся» (Из письма Патриарха Царю от 9 мая – 20 июля 1667 г.). «Мне еже жить Христов и еже умереть Христов» – так вслед за апостолом Павлом (Флп.1:21; Рим.14:8) мыслил и жил Патриарх Никон, что засвидетельствовано во всех дошедших до нашего времени писаниях Святителя. В них он оставил нам свою автобиографию, объяснение почти всех ключевых моментов своей жизни и сопутствующих им обстоятельств, свое умонастроение и личные представления о себе: «Не радуется Никон в царьских привилеях, ниже хвалится о них, любит Никон святое Христово Евангелие и не еже страдати хощет, но и умрети о нем готов… Всяка слава человеческа яко трава, изсше трава и цвет ея отпаде, глагол же Господень пребывает вовеки, – говорит Святитель в своем «Возражении или Разорении…» (л. 396об.) и продолжает: Наше житие не небесех есть, и живот наш тамо сокровен со Христом в Бозе, и почести тамо и течение о сущих тамо венцех» (л. 364об.–365). На дерзкие безосновательные обвинения в страсти самолюбия и гордости он возражал: «Да которое самолюбство, еже вся злая терпети заповеди ради Божия… Да что суть гордость наша, еже писаное [от Священного Писания] совершаем делом. Отступися от зла, сотвори благо, се ли… гордость?» (л. 160–160об.).
Во главе пастырского служения Святейшего Никона всегда стояла Христова любовь, все покрывающая и всех примиряющая. Проповедуя Царство Божие и указывая путь к спасению, вкладывая в служение Богу все свои многообразные таланты и всю силу своей души, он был всем для всех: просвещенный Первоиерарх, пламенный проповедник, истинный аскет, умнейший и проницательнейший государственный деятель, собинный друг Царя и заботливый отец простым людям, многочисленные челобитные которых он терпеливо разбирал к справедливому их решению.
Патриарх Никон не уставал наставлять, что наше Отечество на небесах, и заботился о том, чтобы все – и народ и царство – стяжали Царство Небесное. При этом он никогда не забывал, что Земля дана человеку для жизни, стараясь облегчить ее всем страждущим, и делал все, чтобы эта земная жизнь была одухотворена Христовым светом.
Зная, как душеспасительно для человека иметь, по крайней мере в названиях или вещественных образцах, видимые знаки того, что составляет предмет его особенной благочестивой любви, почитания и поклонения, он воздвиг Воскресенский монастырь Нового Иерусалима, дав возможность всем не могущим поклониться святыням древнего Иерусалима сотворить поклонение здесь – в подмосковной иконе Святой Земли, но и более – возвести свой внутренний взор к Иерусалиму горнему: да не забудет человек о своем высшем призвании и найдет утешение в своих земных скорбях.
Для Патриарха Никона идеалом взаимоотношений церковной и государственной власти была их симфония, которую в реалиях того времени ему удалось, пусть и ненадолго, осуществить.
Неколебимая стойкость Святителя в вопросах веры, позволившая назвать его «столпом Православия», утвердила Русскую Церковь в единстве Церкви Вселенской, извела народы Малой и Белой Руси из «плена» латинизации.
Судьба Патриарха Никона – это судьба многих великих подвижников и святых Церкви: духоносный плодотворный труд во спасение многих и в конце – страдание как отличительный знак воина Христова.
О Патриархе Никоне Господь Бог засвидетельствовал многими чудесами, о которых лучше других знали монахи монастыря Нового Иерусалима, на протяжении веков, поколение за поколением, видевшие многочисленные исцеления и помощь страждущим, подаваемую по молитвам при гробнице его основателя – Святейшего Никона, и которые, молясь о упокоении его души, неизменно прибавляли: его же святыми молитвами, помилуй нас, грешных.
Да дарует Господь «крепкий ум и противными прилогами нерастленный и непреоборимый» – так писал Святейший в своих рассуждениях об испытаниях последних времен, возвещенных Откровением Иоанна Богослова (там же. Л. 601об.–602). Может быть, как никогда прежде, будет благополезно и нам вооружиться сей молитвой как в изысканиях об этом Предстоятеле Церкви, так и во всей нашей жизни.
***
Как основанием дома, его главной частью является фундамент, так фундаментом государства является его народ, крепость которого – в его духе. Народ силен своими героями. Нынешнее время – время возвращения исторической памяти и духовного сосредоточения, в котором личность Патриарха Никона, человека переломной эпохи и столпа духа, крайне актуальна, поскольку необходима для осмысления не только происходящего с нами, но куда важнее – определения образа нашего будущего.
«Дело царей и правителей – защищать и соутверждать определяемое Церковью и примирять плотские разногласия, другого же ничего им не дано от Бога», – говорил прп. Феодор Студит, за несколько столетий предрекший грядущее разложение Византии от неуважения к канонам, а через то и к законам.
Все, что ни делаете, делайте во славу Божию – учит апостол (1Кор.23:31). И если мы действительно не на словах желаем духовного возрождения и устроения жизни не на песке, но на твердом основании премирных, божественных законов, то грядущая эпоха в этом смысле также должна стать эпохой Патриарха Никона, как были эпохи Антония и Феодосия Печерских, как была эпоха Сергия Радонежского, каждая связанная с особым притяжением к определенному святому, выразителю ее надежд и упований.
* * *
Примечания
Публикуется по списку: РГБ ОР. Ф. 178 (Муз. собр.). № 2228: Жизнеописания некоторых благочестивых писателей, как христианских, так и языческих (1817 г.; ркп. неск. почерков, тексты на рус., франц., нем. яз.; в 1°, на 228 л.)
В ркп. это слово зачеркнуто.
Синтез христианства и дохристианских традиций, официальных церковных канонов и апокрифической традиции, знакомство древнерусского христианства с античностью стали факторами, определяющими своеобразие духовной и нравственной культуры русского Средневековья. См.: Древняя Русь: Пересечение традиций. М., 1997; Аверинцев С. С. Византия и Русь: два типа духовности // Новый мир. 1988. № 7; Лихачев Д. С. Развитие русской литературы. X–XVII века: Эпоха и стили. Л., 1973; Панченко А. М. Русская культура в канун Петровских реформ. Л., 1984; также см. в ч. III наст. сб.: Шмидт В. В. Православная Эйкумена и учение веры (в кратком изложении).
Максименко В. И. Альтернативы Евразии: Россия и Азия, или Анти-Бжезинский (Очерк геополитики 2000 года) // Восток. 2000. № 2. С. 42.
3 См.: Шмидт В.В. Воззрения и труды Патриарха Московского и всея Руси Никона (Святая Русь: от третьего Рима к Новому Иерусалиму) // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7: Философия. 2001. № 4. С. 82–115; Анненков В. И., Лаптев В. Б., Сергеев Н. А. Национальная безопасность России (геополитиче ские и военно-политические аспекты). М., 2005; в наст. сб. см.: Тодоров А. А., Шмидт В. В. Человек – общество – Церковь – государство: мир Бога и власть государства. С. 1126; Лескин Д. Ю. Византийский идеал «симфонии» двух властей и его влияние на формирование церковно-государственных отношений в России. С. 1113; Меньщиков А. А., Рыбаков Ю. М., Шмидт В. В. Внешняя политика Русского Царства в XVII в. С. 1144; Паламарчук П. Г. Москва, Мосох и Третий Рим: из истории политических учений русского средневековья. С. 1188.
См.: Патриарх Никон. Труды / научное исследование, подготовка документов к изд., сост. и общ. ред. В. В. Шмидта. М., 2004; Самодержавное царство первых Романовых / сост. Г. В. Талина. М., 2004; Социальные конфликты в России XVII–XVIII веков. Саранск, 2005.
Внутри- и внешнеполитические успехи «симфонического» взаимодействия православного государства и Церкви нашли свое отражение в практически единовременном усложнении титулования как Московского Великого Князя, так и Московского Архиепископа – Государя Царя Самодержца и Великого Господина Святейшего Патриарха. Развитие титулатуры не только отражало-закрепляло наступавшие сущностные трансформации, но и влекло за собой признание их на международном уровне. В это же время происходит развитие крайне важного для государственно-общественного самосознания и жизни направления, каким является идеологический символизм – идеология не столько разрабатывается, сколько становится очевидной в личной и общественной деятельности первых лиц государства и Церкви. См. подробнее в наст. сб.: Комаровская Е. П., Мурзин-Гундоров В. В., Шмидт В. В. Царь Алексей Михайлович и Патриарх Никон: символика светской и духовной власти Руси. С. 1073; Бусева-Давыдова И. Л. Роль государства и Церкви в развитии русского искусства XVII в. С. 938; Бондарева О. Н. Зодчество Святейшего Патриарха Никона: истоки и значение. С. 956; Яворская С.Л. Сакрализация царства в образах Нового Иерусалима («Шумаевский крест»: опыт реконструкции замысла). С. 1005; Соколова И. М. «Новый Иерусалим» в Кремле: незавершенный замысел Царя Федора Алексеевича. С. 1025; Васильева Е. Е., Кручинина А. Н., Заболотная Н. В. Патриарх Никон: традиция и современность (русское певческое искусство второй половины XVII – начала XVIII в.). С. 919; Первушин М. В. Профетизм в жизни Патриарха Никона. С. 674.
Название вошло в обиход в соответствии с подписанным Николаем II 17.04.1905 г. указом «Об укреплении начал веротерпимости», в котором говорилось: “Присвоить наименование старообрядцев, взамен ныне употребляемого названия раскольников, всем последователям толков и согласий, которые приемлют основные догматы Церкви Православной, но не признают некоторых принятых ею обрядов и отправляют свое богослужение по старопечатным книгам”. Так закреплением дефиниции «старообрядство» за традицией, которая была укоренена в РПЦ решениями Стоглавого собора и жестко оберегалась раскольниками-обрядоверами, в умы и души русских, в историко-обществоведческую науку в очередной раз была внесена смута: стартовал новый этап хуления имени великого ревнителя древнерусской святоотеческой традиции Патриарха Никона, который всеми силами старался восстановить в Русской Церкви обрядно-исповедную правоправность, согласную с традициями Вселенского Православия, а также с институциональным разъединением государства и Церкви, обеспечивая при этом их «симфоническое» взаимодействие, преодолеть социально-политический раскол в обществе, вызванный историческим стремлением государства узурпировать власть Церкви, и социокультурный разлом, вызванный активным включением средневековой Руси в процесс цивилизационного взаимодействия.
В миру Никита Минов (Минин), родился в мае 1605 г., интронизация – 25 июля/07 августа 1652 г., оставление Патриаршего престола – 10/23 июля 1658 г., низведение с Патриаршего престола – 12/25 декабря 1666 г., кончина – 17/30 августа 1681 г.; соборное начало церковных справ – 14/27 марта 1653 г., основание Иверского Святоозерского Валдайского монастыря – весна-лето 1653 г., основание Крестного Кий-островского Онежского монастыря – 13/26 июля 1656 г., основание Воскресенского монастыря Нового Иерусалима – июнь 1656 г. См. в наст. сб.: Дорошенко С. М., Юрчёнков В. А. Патриарх Никон: духовный свет сквозь века (духовная власть как духовная опора на все времена). С. 518.
См. в ч. III наст. сб.: Житие Никона, Патриарха Московского и всея Руси.
См.: Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Т. 7. М., 1996.
См. их публикацию в: Патриарх Никон. Труды.
Русская летопись по Никоновскому списку: в 8 т. СПб., 1767–1792; см. также: Клосс Б. Никоновский свод и русские летописи XVI–XVII веков. М., 1980.
Комплексное изучение и введение в научный оборот этих памятников культуры русского Средневековья, как и культурной традиции Воскресенского монастыря Нового Иерусалима в совокупности ее духовной и вещественной составляющих, явится скорее всего прорывом в отечественной науке – ее исторической, социально-политической, философской, культурологической отраслях.
Можно с уверенностью полагать, что эти книги имеют наибольшую ценность и особую важность, так как они помечены редчайшими собственноручными вкладными записями: Лета… сию книгу, глаголемую … положил в дом Святаго Живоноснаго Воскресения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа Новаго Иерусалима смиренный Никон Божиею милостию Патриарх; а кто восхощет усвоити, якоже Ахарь, сын Хармиев, или утаить, якоже Анания и Сапфира, да отъимет от онаго Господь Бог святую Свою милость, и затворит двери святых щедрот Своих, и да приидет на него неблагословение и клятва и казнь Божия, душевная и телесная, в нынешнем веце, а в будущем вечная мука; а кто сие писание каким злым умышлением испишет от книги сея, да испишет его имя Господь Бог от книги животныя.
Е. Е. Васильева, А. Н. Кручинина в результате своих многолетних исследований приходят к выводу, что Воскресения монастырь Нового Иерусалима явился уникальным средоточием культурно-исторической среды и творческого начала. В его стенах возникло мощное стилистическое движение в разных областях искусства, в том числе сложилась школа песнотворчества, явившаяся основанием русской поэтики и музыки Нового времени. Всякая современная жизнь возвращается к истокам и осваивает исторические традиции, так как целостность и жизнеспособность культуры определяются возможностью творить, не порывая с каноном. Если при первом русском Патриархе Иове возникало стремление к полноте, расширению состава распеваемой гимнографии, при Патриархе Гермогене появлялись вновь распетые корпусы служб, при Патриархе Иоасафе начиналась работа по изменению фонетических редакций (правка на речь), а в связи с этим и редактура напевов, то главнейшей частью деятельности Патриарха Никона явились соблюдение литургической полноты, сохранение предания и развитие канона, попечение о книжном деле. Сложившийся в дониконовскую эпоху корпус богослужебного песнопения оказался избыточным по отношению к реальной литургической практике, при этом невменные и нотированные книги воплощали не норму, а безграничные возможности выбора, что в определенной степени противоречило самой задаче письменной фиксации как воплощенного идеала церковного пения. Перед Патриархом Никоном стояла труднейшая задача – упорядочить корпус и выработать отношение к спонтанным процессам развития церковно-певческого искусства. Позиции Патриарха в этом многотрудном деле, как показывают исследования, реализовывались не через словесные формулировки, а в практическом действии: не закрепленные документами, наказами, они становятся известны, понятны благодаря нотированным рукописям, восходящим к никоновскому кругу, которые точнее всего определяются через отношение к Новоиерусалимскому монастырю. Подробнее см. об этом: Социальные конфликты в России XVII–XVIII веков; Человек верующий в культуре Древней Руси: Материалы Международной конференции (5 – 6 декабря 2005 г.). СПб., 2005; Рукописи в истории, история в рукописях: Сборник трудов ОР РНБ. СПб., 2006; также см.: Позднеев А.В. Песни-акростихи Германа // ТОДРЛ. Т. 14. М.; Л., 1958; Он же. Никоновская школа песенной поэзии // ТОДРЛ. Т. 17. М.; Л., 1961; Он же. Рукописные песенники 17–18 веков: Из истории силлабической книжной поэзии. М., 1996; Пападопуло-Керамавс А. Происхождение нотного музыкального письма у северных и южных славян // Вестник археологии и истории. 1906; Парфентьев Н. П. О деятельности комиссий по исправлению древнерусских певческих книг в XVII в.
См.: Шмидт В. В. Святого Живоносного Воскресения Христова монастырь Нового Иерусалима // Патриарх Никон. Труды; Он же. Святейший Патриарх Никон и его Новый Иерусалим // Богословские труды. 2002. № 37; Зеленская Г. М. Новый Иерусалим: Путеводитель. М., 2003; Она же. Святыни Нового Иерусалима. М., 2002.
См. в наст. сб. ч. III: Шмидт В. В., Юрчёнков В. А. Краткий летописец: Синопсис исторический.
Челобитная Арсения Глухого боярину Салтыкову (ркп. Санкт-Петербургской Духовной академии № 418).
Нужно особо подчеркнуть, что собственно в Русской Церкви при Патриархе Никоне, как и в годы по его удалении и до его кончины, раскола не было. Те общественно-протестные движения как явление социально-политическое и социокультурная тенденция общественной жизни существовали задолго до Патриарха Никона. Обострился же и формализовался этот процесс в период, когда государственное устройство все более приобретало черты и образ абсолютистской монархии. Сформировав свои институции, государство также увидело и восприняло раскол как институциализированный процесс-явление и «отнесло» его в ведомство духовных дел. Таким образом в лоно Церкви было ввергнуто чуждое ей социально-политическое и социокультурное образование, история которого плотно увязалась с церковными справами эпохи Патриарха Никона и «знаменитым» двуперстием. Во главу этого процесса и на его щит была водружена фигура яркого полемиста со строптивым и неуживчивым характером, отовсюду изгоняемым протопопом Аввакумом. Его горделивое стремление к учительству и былому величию «ревнителя благочестия», столкнувшись с мощью и широтой Никоновых деяний и преобразований, не найдя себе соработнического места в этих великих преобразованиях, яростно восстало против Патриарха и всей Церкви, неся со своими последователями смуту и отступничество. Так Русская Церковь ощутила отпадение от себя значительной части церковно-гражданского сообщества. Спустя два века вновь благодаря государственной власти раскольники получат именование «старообрядцы» и оформят институцию в виде Старообрядческой Церкви – см.: Кравецкий А. Г. К истории снятия клятв на дониконовские обряды // Богословские труды. 2004. № 39. С. 296–344.
См.: Люстров М. Ю. Уход Патриарха Никона как подражание образцам (К вопросу о самосознании Московского Патриарха) // Герменевтика древнерусской литературы: Сб. статей № 10. М., 1989.
Никон, Патриарх. Возражение или Разорение… // Патриарх Никон. Труды.
К такому же выводу пришел профессор Оксфордского университета В. Пальмер – первый западный исследователь наследия Патриарха Никона. Palmer W. The Patriarch and the Tsar. V. 1–6; History of the Condemnation of the Patriarch Nicon by a Plenary Counsil of the Orthodox Catholic Eastern Church, held at Moscow A.D. 1666–1667: written by Paisius Ligarides of Scio. London, 1871–1876.
См.: Никон, Патриарх. Переписка Святейшего Патриарха Никона // Патриарх Никон. Труды. С. 105.
Белокуров С. А. Дела Святейшего Никона Патриарха, паче же рещи дела врачебная // Белокуров С. А. Материалы для русской истории. М., 1888; см. также: Патриарх Никон. Труды. С. 875.
В ч. III наст. сб. см.: Житие Никона, Патриарха Московского и всея Руси.
Патриарх Никон. Труды. С. 1205.
См. в ч. III наст. сб.: Житие Патриарха Никона; Шмидт В. В. Материалы и сочинения о Патриархе Никоне и о некоторых при них страстях.
Святейший Патриарх Никон в своей жизни показал следующие добродетели: строгая христианская жизнь, терпение и твердость в вере вплоть до исповеднического подвига, забота о Церкви, милосердие, храмоздательство, глубокое богословствование и многое другое, что характерно величайшим во святых угодникам Божиим. Таким образом, нам следует «благоговейно преклоняться перед ним, чтить его вместе с простым верующим русским народом, как праведного и благодатного светильника Русской Церкви, и всемерно содействовать тому, чтобы в возрожденной России он был причислен к лику святых Российской Церкви», – пишет архиепископ Серафим (Соболев) в своей работе «Русская идеология» (СПб., 1993).
Святая Русь: Энциклопедический словарь русской цивилизации. М, 2000. С. 591–593.
См.: Ундольский В. М. Отзыв Патриарха Никона об Уложении Царя Алексея Михайловича // Богословские труды. 1982. № 23. В предисловии издательства к статье написано: «Имя Святейшего Патриарха Никона стало великим в истории Русской Православной Церкви. Исследователи его многострадальной жизни и большого вдохновенного творчества все глубже проникаются к нему чувством благоговения, преодолевая противоречивые напластования… Дело, которое совершил Патриарх Никон, теперь – 300 лет спустя после его преставления к Богу – нашло признание ученой общественности: и в области архитектуры, и в широких дипломатических связях, в церковном и государственном строительстве. Особое же место Святейший Патриарх Никон занял в истории культуры созданием выдающейся в мире Патриаршей библиотеки, сохранившей в своих недрах лучшие славянские рукописи, своевременно собранные по всему лицу земли Русской. Сейчас они становятся достоянием ученых всего мира – тех, кто ценит историческое прошлое и стремится сохранить преемство культурных традиций. Богословское значение этого собрания по достоинству было оценено митрополитом Филаретом (Дроздовым), по благословению которого (1867) протоиерей Александр Горский, профессор Московской Духовной академии, создал знаменитое научное «Описание славянских рукописей Московской Синодальной библиотеки» [Горский А.В., Невоструев К. И. Описание славянских рукописей Московской Синодальной (Патриаршей) библиотеки. Т. 1–6. М., 1855–1917. В настоящее время описание этого уникального собрания рукописей завершено: Протасьева Т.Н. Описание рукописей Синодального собрания, не вошедших в описание А.В. Горского и К. И. Невоструева. Ч. 1–2. М., 1970–1973].
В развитие этой инициативы нами было подготовлено информационное письмо – см. в ч. III наст. сб.: О подготовке к празднованию юбилейных дат в истории России в 2005–2006 гг.
См.: Патриарх Никон и его время: Облачения, личные вещи, автографы, вклады, портреты: Каталог выставки ГИМ. М., 2002; Патриарх Никон и его время: Сборник научных трудов / отв. ред. и сост. Е. М. Юхименко. М., 2004.
См.: Секция 2: Патриарх Никон и Новое время: история, традиции, современность // Социальные конфликты в России XVII–XVIII веков: Мат-лы Всерос. научно-практ. конф. (г. Саранск, 20–22 мая 2004 г.). Саранск, 2005. С. 206–309.
См.: Титков Е. П. Патриарх Никон как церковный и государственный деятель (к 400-летию со дня рождения): Мат-лы Всерос. научно-практ. семинара: 17–19.02.2005. 5-е Арзамасские соборные встречи. Арзамас, 2005.
См.: Масленникова Н. Новый Иерусалим // К единству. 2005. № 3. С. 38–41; Личутин В. Крестный путь Патриарха Никона // Новая книга России. 2005. № 6. С. 3–5; Аксенова Г. На родине Патриарха Никона // Новая книга России. 2005. № 6. С. 6–8; Дорин А. От Бога оправдан, а людьми оклеветан: Материалы круглого стола – соборной встречи «Преодоление средостения: Церковь, власть, народ» … // XXI век: роман-журнал. 2005. № 7. С. 97–110; Дм. Шмелев, свящ. Страсти по Никону // Завтра. 2005. Май. № 21 (601); Дорин А. Преодоление средостения: К 400-летию Патриарха Никона // Российский писатель. 2005. Сентябрь. № 17 (116). Пол. 1–3.
После Божественной литургии в Успенском соборе Московского Кремля, знаменовавшей начало Дней славянской письменности и культуры, участники крестного хода возносили молитвы о единстве славянского мира у памятника просветителям славян свв. равноап. Кириллу и Мефодию, у часовни Героям Плевны вспоминали подвиги отцов, живот свой за веру и Отечество положивших, совершив молебное пение в храме св. Григория Победоносца на Поклонной горе, и затем переехали в г. Истру, в Святого Живоносного Христова Воскресения монастырь Нового Иерусалима, откуда и началось это великопамятное славянское шествие. 25 мая 2005 г. у гробницы Святейшего Никона участники хода испросили молитвенного благословения на свое дело, окрест обошли святую обитель Нового Иерусалима и от ее стен с молитвенным предстательством Святейшего и заступничеством иконы Божией Матери «Знамение» (Курская коренная) двинулись в поход через царскую обитель – монастырь прп. Саввы Звенигородского – в земли Белорусские (Минск) и Малоросские (Киев), завершив 30 июля свой путь в колыбели славяно-русского Православия – обители Киево-Печерской у прпп. Антония и Феодосия.
К юбилейным датам изданы: Никоновские чтения в музее «Новый Иерусалим»: Сб. статей. Вып. II / сост. Г.М. Зеленская. М., 2005; Димов В. А. Путешествие в Новый Иерусалим: Книга о разнообразии Истринской земли, ее святых, героях и ученых. М., 2005.
Отдельные материалы конференции опубликованы – см.: Государство, религия, Церковь в России и за рубежом. 2006. № 3–4 (38–39).
См.: Царь Алексей Михайлович и Патриарх Никон: «Премудрая двоица»: Каталог выставки ГИКМЗ «Московский Кремль». М., 2005.
См.: Патриарх Никон: История и современность: Мат-лы Всерос. науч. конференции, посвященной 400-летию со дня рождения Святейшего Патриарха Никона (Саранск, 27–28 октября 2005). Саранск, 2007. К конференции и юбилейным датам издано: Житие Никона, Святейшего Патриарха Московского / предисл. В. В. Шмидта, В. А. Юрченкова, В. Б. Смирновой; подготовка текста В. Б. Смирновой; коммент. В.Б. Смирновой, В. В. Шмидта. Саранск, 2005.
Инициатива увековечения памяти Патриарха Никона имеет значительную традицию – впервые предложение было сформулировано в начале XVIII в. с целью установить храм-часовню во имя прп. Александра Свирского на месте кончины Святейшего под Ярославлем, но из-за недостатка средств и неблагорасположения к Патриаршеству Петра I реализовано не было (см.: Грамота Иоасафа, митрополита Ростовского на построение церкви на месте смерти Патриарха Никона. ГИМ. ОР. Воскр. бум. № 189). Спустя столетие, 27 сентября 1998 г., на рукотворном острове Патриарха Никона на Бородавском озере около Ферапонтова монастыря был восстановлен Никоновский крест, он был освящен в праздник Воздвижения честного и животворящего Креста Господня епископом Вологодским и Великоустюжским Максимилианом. В настоящее время вопрос создания памятника Патриарху Никону обсуждается в администрациях городов Истра Московской области и Ярославля. 29 января 2006 г. викарием Московской епархии епископом Можайским Григорием в г. Истре был освящен восстановленный поклонный Елеонский крест, с места которого Воскресенскому монастырю было усвоено именование Нового Иерусалима и началось создание Подмосковной Палестины.
Визит Святейшего Патриарха Московского Алексия в Мордовию // ЖМП. 2006. № 9. С. 48–51.
Человек верующий в культуре Древней Руси: Мат-лы науч. конф. (СПбГУ, 20–22 мая 2004 г.). СПб., 2005.
Новые Иерусалимы: Перенесение сакральных пространств в христианской культуре: Мат-лы международн. симпозиума / ред.-сост. А. М. Лидов. М., 2006.
2 Никоновские чтения в музее «Новый Иерусалим». Кн. I. М., 2002; Кн. II. М., 2005.
Святейший Патриарх Никон: Каталог выставки (Кирилло-Белозерский историко-архитектурный музей-заповедник). М., 2005.
В этот же период была в основном завершена реставрация Никонова строения Иверского Валдайского монастыря и инициативным президентским решением началось восстановление Воскресенского монастыря Нового Иерусалима – см.: Ефрем, архим.; Серафим, иером. На небеси Рай – на земли Валдай: Иверский Богородицкий Святоозерский монастырь // Государство, религия, Церковь в России и за рубежом. 2009. № 2 (спецвыпуск). С. 77–96.
Зызыкин М. В. Патриарх Никон: Его государственные и канонические идеи. Ч. I. С. 8; ч. III. С. 270.
Публикуется по списку: ГИМ ОР. Хлуд. Д-86–4°: Сборник, содержащий житие Патриарха Никона. Перед текстом жития помещен следующий текст синаксаря, который задает назидательную тональность для восприятия и понимания далее читаемого текста: Месяца генваря в 6 день синаксарь на Крещение Господне, минея четии. Господь наш Иисус Христос по Своему от Египта возвращения бяше в Галилеи, во граде своем Назарете, идеже бе воспитан, таящи пред человеки Божества Своего силу и премудрость до тридесяти лет сан учителия содержати или священническия: того ради и Христос до толиких лет своея проповеди не начинаше, ниже являше Себе быти Сына Божия и Архиереа великаго небеса прошедшаго, дóндеже летом Его число то исполнися: живяше же в Назарете с Пречистою материею Своею, первее при мнимом отце своем Иосифе древоделе донеле же той жив бе, с ним же труждашеся в древоделстве, тому уже умершу, Сам рукоделие то делаше: пищу от труда рук Себе и Пречистей Богоматери стяжавающи, да нас научит не ленитися: но не туне ясти хлеб.
Описание И. Шушерина [см. с в ч. III наст. сб.: Житие Никона, Патриарха Московского и всея Руси; по изд. Саранск, 2005 – Л. 219–223 (ркп)] позволяет ощутить трагическую мощь происходившего, оценить, насколько власти опасались народной любви к низложенному Патриарху.
См.: Николаевский П., прот. Жизнь Патриарха Никона в ссылке и заключении после осуждения его на Московском соборе 1666 г. СПб., 1886. С. 8; Бриллиантов И. Ферапонтов Белозерский ныне упраздненный монастырь, место заточения Патриарха Никона. СПб., 1899. С. 136 со ссылкой на № 77 из «Дела о Патриархе Никоне» цитирует несколько иначе: «Да с ним Никоном с Москвы поехали два попа черных Памво да Паладей, да два дьякона черных, Исайя да Маркел да простой старец Флавиан, да два человека белцов: Клинскаго уезду села Завидова дьячек Тараска Матвеев, да Ярославскаго уезду села Вяцкаго Ипатко Михайлов». Надо заметить, не все они смогли понести этот подвиг до конца: в марте 1667 г. Палладий, Иоасаф, Тараско и Ипатко подали приставу Степану Наумову две челобитные на имя Государя с просьбой отпустить их к прежнему месту жительства, и уже 10 апреля они были в Москве. Келейные патриаршие старцы иеромонах Варлаам и иеродиакон Мардарий в 1676 г., после перевода Патриарха в Кириллов монастырь, были сосланы в Крестный Кий-островский монастырь.
Известен «Лечебник» Патриарха Никона (см.: Патриарх Никон. Труды. С. 885).
В 1694 г. старец Савин был привлечен к допросу в Преображенский приказ по обвинению в чародействе. Оправдываясь от обвинений, он показал, что лечил «без наговоров и шептаний», а с помощью лекарств и трав, указанных в лечебнике, который списал у Патриарха (см.: Бриллиантов И. Ферапонтов Белозерский ныне упраздненный монастырь, место заточения Патриарха Никона. СПб., 1899. С. 180–181).
Николаевский П. Жизнь Патриарха Никона в ссылке и заключении после осуждения его на Московском соборе 1666 г. СПб., 1886. С. 141.
Записи выходов Патриарха Иоакима отмечают, что он служил панихиду 13 февраля 1683 г. во вторник Сырной седмицы и в Крестовой палате давал поминальный стол, а 15 февраля перед Литургией служил панихиду у гроба Патриарха Никона. Литургию он служил в Голгофской церкви Воскресенского собора, а в приделе Иоанна Предтечи, где погребен Патриарх Никон, Литургию служил Богоявленский архимандрит со священниками. 24 августа этого же года Патриарх служил вечером в Успенском соборе панихиду по Патриарху Никону, а на другой день, 25 числа в субботу, заупокойные Литургии служили одновременно в соборе Крутицкий митрополит, в церкви Трех Святителей Коломенский архиепископ, в церкви 12 апостолов Новоспасский архимандрит. В следующем 1684 г. Патриарх Иоаким приехал 23 августа в Воскресенский монастырь, слушал Литургию в церкви Иоанна Предтечи и после нее служил панихиду по Патриарху «в тамошнем облачении», без митры в камилавке, в походе с ним были Холмогорский архиепископ Афанасий и Воздвиженский игумен Ефрем. В эти же дни панихиду по Патриарху Никону в Успенском соборе отправлял Белгородский митрополит. 22 августа 1685 г. Патриарх Иоаким служил панихиду на гробе Патриарха, а 23 августа, в воскресенье, Всенощное и Литургию в новоосвященном им в январе Воскресенском соборе (см.: Николаевский П. Жизнь Патриарха Никона в ссылке и заключении после осуждения его на Московском Соборе 1666 г. С. 138–139; также см. наст. издание ч. I. С. 1135–1137).
Эта икона повсюду ему сопутствовала, она же сопровождала его погребальное шествие от Ярославля до Воскресенской обители. Икона эта греческой работы, составная (мозаичная) из 13 кусков кипарисного дерева, лик первоначально был наведен воскомастикой, а при поновлении в 1861 г. – красками, вставлена в золоченую раму (см.: Краткое историческое сказание о начале и устроении Воскресенского Новый Иерусалим именуемого монастыря. СПб., 1876. С. 34–45).
См.: Муравьев А. Н. Путешествие по святым местам русским. М., 1846; 1990 (репринт). Ч. I. С. 110.
В настоятельство архимандрита Мелхиседека (Сокольникова, настоятельствовал с 26 марта 1851 г. до своей кончины 6 января 1852 г.) А. Н. Муравьев (1806–1874) испросил у него схиму Патриарха, так как имел тогда намерение написать пространную историю Патриарха Никона. Эту схиму он потом бережно сохранял в своем собрании предметов древности и святынь, собранных при путешествиях по святым местам (см.: Описание предметов древности и святынь, собранных путешественником по святым местам. Киев, 1872. С. 30). Здесь и увидел митрополит Филарет схиму Патриарха Никона и взял ее для образца своей схимы. В Гефсиманском скиту Свято-Троицкой Сергиевой лавры, основанном митрополитом Филаретом в 1844 г., в его каменном трапезном храме во имя прпп. Никона и Сергия и св. Филарета милостивого, хранилась схима Патриарха Никона рядом с хитоном Иисуса Христа и схимой преподобного Сергия Радонежского (см.: Православныя русския обители: Полное иллюстрированное описание всех православных русских монастырей в Российской империи и на Афоне. СПб., 1910. С. 344). Надо полагать, что это та часть схимы, которая была отделена архимандритом Мелхиседеком Муравьеву, поскольку в соответствии с описями в Воскресенском Ново-Иерусалимском монастыре схима Патриарха Никона сохранялась, как и прежде (РГАДА. Ф. 1183. Оп. 1. Ед. хр. 208. № 10: Главная опись ризницы [1906 г.]; там же. Ед. хр. 209. № 4.53: Опись Музея Новаго Иерусалима [1906 г.]). В описании Воскресенского монастыря Нового Иерусалима 1753 г. сообщается, что в монастырской ризнице среди предметов, заслуживающих благоговейного внимания богомольца, находится часть схимы Патриарха Никона. Здесь же хранились и другие вещи в память о Святейшем: харатейное Евангелие 1468 г. с золотой прописью, приобретенное Патриархом в 1658 г.; ветхое его облачение – клобук черный с жемчужным херувимом, бархатный лазуревый саккос, белый камчатный омофор (подпись на нем вышита по-гречески); посох деревянный, епитрахиль, полосатый шелковый подризник, двое четок – черные янтарные и белые корольковые; поручи, на которых золотом и шелком вышито Благовещение Пресвятой Богородицы; шляпа черная, власяница, сапоги и туфли с железными скобами; две печати – стальная и деревянная (см.: Путеводитель по железной дороге от Москвы до станции Крюковской, в г. Воскресенск и по Новому Иерусалиму. М., 1853. С. 131–132).
«По левую сторону [во дворе церковном от южных дверей] в обходе церковном персона Святейшего Патриарха Никона на полотне изображена живописным письмом; риза и одежды накладное с клеем карлужным» [Описныя книги Воскресенскаго, Новый Иерусалим именуемаго, монастыря 1685 г. // Лео нид (Кавелин), архим. Историческое описание ставропигиального Воскресенского, Новый Иерусалим именуемого, монастыря (далее: Историческое описание ... Воскресенского ... монастыря.). М., 1874. С. 240]
См.: Колосов В. Попытки канонизации Патриарха Никона // Исторический вестник. Т. 2. V–VIII. 1880. С. 794–795.
См.: Леонид (Кавелин), архим. Историческое описание ... Воскресенского ... монастыря. С. 290.
3 РГБ ОР. Ф. 178. № 9290. Папка 48: Описание святых мест «Нового Иерусалима». Эта парсуна всегда привлекала к себе особое внимание. А.Н. Муравьев подробно пишет о ней в статье о своей поездке в монастырь Нового Иерусалима. Знаменательно замечание митрополита Московского Филарета на рассуждение Муравьева о беседе Святителя с учениками: «Почему Вы знаете, что Никон в прении, а не просто в разлагольствии с иноплеменными учеными? Поставляя его в споре с разными православными племенами, Вы делаете услугу раскольникам» (Письмо митрополита Филарета к А. Н. Муравьеву от 2.01.1836 г. // Письма митрополита Филарета к А. Н. М[Муравьеву]. 1832–1867. Киев, 1869. С. 29–30). Этот портрет А. Н. Муравьев «…имел случай обновить, ибо он пришел в совершенную ветхость» (там же. С. 30–31). В XIX в. – это тафтяная парсуна [Леонид (Кавелин), архим. Историческое описание ... Воскресенского ... монастыря. С. 290], все архиерейское облачение Патриарха на ней было вышито по малиновому бархату одной из грузинских царевен из движения памяти сего великого иерарха [Амвросий (Орнатский), еп. История Российской Иерархии: в 4 т. М., 1807–1815. Ч. II. С. 329]. Напротив этой парсуны находился портрет Амвросия (Зертис-Каменский), архиепископа Московского, б. настоятеля Ново-Иерусалимской обители, который по праву считается вторым строителем монастыря (см.: Патриарх Никон. Труды. С. 659).
См.: Леонид (Кавелин), архим. Месяцеслов Воскресенского, именуемого Новый Иерусалим, монастыря для посетителей и богомольцев сей святой обители (далее: Месяцеслов). М., 1880. С. 23–27.
См.: Путеводитель по железной дороге от Москвы до станции Крюковской, в г. Воскресенск, и по Новому Иерусалиму. М., 1853. С. 129–130 (надпись на киоте иконы); здесь – с. 200–204.
См. там же. С. 115.
См.: Шмидт В. В. Елеонская часовня // Патриарх Никон. Труды. С. 721; Житие Никона, Патриарха Московского и всея Руси. Саранск, 2005. Л. 97–98 (ркп).
См.: Леонид (Кавелин), архим. Историческое описание ... Воскресенского ... монастыря. С. 31–44.
Царь Иоанн Алексеевич со всем царственным семейством прибыл в монастырь 16 января вечером и сразу после встречи во святых вратах с архимандритом Никифором и братией прошел в Предтеченскую церковь ко гробу Патриарха Никона, а затем в свои царские покои, расположенные в прежних хоромах Святейшего. 18 января, после освящения собора и праздничной трапезы, царевны прошли в отходную пустынь Патриарха Никона. 19 января Патриарх Иоаким в присутствии царевен и цариц совершил утреню в новоосвященном соборе и пел большую панихиду по Святейшему Патриарху Никону (см. там же. С. 68–69).
Там же. С. 68, 103.
См. там же. С. 145.
См. там же. С. 112.
Собор 1666–1667 г., осудивший Патриарха Никона, отнял и у монастыря Святого Живоносного Христова Воскресения Нового Иерусалима именование, означавшее его соотнесенность с первообразом и земным прообразом. В официальных документах он стал именоваться «Воскресенский монастырь, что на Истре».
Леонид (Кавелин), архим. Историческое описание ... Воскресенского ... монастыря. С. 112.
Амвросий (Орнатский), иером. История Российской иерархии: в 6 ч. М., 1807–1815. Ч. II. С. 342.
Муравьев А. Н. Путешествие по святым местам… Ч. I. С. 164.
4 Письма митрополита Московского Филарета к А.Н.М.: 1832–1867. Киев, 1869. Владыка пишет 25 августа 1837 г. Муравьеву: «Делом о мраморе для Гроба Господня меньше теперь спешу, потому что в нынешнем г. нельзя уже достать мрамора и употребить. Нашли новый род мрамора, который Кампиони предпочитает известному прежде, а другие спорят против сего. Я разрешить сего не умею, и сегодня должен был послать о сем вопрос к скульптору Витали… Обложить стены в три аршина высоты, входную арку и ея лицевую часть, сделана смета в 2500 руб.» (С. 47). В письме от 22 сентября 1837 г.: «Проекта о храмине Гроба Господня не стал я переделывать, чтобы не увеличить еще медленности, которая уже произошла. Прибавить, как вы говорите, 500 руб. было бы не верно, или, лучше сказать, верно мало. Впрочем, я написал и Вашу мысль, чтобы мраморную одежду возвысить до свода. Если изберут ее: смета довершится после». При отделке Святого Гроба мрамором возникли непредвиденные осложнения. 22 августа 1838 г. Владыка сообщает Муравьеву: «Дело Св. Гроба Новоиерусалимскаго остановилось, когда я полагал его близ окончания. Рекомендованный Вами к сему делу Новоспасский архимандрит и Петровский, причисленный к тому мною, говорят теперь, что за три месяца требовали от мастера переменить некоторые доски приготовленного мрамора, потому что оне не обещали чистой отделки, но мне о том не сказали. Теперь, когда доски выполированы, оказалось, что все оне цветом бледнее образца, а некоторые и нечисты в отделке. Помещица, которой поверенный взял сей подряд, нарочно по сему приехала в Москву со слезами, и говорит, что весь слой мрамора, который теперь в разработке, оказался такого цвета, а подрядного цвета у ней нет, и найти негде. Теперь делается дознание, нельзя ли где найти, а у подрядчика мрамор освидетельствуется официально» (С. 48). Работы по обновлению Кувуклии были закончены к началу августа 1839 г. Знаменательно, что попечением митрополита Филарета в это время одновременно обновлялись Чудов монастырь и Патриаршая ризница, а также был освящен храм в новосозданной Бородинской обители на Куликовом поле (С. 59).
«Устроение пещеры Гроба Господня кончено, и по моему мнению хорошо. 12 сего месяца мы освятили оное с крестным ходом и молитвою, которую с миром и любовию принесли за благочестивейшаго Государя, возлюбленнаго наследника, и весь благословенный Царский дом», – писал владыка Муравьеву 17 августа 1839 г. (Письма Митрополита Московского Филарета к А.Н.М. С. 79–80). Из монастырских документов следует, что освящение состоялось 11 августа (РГАДА. Ф. 1183. Оп. 1. Ч. 34. 1839. Ед. хр. 149).
К этому паломничеству Царского дома был издан уникальный фотоальбом, в котором отражено былое великолепие Воскресенского монастыря Нового Иерусалима (см.: Грибов М. Ставропигиальный Воскресенский монастырь, именуемый Новым Иерусалимом: Фотоальбом. М., 1903).
РГАДА. Ф. 1183. Оп. 1. Ч. 46. Ед. хр. 67.
По возвращении в Германию в 1721 г. он издал первый том своих записок о России под названием «Das veränderte Russland, in welchem die jetzige Verfassung des Geist-und Weltlichen Regiments; der Krieges-Staat zu Lande und zu Wasser; wahre Zustand der Russischen Finanzen; die geöffneten Bergwerke, die einfuhrte Academien, Künste, Manufacturen, ergangene Ferordnungen, Geschäfte mit denen Asiatischen Nachbahren und Vassaleu, nebst der allerneusten Nachricht von diesen Völkern, die Begebenheiten des Tzarewitzen, und was sich sonst merkwürdiges in Russland zugetragen, nebst veschiedenen andern bisher unbecandten Nachrichten, in einem bis 1720 gehen – den Journal vorgesteltet werden, mit einer akkuraten Land-Karte und Kurfferstichen verehen» (Frankfurt, 1720). В 1738 г., после второго пятилетнего пребывания в России, в Ганновере он издает II часть, ставшую знаменитой «Преобразованной Россией»; в 1740 г. он издает III часть книги. Труд Ф.Х. Вебера, тонко и полно осветивший внутреннюю жизнь России, был чрезвычайно популярен в Европе и переиздавался в 1721, 1729, 1738–1739, 1744 гг.; был переведен и издан во Франции (1-й – в Гааге – «Mémoires pour servir à l’histoie de l’Empire Russien», затем в Париже) и Англии. В России более чем через 100 лет П. Барсовым были напечатаны выдержки из него: Русский архив, издаваемый при Чертковской библиотеке Петром Бартеньевым. Год 10 (Вып. 34). 1872. Вып. 1–6. Стлб. 1057–1059 и сл.
Русский архив. 1872. Вып. 1–6. Стлб. 1363–1364, 1371–1374.
Леонид (Кавелин), архим. Посещение Воскресенскаго, Новый Иерусалим именуемаго, монастыря высокопреосвященнейшим Михаилом, митрополитом Сербским // Странник. 1869. Декабрь. IV. С. 99.
Муравьев А. Н. Путешествие по святым местам русским. СПб., 1846.
Лермонтов М. Ю. Соч.: в 4 т. М., 1988. Т. 1. С. 53–54. На полях рукописи помечено: «В Воскресенске. Написано на стенах [пустыни] жилища Никона. 1830 г.»; «Там же в монастыре».
Никон (Рклицкий), архиеп. Митрополит Антоний Храповицкий и его время. Киев, 2003. Кн. I. С. 205.
Царский Вестник. № 86.
Никон (Рклицкий), архиеп. Указ. соч. Кн. I. С. 208–212; здесь – с. 220–223.
Возстановленная истина: Лекция Высокопреосвященнейшего Антония, архиепископа Волынского, о святейшем Никоне, Патриархе Всероссийском. Харьков, 1910. С. 29; здесь – с. 247.
Святейший Патриарх часто напоминает в своих трудах: любви начало бытие и конец Христово пришествие: «Но свидетельство совести по силе соблюдающе невредимо, неуязвлено, ко искупившему нас честною Своею кровию Христу Богу распалением любве делы (л. 110об.) благими показующе, вечных благ сподобимся» (см.: Никон, Патриарх. Возражение или Разорение… // Патриарх Никон. Труды. С. 232; «Аще (на поле л. 344 помета: Фил. 239), кое убо утешение о Христе, аще утешение любве, аще кое общение духа, аще кое милование и щедроты, исполните ми любовь, да тоже мудрствуете вси, ту же любовь имуще, единодушни, единомудренни, ничто ж по рвению или тщеславию. Прочее (на поле помета: Фил. 247): Братие, елика суть истина, елика честна, елика праведна, елика чиста, елика любезна, елика (л. 345об.) похвална. Аще что добродетель, аще что похвала. Сия помышляйте, яже и научистеся и приясте, и слыщасте, и видесте, во мне сия творите… (л. 345) …Бывайте убо подобни Богу яко чада возлюбленая, и ходите в любви, яко ж и Христос возлюби нас и предаст Себе за ны прошение и жертву Богови в воню благоухания… Подобни (на поле л. 358 помета: 1Кор. 147) ми бывайте, яко же и аз Христу. Никто (на поле помета: 1Тим. 285) же от юности своея да не нерадит, но образ буди верным в слове, в житии, в любви, в вере, в чистоте» (см.: Никон, Патриарх. Духовные наставления христианину // Там же. С.188:190).
См.: Евлогий (Георгиевский), митр. Путь моей жизни. М., 1994. С. 278–279; здесь – с. 250–251.
Зызыкин М. В. Патриарх Никон: Его государственные и канонические идеи. М., 1995 (репринт). Ч. 1. С. 6.
См.: Зызыкин М. В. Указ. соч. С. 8.
См.: Зеленская Г. М. Почитание памяти Святейшего Патриарха Никона в XVII–XX веках // Никоновские чтения. М., 2002. С. 94.
См.: Лев (Лебедев), прот. Москва патриаршая. М., 1995. С. 161, 343.
Храм Спаса-Преображения Господня в Бужарово был передан Русской Православной Церкви в 1991 г. в жалком, растерзанном виде, с намеком на восстановительные работы в виде строительных лесов. До этого храм долгое время использовался как колхозный морозильник. Настоятелем храма стал о. Николай (Гусаков), прежде бывший главным инженером гидроузла им. Куйбышева. В церковном его служении помогала вся семья – жена Светлана, дети Павел и Елена. В храме возобновилось регулярное богослужение, появились постоянные прихожане, постепенно храм был восстановлен.
В. Ш.: в настоящее время идет процесс активного художественного осмысления жизнедеятельности Патриарха Никона: создано более семи памятников; И. Черапкин и В. Петров изготовили памятные медали с изображениями Патриарха Никона; нами разработан ряд иконографических изображений Патриарха Никона, которые выполнены художниками-иконописцами Ф. Сынтиным и Ю. Лукьяновым, К. Струниным (опубликованы в кн. «Патриарх Никон. Труды» и настоящем сб.); в Мстерском художественно-промышленном училище им. Ф. А. Модорова под руководством Н. Струниной и в Холуйском художественном училище им. И. Н. Харламова под руководством М. Печкина создана коллекция лаковых миниатюр, переданная в дар музею «Новый Иерусалим» В. Шмидтом; самая большая коллекция житийных сюжетов создана художником-иконописцем М. Тодоровой (опубликованы в ч. I наст. изд. – М., 2009); созданы портретные образы: «Святейший Никон, Патриарх Московский и всея России» (миниатюра, финифть; художник – С. Никифоров), «Патриарх всея Руси Никон» (художник – И. Сидельников; Галерея Дома Правительства Республики Мордовия, г. Саранск), «Святейший Патриарх Никон» (художник – А. Кияйкин; репродукции четырех картин опубликованы в кн.: Доронин А. Тени колоколов: Роман. Саранск, 2005); «Строительство “Нового Иерусалима”» (художник Б. Черушев, изображение опубликовано в: Патриарх Никон. Труды». С. 658) и др.
Наместником монастыря с 1995 по 2008 г. являлся архим. Никита (Латушко; родился в п. Лоев Гомельской обл., Респ. Беларусь; б. начальник Духовной миссии Русской Православной Церкви в Иерусалиме); секретарем монастыря с 1997 по 2004 г. являлся послушник Виктор (Шмидт; родился в г. Пинске, Респ. Беларусь), в настоящее время – послушник Василий (Мартысевич; родился в г. Кобрин, Респ. Беларусь); по приглашению архимандрита Никиты Минские духовные школы ежегодно направляли для несения клиросного послушания своих учащихся (среди которых: С. Цап, В. Асадчий, А. Полещук, В. Петлицкий, А. Брильков, Д. Карвецкий и др.), а для оказания богослужебной помощи возрождающейся обители приезжали клирики Белорусского экзархата Русской Православной Церкви.
См.: наст. изд. Ч. I. С. 1156.
См.: наст. изд. Ч. I. С. 1156. Еще в начале XVIII в. в Ярославле, на месте кончины Святейшего Никона, планировалось установить мемориальный памятник – храм-часовню во имя прп. Александра Свирского, но разработанный проект так и не был осуществлен. На сегодняшний день уже известны более семи проектов памятника Патриарху Никону; их авторы: И. Черапкин, Ю. Злотя, Н. Филатов, С. Полегаева, Ж. Орловская и О. Уваров; В. Шмидт, К. Струнин и А. Алубаев представили проекты памятников на конкурсе-выставке в Музее изобразительных искусств им. С. Эрзи (Саранск, Республика Мордовия); работа В. Петрова выставлена в Историко-архитектурном и художественном музее «Новый Иерусалим» (Истра, Московская обл.).
До 1930 г. – г. Воскресенск.
См.: Димов В. А. Путешествие в Новый Иерусалим: Книга о разнообразии Истринской земли, ее святых, героях и ученых. М., 2005.
Плита толщиной около 9 см, которая покрывала каменный гроб, была отпилена от камня, драгоценного алебастра, который повелением Патриарха Никона был привезен с Белого моря в Воскресенский монастырь для церковных нужд, а после кончины Святейшего Царь Феодор Алексеевич указал из этого камня истесать гроб для усопшего Святителя. Тогда-то и была сначала отпилена двухвершковая плита, а затем камень растесан в глубину так, чтобы мог вместить дубовый гроб с телом покойного. Каменный гроб был опущен в собственноручно выкопанный Патриархом ров, поверх же него сведено кирпичное навершие, и все покрыто церковным помостом [см.: Леонид (Кавелин), архим. Историческое описание ... Воскресенского ... монастыря. С. 55].
Повзрослев, девочка стала историком, изучала монастырскую историю, работала в Краеведческом музее, разместившемся в стенах монастыря, и до сих пор собирает материалы о святой обители и ее основателе, о выросшем вокруг стен городе.
В доме матери Н. Ф. Грузова до закрытия монастыря всегда останавливались паломники; его сын-школьник по их просьбам заводил часы на монастырской колокольне. Муж внучки Н. Ф. Грузова В. И. Вышегородцев стал ученым-историком, водил своих студентов с экскурсиями по монастырю и написал научный труд о Патриархе Никоне (Царь Алексей Михайлович и Патриарх Никон // Великие государственные деятели России. М., 1996). Теперь уже правнучка Н. Ф. Грузова разбирает архив своего рано умершего отца, чтобы издать неопубликованные материалы о Святейшем Патриархе.
Река Истра в пределах Русской Палестины.
См. наст. сб. – ч. I. С. 1156–1159.
Патриаршество в России: К 75-летию со дня рождения Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II / авт.-сост. А. Г. Парменов. М., 2004. С. 95–96.
Составлено по материалам: Зызыкин М. В. Патриарх Никон: Его государственные и канонические идеи; Лобачев С. В. К вопросу о ранней биографии Патриарха Никона
См. в III части наст. сб.: Шмидт В.В. Материалы и сочинения о Патриархе Никоне и о некоторых при них страстях; Он же. Предисловие //Патриарх Никон. Труды; Он же. Никон, милостию Божией Патриарх: от господствующей идеологии к историческому наследию // Социальные конфликты в России XVII– XVIII веков. Саранск, 2004. С. 24–69; Он же. Никоноведение: библиография, историография и историософия // Государство, религия, Церковь в России и за рубежом. 2008. № 3–4 (44–45). С. 96–227
См., например: Алексеев (Алексеев Петр). Рассказ Петра Великого о Патриархе Никоне: Всеподданнейшее письмо протоиерея Алексеева к Императору Павлу Петровичу (1797 г.) // Русский Архив. 1863. Вып. 8–9.
С уточнениями и дополнениями; см. раннюю публикацию: Дорошенко С. М. Настоятели Воскресенского монастыря Нового Иерусалима: живая история обители // Государство, религия, Церковь в России и за рубежом. 2009. № 2 (спецвыпуск): Поруганно-порушенная и восстанавливаемая святыня: Святого Живоносного Воскресения Христова монастырь Нового Иерусалима (наследие Патриарха Никона). С. 127–176.
Софроний (Сахаров), архим. Рождение в царство непоколебимое. М., 2000. C. 40.
Сидоров Сергий, свящ. Записки: Встречи с замечательными деятелями Русской Церкви // Златоуст: Духовно-просветительский журнал Товарищества русских художников. 1993. Вып. 2. С. 302–307.
РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140а. Ч. 3. Д. 149а. Л. 152.
Там же. Ф. 1625. Оп. 1. Ед. хр. 71. Л. 1.
Гиббенет Н. Историческое изследование дела Патриарха Никона: в 2 т. Т. 1. СПб., 1882. С. 48
См. наст. сб. Ч. I. С. 785.
Леонид (Кавелин), архим. Историческое описание ... Воскресенского ... монастыря. С. 146.
Там же.
См. ч. I наст. сб. С. 996–997.
Леонид (Кавелин), архим. Историческое описание ... Воскресенского ... монастыря. С. 145. В современном описании некрополя Воскресенского монастыря (Зеленская Г. М., Святославский А.В. Некрополь Нового Иерусалима: Историко-семиотическое исследование. М., 2006. С. 277) указана дата смерти архимандрита Акакия – 25 декабря 1669 г. (без ссылки на документ). В интернет-ресурсах встречается дата 25 декабря 1670 г.
Записки Отделения русской и славянской археологии Императорского русского археологического общества. СПб., 1861. Т. 2. С. 611. См. также наст. сб. Ч. I. С.1027.
У архимандрита Леонида (Кавелина) (указ. соч. С. 756–757) эта расписка опубликована с явной ошибкой в дате – 172 г. (1664).
Леонид (Кавелин), архим. Указ. соч. С. 126–127.
РГАДА. Ф. 1625. Оп. 1. Ед. хр. 71; Леонид (Кавелин), архим. Историческое описание ... Воскресенского ... монастыря. С. 146–153.
Леонид (Кавелин), архим. Историческое описание ... Воскресенского ... монастыря. С. 146.
Там же. С. 145.
РГАДА. Ф. 1625. Оп. 1. Д. 71. Л. 43.
Леонид (Кавелин), архим. Указ. соч. С. 127. В пользу этой версии говорит и указание Строева о пребывании архимандрита Феодосия в Костромском монастыре в период 1670–1674 гг. – см.: Строев П. Списки иерархов и настоятелей монастырей российской церкви (далее: Списки иерархов…). СПб., 1877 (репринт: М., 2007). С. 853.
Строев П. Списки иерархов… С. 613.
Леонид (Кавелин), архим. Указ. соч. С. 553.
Леонид (Кавелин), архим. Историческое описание ... Воскресенского ... монастыря.
Леонид (Кавелин), архим. Месяцеслов… С. 33.
Там же. С. 146.
См.: Иванова И. А. История древнерусского города Тихвина, рассказанная иконописцем
Леонид (Кавелин), архим. Месяцеслов… С. 45.
Надписание церковнаго устава и монастырскаго чина // Никон, Патриарх. Труды. С. 757.
Леонид (Кавелин), архим. Историческое описание ... Воскресенского ... монастыря. С. 128; Истринская земля. М., 2004. С. 77
Леонид (Кавелин), архим. Историческое описание ... Воскресенского ... монастыря. С. 92–98.
Там же. С. 638–648.
РГАДА. Ф. 1183. Оп. 1. Ч. 49. 1912. Ед. хр. 158. Л. 39.
РГБ ОР. Ф. 310 (собр. Ундольского). № 415. Л. 463–466.
Там же. Л. 467–468.
Леонид (Кавелин), архим. Месяцеслов… С. 128, 146.
Строев П. Списки иерархов… С. 840.
Поселянин Е. Богоматерь: Описание Ее земной жизни и чудотворных икон. Кн. 1. М., 2002. С. 672.
Интернет-доступ: http://www.raifa/ru/histori/
Книга Большому Чертежу. М.; Л. 1950. С. 189.
Михайлова Н. М. Воскресенский монастырь, именуемый Новый Иерусалим (далее: Воскресенский монастырь…) // Глаголы жизни. 1992. № 2. С. 44.
Интернет-доступ: http://www.astrakhan-ortodox.astranet.ru
Татищев В. И. История Российская. М.; Л., 1962. Т. 1. С. 107–119.
Даты соответствуют изданию: Мануил (Лемешевский), митр. Русские православные иерархи. Т. II. С. 472; Раздорский А. И. Архиереи Курского края: XVII–XX вв.: Краткий биографический справочник. Курск, 2004 (интернет-доступ: http://www.old.kurskcity.ru/book/razdorsky/r003.html) здесь приводятся иные даты – хиротония 11 января, увольнение на покой 1 сентября.
По упразднении Патриаршества Москва не имела собственного своего пастыря, а управляема была епархиальными архиереями, случайно жившими в Москве и присутствовавшими в Синодальной конторе под главным ведомством Св. Синода. В период с 22 февраля 1711 г. по 1 сентября 1742 г. Московская епархия управлялась Коллегией, подчиненной Синодальной конторе. 1 сентября 1742 г. был поставлен особый епархиальный архиерей архиепископ Иосиф Волчанский, переведенный из Могилевских епископов.
РГАДА. Ф. 1625. Оп. 1. Ед. хр. 71. Л. 3 об.
Зеленская Г. Новый Иерусалим: Путеводитель. М., 2003. С. 45.
Интернет-доступ: http://www.kiev-orthodox.org
Михайлова Н. М. Воскресенский монастырь… // Глаголы жизни. 1992. № 2. С. 44.
РГАДА. Ф. 1625. Оп. 1. Ед. хр. 71. Л. 3 об.
См. описание визита Императрицы Елизаветы Петровны: Крючкова М. А. Императрица Елизавета Петровна и Новый Иерусалим: Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь в середине XVIII века // Московский журнал. 2009. № 10 (интернет-доступ: http://www.mosjour.ru).
Леонид (Кавелин), архим. Месяцеслов… С. 15.
Там же. С. 6.
Зеленская Г. Новый Иерусалим: Путеводитель. С. 220.
Леонид (Кавелин), архим. Месяцеслов… С. 11.
Леонид (Кавелин), архим. Историческое описание ... Воскресенского ... монастыря. С. 85.
Краткое историческое сказание о начале и устроении Воскресенского Новый Иерусалим именуемого монастыря. М., 1872. С. 31.
Крючкова М. А. Императрица Елизавета Петровна… // Московский журнал. 2009. № 10.
РГАДА. Ф. 1625. Оп. 1. Ед. хр. 71. Л. 38.
РГАДА. Ф. 1625. Оп. 1. Ед. хр. 71. Л. 3об.
Судьба митрополита Арсения в своей исповеднической ипостаси удивительно перекликается с судьбой Патриарха Никона. На последней сессии Поместного Собора Русской Православной Церкви, состоявшейся 15/28 июня 1918 г., митрополит Арсений был восстановлен в сущем сане, а на Архиерейском Соборе 2000 г. причислен к лику святых. См.: Иконников В. С. Арсений Мацеевич: Историко-биографический очерк // Русская старина. 1879. Т. XXIV. С. 731–752; Попов М., свящ. Арсений Мацеевич, митрополит Ростовский и Ярославский. СПб., 1905 [репринт: Изгнанный правды ради: Жизнь святителя Арсения (Мацеевича). М., 2001].
Малицкий Н. В. История Переславской епархии (1744–1748). Вып. 1. Владимир, 1912; цит. по: Паряев А. Митрополит Сергий (Страгородский): неизвестная биография – интернет-доступ: http://true-orthodox.narod.ru/library/story/biograf3.html
РГАДА. Ф. 1625. Оп. 1. Ед. хр. 71. Л. 38. Л. 3 об.
Леонид (Кавелин), архим. Месяцеслов… С. 17.
Зеленская Г. Новый Иерусалим. Путеводитель. С. 338.
Леонид (Кавелин), архим. Указ. соч. С. 34.
Мануил (Лемешевский), митр. Русские православные иерархи. Т. II. С. 430–432.
Мануил (Лемешевский), митр. Русские православные иерархи. Т. II. С. 511–512.
Архиерейский дом с 1803 г. располагался в деревянном доме, выстроенном для губернатора недалеко от Потемкинского дворца, и архиереи пользовались обширным потемкинским садом. Потемкинский дворец в конце концов облюбовали люди духовного ведомства в качестве бесплатного постоялого двора, въезжая на лошадях с повозками в поросшие густым бурьяном залу и комнаты; к 20-м гг. XIX в. в руинах дворца образовалась своего рода ставленническая ярмарка с ежедневным базаром – см.: Яворницкий Д.И. История города Екатеринослава. Днепропетровск, 1937. C. 54–55. См. сокращенное издание – интернет-доступ: www.gorod.dp.ua
Строев П. Списки иерархов… С. 168.
Леонид (Кавелин), архим. Месяцеслов… С. 8.
Зеленская Г. Новый Иерусалим: Путеводитель. С. 294.
РГАДА. Ф. 1625. Оп. 1. Ед. хр. 15.
Там же. Ед. хр. 71. Л. 38.
Патриарх Никон. Труды. С. 802.
РГАДА. Ф. 1625. Оп. 1. Ед. хр. 71. Л. 38.
Мануил (Лемешевский), митр. Русские православные иерархи. Т. I. С. 295; интернет-ресурс: http://dic. academic.ru
См.: Соколов Е. И. Библиотека Императорского Общества истории и древностей российских. Вып. 2. М., 1905. С. 236.
См.: Дарна – частица Святой земли. М., 2009. С. 132–133.
В их числе: «Сионский вестник», «Толкование Апокалипсиса свидетеля Христова» Генриха Штиллинга, его же «Тоска по отчизне», «Угроз Световостоков».
В начале XIX в. в обществе российских столиц получила распространение от масонов теория о возможности прямого контакта и единения человека с Богом, для чего достаточно лишь сильного желания, чтобы Иисус Христос «вошел в сердце человека и основал там свое царство». Духовными отцами и пророками этого направления были популярные в Европе писатели-мистики Я. Беме, М. Гийон, К. Эккартсгаузен, И. Г. Юнг-Штиллинг. На волне новых идей появились новые религиозные объединения, секты Е. Ф. Татариновой, Е. Н. Котельникова. Издатель «Сионского вестника» А. Ф. Лабзин был членом секты Е. Ф. Татариновой, начавшей свою работу в 1817 г. в Михайловском замке. В нее входил и кн. Голицын. Главной особенностью этой секты были пророчества. В обществе существовал большой интерес к пророчествам, которого не избежал и Император Александр I. В 1815 г. во Франции он слушал предсказания В. Ю. Крюденера о его высшей миссии, встречался с И. Г. Юнгом-Штиллингом, пророчествовавшем об уже наступившем Апокалипсисе. См.: Влияние мистицизма на русскую церковно-богословскую литературу в первой четверти XIX столетия // Странник: Духовный журнал современной жизни, науки и литературы. 1915. Август-сентябрь. II; Кондаков. Ю. Либеральное и консервативное направления в религиозных движениях в России первой четверти XIX века. СПб., 2005.
Впрочем, нашим современникам в речи владыки при вступлении на Казанскую кафедру, откуда взята цитата, не видится ничего оригинального, за исключением того, что она соответствует правилам семинарской школы – см. сайт Казанской Духовной семинарии РПЦ: http://kds.eparhia.ru/bibliot/ istoriakazeparhii/arhipastyri/arhipast 8/
Мануил (Лемешевский), митр. Русские православные иерархи. Т. III. М., 2004. С. 188.
Корсунский И. Филарет // Русский биографический словарь. СПб., 1901. С. 79.
См.: Козельская Оптина пустынь и ее значение в истории русского монашества // Чтения в Обществе любителей духовного просвещения. 1893. Сентябрь. С. 353–354.
Интернет-доступ: http://www.raifa/ru/histori/
РГА ВМФ. Ф. 315. Оп. 1. Д. 1891. Л. 2–3; http://prepodobnii.org
Иоанно-Предтеченский храм не сохранился. В сентябре 2008 г. останки архиепископа Афанасия были обретены при раскопках этого храма.
РГАДА. Ф. 1183. Оп. 1. Ч. 34. 1838. Ед. хр. 45.
Древности государства Российского. М., 1849. Отд. I. С. 140–144. Рис. 94; С. 155. Рис. 103; С. 175. Рис. 112.
Снегирев И. Новоспасский Ставропигиальный монастырь в Москве. М., 1863. С. 58.
См.: Павлович М. К. К истории вкладов в Спасо-Яковлевский монастырь в XIX в. // История и культура Ростовской земли: 1999. Ростов, 2000. С. 70–75. После закрытия монастыря коллекция поступила в Ростовский музей. Сохранился портрет Патриарха Никона. В результате реставрации 1991 г. облик Патриарха на портрете стал другим (до реставрации он восходил к парсуне Патриарх Никон с клиром); Колбасова Т. В. Портретная галерея Ростовского Спасо-Яковлевского монастыря // http//www.rostmuseum. ru/publication/srm/012/kolbasova01.html
См.: Муравьев А. Н. Мои воспоминания. М., 1913. С. 54–55; Письма митрополита Московского Филарета к А.Н.М. С. 47.
Письма митрополита Московского Филарета к А.Н.М. С. 57–59.
РГАДА. Ф. 1183. Оп. 1. Ч. 34. 1839. Ед. хр. 149. Как сказано выше, в письме митрополита Филарета указана другая дата освящение часовни – 12 августа.
Там же. Ед. хр. 156.
РГАДА. Ф. 1183. Оп. 1. Ч. 34. 1839. Ед. хр. 156.
Там же.
Там же. Ед. хр. 193.
Там же. Ед. хр. 233.
Муравьев А. Н. Мои воспоминания. С. 38.
Мануил (Лемешевский), митр. Русские православные иерархи. Т. I. С. 32.
Интернет-доступ: http://orth-mission.org.ua
РГАДА. Ф. 1183. Оп. 1. Ч. 45. 1902. Ед. хр. 202.
Письма митрополита Московского Филарета к А.Н.М. С. 207.
Там же. С. 245.
РГАДА. Ф. 1625. Оп. 1. Ед. хр. 215.
Письма митрополита Московского Филарета к А.Н.М. С. 344–345.
Там же. С. 407.
Мануил (Лемешевский), митр. Русские православные иерархи. Т. I. С. 32.
Герцен А. И. Былое и думы. М., 1958. Ч. 1. С. 150.
Письма митрополита Московского Филарета к А.Н.М. С. 98.
Там же. С. 407.
Письма митрополита Московского Филарета к А.Н.М. С. 405.
Там же. С. 408.
У Строева – в 1852 г. из настоятелей Казанского Спасо-Преображенского монастыря (см.: Строев П. Списки иерархов… С. 148).
Письма митрополита Московского Филарета к А.Н.М. С. 413.
Письма Филарета, митрополита Московского и Коломенского, к высочайшим особам и разным другим лицам, собранные и изданные архиепископом Тверским и Кашинским Саввою. Ч. 2. Тверь, 1888. С. 32–33.
Там же. С. 37.
Письма Филарета, митрополита Московского и Коломенского, к высочайшим особам и разным другим лицам, собранные и изданные архиепископом Тверским и Кашинским Саввою. Ч. 2. С. 37–38.
Строев П. Списки иерархов… С. 343.
Лебедев Е. М. Спасский монастырь в Казани: Историческое описание. Казань, 1895. С. 79, 146.
См.: Краткое жизнеописание и ученые труды архимандрита Амфилохия, настоятеля Данилова монастыря в Москве. М., 1887. С. 4–5.
РГАДА. Ф. 1605. Оп. 1. Ед. хр. 6102.
Там же. Ф. 1183. Оп. 1. Ч. 45. 1902. Ед. хр. 202.
Татищев С. С. Детство и юность Великого Князя Александра Александровича: в 2 кн. / подгот. текста С. С. Атапина, В. М. Лупановой; вступит. ст. Н. А. Малеванова // Великий князь Александр Александрович: Сб. документов. М., 2002. С. 287.
См.: Ставропигиальный Воскресенский «Новый Иерусалим» именуемый монастырь: Историческое описание. М., 1914. С. 30.
РГАДА. Ф. 1183. Оп. 1. Ч. 46. 1905. Ед. хр. 149.
РГАДА. Ф. 1183. Оп. 1. Ч. 45. 1902. Ед. хр. 202.
РГАДА. Ф. 1183. Оп. 1. Ч. 45. 1902. Ед. хр. 202.
См.: Дмитриевский А. А. Очерк жизни и деятельности архимандрита Леонида (Кавелина), третьего начальника Русской Духовной Миссии в Иерусалиме, и его труды по изучению Православного Востока / с предисл. Н. Н. Лисового // Россия в Святой Земле. М., 2000. Т. 2. С. 379–543.
РГАДА. Ф. 1183. Оп. 1. Ч. 46. 1905. Ед. хр. 144.
См.: Архиепископ Никон (Рождественский). На страже духа: Сб. писем / сост., предисл. иеродиакона Никона (Париманчука). М., 2007. С. 18–30, 44–48.
РГАДА. Ф. 1625. Оп. 1. Д. 32.
РГАДА. Ф. 1625. Оп. 1. Ед. хр. 34: Монастырская опись 1875 года.
РГАДА. Ф. 1183. Оп. 1. Ч. 45. 1902. Ед. хр. 202.
Там же. Ч. 46. 1903. Ед. хр. 129а. Л. 4.
Русская старина. 1889. № 4. С. 499.
Геннадий (Беловолов), прот. Архимандрит Вениамин (Поздняков) – первый духовный наставник игуменьи Таисии Леушинской // Никоновские чтения в музее «Новый Иерусалим»: Вып. 2 / сост. Г. М. Зеленская. М., 2005. С. 263.
Чехов А. П. Полн. собр. соч. и писем. М., 1974. Т. 1:1875–1886. Письма. № 43.
Там же. № 76.
См.: Степанов С. Черная сотня в России: 1905–1914. М., 1992 (интернет-доступ: http://www.rusk.ru).
Белокуров С. А. Дела Святейшаго Никона Патриарха, паче же рещи чудеса врачебная // ЧОИДР. М., 1887. Кн. 1. Смесь. С. 1–149; Крестный путь Патриарха Никона / сост. Н. А. Колотий. М., 2000. С. 102; Патриарх Никон. Труды. С. 875–884.
РГАДА. Ф. 1183. Оп. 1. Ч. 46. 1904. Ед. хр. 207.
Жизнь Святейшаго Никона Патриарха Всероссийскаго (с 9-ю рисунками). М., 1878.
Ставропигиальный Воскресенский «Новый Иерусалим» именуемый монастырь: Историческое описание. С. 53.
РГАДА. Ф. 1183. Оп. 1. Ч. 42. 1889. Ед. хр. 132.
Там же. Ч. 43. 1891. Ед. хр. 88.
РГАДА. Ф. 1183. Оп. 1. Ч. 42. 1889. Ед. хр. 126.
Записки и письма Леушинской игумении Таисии / сост. А. Н. Стрижев. М., 2000. С. 208–211.
РГАДА. Ф. 1183. Оп. 1. Ч. 42. 1890. Ед. хр. 144.
Никон (Рклицкий), архиеп. Митрополит Антоний (Храповицкий) и его время 1836–1936. Кн. I. Н. Новгород, 2003. С. 153.
РГАДА. Ф. 1183. Оп. 1. Ч. 43. 1891. Ед. хр. 29.
Там же. 1892. Ед. хр. 11.
Там же. Ч. 42. 1890. Ед. хр. 99. Л. 14.
Там же. Ч. 43. 1891. Ед. хр. 86.
Там же. Ед. хр. 121.
Там же. Ч. 43. 1892. Ед. хр. 118.
Там же. 1891. Ед. хр. 94. Л. 12.
РГАДА. Ф. 1183. Оп. 1. Ч. 43. 1892. Ед. хр. 19.
Там же. 1893. Ед. хр. 7.
Там же. 1892. Ед. хр. 73. Л. 8.
Там же. Ед. хр. 73.
Там же. 1893. Ед. хр. 147.
Там же. Ед. хр. 3.
РГАДА. Ф. 1183. Оп. 1. Ч. 43. 1893. Ед. хр. 69.
Там же. 1891. Ед. хр. 94. Л. 16–22.
Там же. 1894. Ед. хр. 6. Л. 153, 165.
Никон (Рклицкий), архиеп. Митрополит Антоний (Храповицкий) и его время 1836–1936. Кн. I. С. 206–212.
РГАДА. Ф. 1183. Оп. 1. Ч. 43. 1893. Ед. хр. 84. Л. 1, 11.
Там же. Ед. хр. 116.
Там же. Ед. хр. 55.
Там же. Ед. хр. 156.
Там же. Ч. 45. 1902. Ед. хр. 185.
РГАДА. Ф. 1183. Оп. 1. Ч. 45. 1902. Ед. хр. 185.
РГАДА. Ф. 1183. Оп. 1. Ч. 45. 1900. Ед. хр. 197. Л. 5–5 об.
Там же. Ч. 45. 1902. Ед. хр. 186.
Там же. Ед. хр. 202.
РГАДА. Ф. 1183. Оп. 1. Ч. 46. 1903. Ед. хр. 129а. Л. 34.
Там же. Ед. хр. 115.
Там же. Ед. хр. 152.
Там же. Ед. хр. 154.
РГАДА. Ф. 1183. Оп. 1. Ч. 46. 1903. Ед. хр. 129а.
Там же. 1904. Ед. хр. 67.
Там же. Ч. 47. 1906. Ед. хр. 209.
Там же. Ч. 49. 1911. Ед. хр. 119.
РГАДА. Ф. 1183. Оп. 1. Ч. 46. 1904. Ед. хр. 167.
Там же. Ч. 47. 1906. Ед. хр. 90.
Там же. Ч. 46. 1905. Ед. хр. 34.
Серафим, архим. Слово в мироварной палате Московского Кремля при наречении во епископа Сухумского // Да будет воля Твоя: Житие и труды священномученика Серафима (Чичагова) (далее: Да будет воля Твоя...). М., 2003. С. 354. Подробное изложение пребывания архимандрита Серафима настоятелем Ново-Иерусалимского монастыря см: Дорошенко С. Архимандрит Серафим – настоятель Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря: К столетию обновления обители // Ныне и присно. 2004. № 2. С. 44–65.
Цит. по: Да будет воля Твоя… С. 48, 770.
Там же. Ед. хр. 144.
Там же. Ч. 47. 1906. Ед. хр. 161; 1907. Ед. хр. 16.
Там же. 1906. Ед. хр. 184.
Там же. Ч. 46. 1905. Ед. хр. 156.
РГАДА. Ф. 1183. Оп. 1. Ч. 47. 1906. Ед. хр. 161.
Там же.
Там же. Ед. хр. 90.
Там же. 1907. Ед. хр. 93.
Дворжанский А. И. История Пензенской епархии. Кн. 1: Исторический очерк. Пенза, 1999. С. 205–206.
Там же. С. 206.
См. там же. С. 206–209.
Там же. С. 209.
РГИА. Ф. 797. Оп. 76. 3. Отд. 5 стол. Д. 10. Л. 563. Цит. по: Дворжанский А. И. История Пензенской епархии. Кн. 1. С. 210.
Пензенские епархиальные ведомости. 1907. № 17. Неофициальная часть. С. 808. Цит. по: Дворжанский А. И. История Пензенской епархии. Кн. 1. С. 209
РГАДА. Ф. 1183. Оп. 1. Ч. 47. 1907. Ед. хр. 115.
Там же. 1908. Ед. хр. 14.
Там же. Ед. хр. 19.
Епископ Петр окончил Московский университет, в 1884 г. получил степень кандидата богословия в Московской Духовной академии и в том же году принял постриг; был инспектором Вифанской, ректором Владимирской и Киевской Духовных семинарий, исполнял обязанности инспектора Московской Духовной академии. 19 сентября 1893 г. хиротонисан во епископа Сухумского, с 1895 г. – епископ Сумский, викарий Харьковской епархии, с 20 мая 1899 г. – епископ Смоленский о Дорогобужский. Уволен на покой по болезни 15 февраля 1908 г.
Митрополит Андрей (Шептицкий) полагал, что признание православными папского примата при сохранении восточного обряда позволит вернуться к состоянию Церкви до разделения 1054 г. Воодушевленный выходом в России 17 апреля 1905 г. Манифеста об укреплении основ веротерпимости и полученными от папы Льва XIII широчайшими полномочиями в качестве главы российских униатов, он вступил в переписку с православными иерархами по вопросу о церковном единстве, неоднократно инкогнито приезжал в Россию, в том числе и в 1907 г. Деятельность его попала в поле зрения российских властей и вызвала крайнее неодобрение. Наиболее оживленную переписку еще с 1903 г. митрополит Андрей вел с епископом Волынским и Житомирским Антонием (Храповицким), который вначале воспринял его дружелюбно, но быстро понял, с кем имеет дело, и расценивал Греко-католическую церковь как хорошо организованную банду проходимцев. См.: Петрушко В. И. Деятельность униатского митрополита Андрея Шептицкого по распространению католицизма восточного обряда в России в период между революцией 1905 г. и первой мировой войной // Ежегодная конференция православного Свято-Тихоновского богословского института. М., 2001 (интернет-доступ: pstgu.ru/dounload/sbornik_00.doc); Митрополит Андрей Шептицький и греко-католики в Росii / под ред. Юрия (Георгия) Аввакумова. Кн. 1: Документи и материали 1899–1917. Львов, 2004.
Об архимандрите Иосифе Софронове см.: За Христа пострадавшие. Кн. 1: А–К. М., 1997. С. 523–524; Последний монах Нового Иерусалима // http://ierusalim. ru/monastir16. php; Пустынножитель XX века – последний монах Нового Иерусалима
РГАДА. Ф. 1183. Оп. 1. Ч. 47. 1907. Ед. хр. 93. Л. 131.
РГАДА. Ф. 1183. Оп. 1. Ч. 46. 1903. Ед. хр. 115.
Игумения Серафима / авт.-сост. О. И. Павлова. М., 2005. С. 14.
РГАДА. Ф. 1183. Оп. 1. Ч. 49. 1911. Ед. хр. 19.
Там же. Ед. хр. 19; Ф. 1625. Оп. 1. Ед. хр. 44.
РГАДА. Ф. 1183. Оп. 1. Ч. 46. 1903. Ед. хр. 115.
Там же. Ч. 48. 1909. Ед. хр. 105.
Там же. Ч. 49. 1911. Ед. хр. 119.
См.: Крючкова М. А. Словарь мастеров Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря XVIII – начала XX в. // Никоновские чтения в музее «Новый Иерусалим». М., 2002. С. 287.
РГАДА. Ф. 1183. Оп. 1. Ч. 48. 1910. Ед. хр. 158.
Там же. Ед. хр. 156.
РГАДА. Ф. 1183. Оп. 1. Ч. 48. 1910. Ед. хр. 156.
Там же.
Там же. Ч. 49. 1911. Ед. хр. 19.
Там же.
РГАДА. Ф. 1183. Оп. 1. Ч. 49. 1913. Ед. хр. 225.
Русская Голгофа. Бутово: Месяцеслов-синодик. Храм Святых Новомучеников и Исповедников Российских в Бутове, 2004. С. 147.
Вслед за владыкой из Нового Иерусалима в Калугу, а затем в Воронеж под его духовное руководство перешли его духовные чада, некая Мария Сергеевна с двумя своими спутницами. Эта Мария Сергеевна, знатного происхождения, высокообразованная, в свое время избрала путь духовного подвига: вступила в духовный брак с вдовцом, воспитав его дочь, они определили ее в монастырь, принял монашество муж, а Мария Сергеевна ушла в Новый Иерусалим с двумя своими последовательницами. В Воронеже они убирались в соборе. После кончины преосвященного Тихона они стали окормляться у сщмч. архиепископа Петра (Зверева), который постриг ее и одну из ее спутниц (третья была юродивая) сразу в мантию. После ареста владыки Петра она руководствовалась у о. Иоанна Андриевского, много лет служившего секретарем воронежских архиереев. Последние 25 лет жизни не владела ногами и сидела, живя в строгом подвиге, помогая бедным и утешая катакомбных монахинь и мирян, обличая сергианскую церковь и богоборческую власть. Схиму с именем Максимила приняла от сщмч. Антония.
Интернет-доступ: http://ru.wikipedia.org
Епископ Антоний (Смирницкий) канонизирован в 2003 г.
5 марта 1917 г. он телеграфировал в Св. Синод: «Манифест [об отречении Императора Николая II] по городу объявлен. Объявлять ли с церковного амвона и по епархии. Ожидаю распоряжений Св. Синода».
РГАДА. Ф. 1183. Оп. 1. Ч. 49. 1913. Ед. хр. 225.
РГАДА. Ф. 1183. Оп. 1. Ч. 49. 1912. Ед. хр. 158.
Там же.
Там же. Л. 22, 44.
Там же. Л. 62.
Там же. Л. 81, 82.
РГАДА. Ф. 1183. Оп. 1. Ч. 49. 1912. Ед. хр. 167.
Там же. 1913. Ед. хр. 104. Л. 14.
Там же. 1912. Ед. хр. 158. Л. 44.
Там же. 1913. Ед. хр. 104. Л. 34.
Там же. Ед. хр. 188. Л. 13, 15.
Там же. Л. 21.
РГАДА. Ф. 1183. Оп. 1. Ч. 49. 1913. Ед. хр. 65.
Там же. Ед. хр. 117.
Там же. 1912. Ед. хр. 158. Л. 44.
Там же. 1913. Ед. хр. 154.
РГАДА. Ф. 1183. Оп. 1. Ч. 49. 1913. Ед. хр. 266.
Там же. 1915. Ед. хр. 24.
Там же. 1914. Ед. хр. 204. Л. 1.
Там же. Л. 7.
Там же. Ед. хр. 206.
Митрополит Трифон (Туркестанов). Храм Божий – это земное небо / сост. Г. Г. Гуличкина. М., 2006. С. 35–36.
РГАДА. Ф. 1183. Оп. 1. Ч. 49. 1914. Ед. хр. 268.
Там же. Ед. хр. 235.
Там же. Ед. хр. 264.
Там же. 1915. Ед. хр. 15.
Там же. Ед. хр. 24.
РГАДА. Ф. 1183. Оп. 1. Ч. 49. 1916. Ед. хр. 20.
Там же. 1915. Ед. хр. 68.
Там же. 1916. Ед. хр. 104. Л. 4.
Митрополит Трифон (Туркестанов). Храм Божий – это земное небо. С. 25.
См.: Русский паломник. 1914. № 35; 1915. № 22.
Митрополит Трифон (Туркестанов). Храм Божий – это земное небо. С. 41. Сохранился фронтовой дневник владыки – см.: Митрополит Трифон (Туркестанов). Проповеди и молитвы: Материалы к жизнеописанию / сост. иеромонах Афиноген (Полесский). М., 1999. С. 9–224.
РГАДА. Ф. 1183. Оп. 1. Ч. 49. 1916. Ед. хр. 104. Л. 1, 11–12.
Московские церковные ведомости. 1916. № 27–28. С. 399.
РГАДА. Ф. 1183. Оп. 1. Ч. 49. 1912. Ед. хр. 158. Л. 87–91.
Там же. 1916. Ед. хр. 160.
Митрополит Трифон (Туркестанов). Храм Божий – это земное небо. С. 43.
Письмо к Федотовой Г. Н. от 11 мая 1917 г. // Там же. С. 100.
О событиях 1918–1919 гг., связанных с закрытием монастыря, см.: Истринская земля. М., 2004. С. 73–76; Осипова И. Сквозь огнь мучений и воды слез… Судьба движения «Истинно-православная Церковь». М., 1998. Прилож. 2. С. 198–203 (документы цитируются по: ЦГАМО. Ф. 4612. Оп. 1. Д.146:307).
В этот день в России был введен Григорианский календарь. Следующий день после 31 января 1918 г. стали считать 14 февраля.
Так свидетельствовал иподиакон владыки Трифона – см.: Василий Алексеев. Московские проповедники // Московский журнал. 1992. № 6. С. 58. Впервые воспоминания В. И. Алексеева были напечатаны в 1975 г. в «Новом журнале» (Нью-Йорк, 1975. Кн. 121. С. 200–210).
РГИА. Ф. 831. Оп. 1. № 170. Л. 4–7.
Митрополит Трифон (Туркестанов). Храм Божий – это земное небо. С. 45–46.
Там же. С. 50.
Отзывы епархиальных архиереев по вопросу о церковной реформе. М., 2004. Ч. 1. С. 746.
Нижегородский церковно-общественный вестник (НЦОВ). 1917. Март, 30. № 10. Стб. 157–158; цит. по: Проценко П. Г. Биография епископа Варнавы (Беляева): В небесный Иерусалим: История одного побега. С. 173.
НЦОВ. 1918. Февраль, 10/23. № 3. Стб. 39; цит. по: Проценко П. Г. Указ. соч. С. 172–173.
См.: Российская Церковь в годы революции. (1917–1918): Сборник. М., 1995. С. 4–6.
Архимандрит Августин и прежде подвергался гонениям и по причине поражения части монастырской братии революционными настроениями, и в связи со знакомством с Распутиным: он арестовывался в феврале, когда пытался препятствовать национализации монастырских земель.
Есть сведения, что владыку в декабре казнили революционные матросы, еще до официального объявления «красного террора» погрузившие Севастополь в кровавый хаос самосуда и погромов – см.: X Files Секретные материалы 20 века: Досье. 2009. Спецвыпуск № 9 (39). С. 73.
В январе 2007 г. Гродненская епархия выступила с предложением о канонизации архиепископа Иоакима. На собрании духовенства епархии было принято обращение к Синоду Белорусской Православной Церкви с запросом о возможности канонизации одного из выдающихся святителей Церкви. В связи с этим приведем замечание П. Г. Проценко: «Посмертного почитания архиепископа Иоакима не было среди его бывшей паствы. Он попал в списки новомучеников благодаря книге о. Михаила Польского (Новые мученики российские: Первое собрание материалов. Ч. 1. Джорданвиль, 1947. С. 77–81; репринт: М., издание Товарищества «Светлячок», б/г.). Первый церковный агиограф послереволюционного периода Российской Церкви нарисовал образ архиепископа в основном по официальным статьям в периодической церковной печати начала века, но в статьях такого рода почти все архиереи того времени выглядят на одно лицо: хорошие, борющиеся с сектантством администраторы. Сообщение автора об аресте архиепископа при Временном правительстве не получило подтверждения. Сведения же о смерти владыки от рук большевиков (в кафедральном соборе Севастополя), приведенные о. Михаилом, опирались, очевидно, на непроверенные слухи. Почти через полвека иером. Дамаскин (Орловский) (Мученики, исповедники и подвижники благочестия Российской Православной Церкви XX столетия: Жизнеописания и материалы к ним. Кн. I. Тверь, 1992. С. 168–170), повторив рассказ протопресвитера Польского, добавил лишь свидетельство монахини Серафимы (Булгаковой) о его смерти от рук бандитов, не упомянув важную характеристику нижегородского архипастыря, данную ею же (он ей запомнился величественным духовным сановником, холодным и властным). На каком основании иером. Дамаскин считает архиепископа новомучеником, неизвестно. Так неприметно создаются мифы. Исследовав материалы по истории Нижегородской епархии в период, охватывающий десятые годы двадцатого столетия, опубликованные в повременной печати тех лет, мы находим, что деятельность архиепископа не выделялась из длинного и вполне серого ряда церковных администраторов той эпохи, приведших свою паству в трагический тупик, что обнажилось с первыми порывами революционной бури. Примеры этому можно во множестве найти на страницах нашей книги. Впрочем, вопрос о деятельности этого архиепископа Нижегородского еще подлежит изучению и рассмотрению исследователей» (Проценко П. Г. Биография епископа Варнавы (Беляева): В небесный Иерусалим: История одного побега. С. 174).
Полагаем, будет уместно вспомнить здесь, не в связи с личностью преосвященного Иоакима, но для более полного видения исторической картины, нелицеприятную характеристику епископата, данную последним протопресвитером русской армии и флота протоиереем Георгием Шавельским, присутствовавшем в Синоде с октября 1915 г. до половины апреля 1917 г.: «В предреволюционное время наш епископат в значительной своей части представлял коллекцию типов изуродованных, непригодных для работы, вредных для дела. Тут были искатели приключений и авантюристы, безграничные честолюбцы и славолюбцы, изнеженные и избалованные сибариты, жалкие прожектеры и торгаши, не знавшие удержу самодуры и деспоты, смиренные и «благочестивые» инквизиторы, или же безличные и безвольные на руках своих келейников, «мироносиц» и разных проходимцев, на них влиявших, пешки и т.д., и т.д. Некоторые владыки «талантливо» совмещали в себе качества нескольких типов. Имел наш епископат, конечно, и достойных представителей. Назову некоторых из них: наш Святейший Патриарх Тихон, Новгородский митрополит Арсений [Стадницкий], Владимирский Сергий [Страгородский], Донской архиепископ Митрофан [Симашкевич], Могилевский архиепископ Константин [Булычев] и многие другие были настоящими носителями архиерейского сана. Но и они, думается мне, в своем архиерейском служении были бы еще значительно выше, если бы прошли серьезную школу и имели более счастливую архиерейскую коллегию». Приведем и другие слова о. Георгия, сказанные им в утешение тех, кто может огорчиться: «…в своих воспоминаниях я должен писать то, что было, а не то, чего не было, и руководствоваться древним изречением: “amicus Plato, sed magis amica veritatias”. (Платон – друг мне, но еще больше дорога мне истина)… Сила Божия никогда не умаляется от немощи человеческой» (Шавельский Г., протопресв. Воспоминания последнего протопресвитера русской армии и флота. Т. 2. Н. Х., изд. им. Чехова. 1954. С. 171–172; Федоров В.А. Русская Православная Церковь и государство: Синодальный период. 1700–1917. М., 2003. С. 411, 421–422).
Об архиепископе Иоакиме см. также на сайте Нижегородской епархии: http://www.nne.ru/bishops/b 33.php
Палладий, епископ Пермский и Соликамский. Проповеди: Вып. 2. Пермь, 1912. С. 132–136.
Саратовские епархиальные ведомости. 1917. № 8. Официальная часть. С. 269. Период 3–6 марта – это время между обнародованием Высочайших «Актов» об отречении Императора Николая II и отказа Великого Князя Михаила Александровича от восприятия верховной власти до созыва Учредительного собрания и появлением первой официальной реакции Св. Синода на революционные события – распоряжения о молебнах с возглашением многолетия «Богохранимой Державе Российской и Благоверному Временному Правительству». Часть архиереев уже в это время высказывала свою позицию в отношении государственного переворота. В субботу и воскресенье 4–5 марта архипастыри Тифлиса, Пскова, Владимира, Симферополя, Харькова, Симбирска, Костромы, Вятки, Калуги и Смоленска обратились к своей пастве в проповедях и на собраниях духовенства с призывами к миру, единодушию, гражданскому согласию и созидательному труду в условиях новой власти с подчинением ей «не за страх, а за совесть». Епископы Тихвинский Алексий (Симанский) и Витебский Кирион (Садзегелли) призвали паству молиться о помощи Божией в «созидательной работе нового, облеченного доверием народа правительства» для «увенчания успехом» трудов новой власти. Архиепископ Кишиневский Анастасий (Грибановский) и епископ Пермский Андроник (Никольский) публично высказывали слова уважения, сострадания и милосердия в адрес Императора Николая II. Викарий Вятской епархии епископ Сарапульский Амвросий (Гудко) в переполненном молящимися соборе «восхвалял бывшего царя и в особенности его супругу, чем внес в народ нежелательное возбуждение». За этой проповедью вскоре, 18 марта 1917 г., последовало его удаление с кафедры и отправка на покой. Через два месяца на эту вакансию был определен епископ Палладий (в 1918 г. Сарапульское викариатство было выделено в отдельную епархию – Сарапульскую и Елабужскую). Но большинство из составлявших на начало 1917 г. епископат 177 архиереев (из них 19 заштатных, на покое) не спешили с проявлением своей политической позиции и ждали реакции Св. Синода. 7–8 марта постановлением Синода в богослужебные чины был внесен ряд изменений (молитвы о царской власти были заменены молитвами «о благоверном Временном правительстве»); 9 марта революция была оценена им как «свершившаяся воля Божия» и новая форма присяги объявлена «для исполнения» (см.: Бабкин М. А. Российское духовенство и свержение монархии в 1917 году. М., 2006. Т. 1).
Цит. по: Во власти Губчека. М., 1996. С. 73–74.
РГАДА. Ф. 1625. Оп. 1. Ед. хр. 42.
Там же. Ф. 1183. Оп. 1. Ч. 49. 1916. Ед. хр. 2.
См.: Клименко В. А. Борьба с контрреволюцией в Москве: 1917–1920. М., 1978
В Мартирологе Бутовского полигона Исаакий Подлуцкий назван архимандритом Исааком. В документах следственного дела отложилось, что перед служением в Новом Иерусалиме он был архимандритом с. Листвяны Харьковской обл. Видимо, при закрытии монастыря Исихий уехал на родину (он родился в с. Старо-Ивановское Ахтырского уезда Харьковской губернии; был ли он возведен в сан архимандрита до отъезда, в период 1918–1919 гг., нам неизвестно), потом, когда в стенах монастыря образовалась артель, вернулся в родную обитель. После разгона артели переехал в пос. Ново-Спасский Пушкинского района Московской обл. – последнее свое место жительства.
См.: Последний монах Нового Иерусалима // http://ierusalim.ru/monastir16.php
См.: Михайлова Н. М. Воскресенский монастырь… // Глаголы жизни. 1992. № 2. С. 44.
Зеленская Г. Новый Иерусалим: Путеводитель. С. 44–45.
Леонид (Кавелин), архим. Месяцеслов… С. 41–42.
Историческое прошлое г. Воскресенска и его района. Воскресенск, 1924. С. 13, 18.
Цит. по: Истринские вести. 2000, 1 января. № 1–2.
См.: Снегирев И. М. Никонова часовня на Елеонской горе // Русская старина в памятниках церковного и гражданского зодчества. М., 1852. С. 109–111; здесь – с. 202–204.
РГАДА. Ф. 1625. Оп. 1. Ед. хр. 71. Л. 3 об.
См., например: Шмидт В. В. Жизнеописание патриарха Никона // Журнал Московской Патриархии. 2002. № 11. С. 52–77; Он же. Святейший Патриарх Никон и его Новый Иерусалим // Богословские труды. 2002. № 37. С. 283–344.
См.: Шмидт В. В. Никоноведение: библиография, историография и историософия // Государство, религия, Церковь в России и за рубежом. 2008. № 3–4 (44–45). С. 96–227; Он же. Никон, Патриарх: история и истории // Патриарх Никон: История и современность: Мат-лы Всерос. науч. конференции, посвященной 400-летию со дня рождения Святейшего Патриарха Никона. (Саранск, НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия, 27–28 октября 2005). Саранск, 2007. С. 31–94.
В. Ш.: «Антижитийная» литература по Патриарху Никону обширна и представляет значительный научный интерес. В данном случае лишь подчеркнем: в исторической традиции утвердилось мнение, что жития Патриарха Никона имеют особенности летописного, назидательно-поучительного характера и могут быть отнесены к панегирическому жанру литературы; старообрядческая же традиция, основываясь на этих «житийных» источниках, конструирует «антижитийные» списки, полагая в их основу, как правило, лишь те события жизни Святейшего, которые непосредственно связаны с чудесными явлениями и откровениями свыше, но при этом трансформирует их Божественный источник в сатанинский и задает полемическо-пропагандистский контекст. Таким образом, налицо факт признания данных явлений в жизни Святейшего Патриарха в непримиримой старообрядческой среде, а не их отрицание или в них сомнение. Примером тому может служить «История о Патриархе Никоне – истребителе древлецерковнаго благочестия, списанное Андреем Дионисиевчем» (РНБ ОР. Q. I. № 1435. Ркп., писанная уставом, в 1°, на 71 л., на плотной синей бумаге, лицевая): (л. 3об.) … и егда же Мариамя открыла шаману детище, тогда шаман стал читать по мордовски какое-то волшебное призывание, посмотрел на детище и затрепетал, опустился на колени и глагола: будет он царь не царь, а выше царей, князей, бояр, и будет он богат и нщ, и пстроит он или города или монастыри, и будут туда (л. 4) приезжати и цари, и боляре, и князи, будут за него молитися, и будут на него злобствовати и его проклинать, зане же Царь и Великий Дух его снискал, и землю он прославит, где родился, и где будет погребен. И с етими словами шаман сорва со своего ожерелия златицу кладя младенцу в пелены рече: пусть сие злато умастит тебе дорогу, какую уготовал тебе Сам Великий Дух. Родителей же детища сия восторже(л. 4об.)нность шаманова привела в великое смущение и боязнь. Рече Мина шаману: мы люди грешныя и не имеем никаких добродетелей и живем в бедности, к чему ты возвещаеши странная нашему детищу, и не повериша шаману… (л. 7) И некогда случилося Никите идти в другий монастырь с двумя клириками и случися на пути обнощевати у некоего татарина реместством колдуна, подобнаго преждеописанному шаману, (л. 7об.) такожде и сему умевшему предсказывать будущее, волхвуя скверною своею бесовскою книгою и полицею. Татарин предсказал Никите быть Государем Великим, но Никита хотя и не поверил словам татарина, но крепко запала мысль в его настойчивом характере…
Это старообрядческое сказание о Патриархе Никоне содержит следующие миниатюры:
предсказано Никону от шамана (л. 5); предсказание Никону от татарина (л. 8); змий у Никона на выи (л. 15); по повелению Никона написан образ Пресвятыя Богородицы [против указу Патриарха Иосифа это был образ Благовещения Богородицы, имеющей в недрах Младенца всего совершенна] (л. 26); предсказание Никону о Патриаршестве от Арсения Грека в соловецкой темнице (л. 28); Царь посещает для распросов старицу Таисию [б. жену Никонову] (л. 31); видение старца Симона (л. 36); Никон бьет епископа Павла за неприятие новизны (л. 42); Никон снимает с Павла святительские ризы (л. 43); жгут Павла за святыя законы (л. 44); предносные кресты – Крест Христов и никонов крест (л. 45об.); никоновы просвиры (л. 46); Никона коронуют зверную службу (л. 48); никоновы ступни [изображение креста на подошвах] (л. 49); никоновы башмаки [красного цвета с крестами на стельках] (л. 51); наложение на Андреяна оков за обличения Никона (л. 52); постеля Никона [с крестом в подножии] (л. 53); Никон бьет Нафанаила (л. 54); жгет Никон древния книги (л. 55); Никоновское причастие [причастнику палкой отверзают уста] (л. 59); плюет Никон на свои ризы (л. 60); суд над Никоном (л. 64об. – 65); ссора Патриархов [Патриарх Паисий посохом снимает клобук с Патриарха Никона] (л. 68); Никон беседует с висящим на кресте змием (л. 69); «Виноград из Египта принесе» [Пс. 79; изображение Царя Даида со свитком] (л. 70об.); «И инои дивий поял и есть» [изображение Петра I и Феофана Прокоповича в окружении змия, жаб и надписи: Исходяще 3 духа нечистых яко жабы во все вселенную – число его 666].
Библиотека Академии Наук (далее: БАН) ОР. № 45.5.9. Л. 2об.–33об.; Бубнов Н. Ю. Старообрядческое «антижитие» Патриарха Никона // Святые и святыни северно-русских земель. Каргополь, 2002. С. 221–230.
Житие Святейшаго Патриарха Никона, писанное некоторым бывшим при нем клириком (далее: Житие Святейшего Патриарха Никона...). СПб., 1784. С. 5–6; Повесть о рождении, воспитании и жизни Святейшего Никона, Патриарха Московского и всея России, написанная его клириком Иоанном Шушериным. М., 1997. С. 20–21.
См.: Житие Святейшаго Патриарха Никона. С. 2–4.
РГБ ОР. Ф. 231/ІII. К. 15. Д. 24; Житие Преосвященного Илариона, митрополита Суздальского, бывшего Флорищевой пустыни первого строителя. Казань, 1868. С. 19–20; Тихомиров П., прот. Митрополит Никон // Новгородские епархиальные ведомости. 1898. № 13. С. 832–837
См.: Тихомиров П., прот. Указ. соч. С. 838; Лебедев Лев, прот. Новый Иерусалим в жизни Святейшего Патриарха Никона // ЖМП. 1981. № 8. С. 69; Никон на Севере. Онега, 1992. С. 5; РГАДА. Ф. 184. Оп. 1. Д. 1421. Л. 2об.; Патриарх Никон, возлюбленник и содружебник Царя Алексея Михайловича. М., 1895. С. 8; Никон на Севере. Онега, 1992. С. 5.
См.: Савва В. И. Об одном из списков жития Патриарха Никона // Чтения в Обществе истории древностей российских (далее: ЧОИДР). М., 1909. Кн. 3. Отд. 4. С. 13–15.
Там же. С. 17–19.
См.: Георгиевский Г. Никон, Святейший Патриарх Всероссийский, и основанный им Новый Иерусалим. СПб., 1902. С. 34
См.: Севастьянова С. К. Преподобный Елеазар, основатель Свято-Троицкого Анзерского скита. СПб., 2001. С. 30–33, 77–78.
1 См.: Майорова О. Ю. Известие о рождении, о воспитании и о житии Никона, Патриарха Московского и всея Руси (Вопросы истории текста) // Источники по истории народной культуры Севера: Межвуз. сборник науч. трудов. Сыктывкар, 1991. С. 27.
См. в ч. III наст. трехтомника: Новоиерусалимский. Сказание о жизни, подвигах и наследии Никона, милостью Божией Патриарха. Гл. 1.
В результате возникшего конфликта иеромонаха Никона со старцем, – говорит «антижитие», – Елеазару было видение: во время богослужения он увидел на Никоне черную змею, которую трактовал как признак антихриста (Никон на Севере. С. 7).
Известно, что на обратном пути из Соловков с мощами митрополита Филиппа преосвященнейший Никон посетил остров Кий и увидел свой утвержденный некогда крест, а далее, в пути около озера Валдай, в тонком сне было ему видение об устроении Иверского монастыря [см.: Акты Иверского Святоозерского монастыря (1582–1770). СПб., 1878. № 40].
См.: Житие Никона, Патриарха Московского и всея Руси. Саранск, 2005 (по ркп. – л. 42).
См.: Севастьянова С. К. Материалы к «Летописи жизни и литературной деятельности патриарха Никона». СПб., 2003. С. 20; Шмидт В. В. считает, что протографом «Известия о рождении и воспитании и о житии Святейшего Никона, Патриарха Московского и всея Руси», приписываемого И. Шушерину, был текст, составленный Первосвятителем (см.: Патриарх Никон. Труды / научн. исследование, подготовка документов к изд., сост. и общ. ред. В. В. Шмидта. М., 2004. С. 75. Сноска 48).
РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140. Ч. 3. Л. 365; см.: Полознев Д. Ф. «Обличение на патриарха Никона» Вятского епископа Александра 1662 г. // Сообщения Ростовского музея. Ростов, 1998. Вып. 9. С. 170–199
См.: Перетц В. Н. Слухи и толки о Патриархе Никоне в литературной обработке писателей XVII– XVIII вв. // Известия Общества русского языка и словесности. 1900. Т. 5. Кн. 1. С. 123–190.
РГАДА. Ф. 96. Оп. 1. Д. 3. Л. 115–116.
См. там же. Л. 124–125; Тихомиров М. Н. Документы о Новгородском восстании 1650 г. // Новгород. К 1100–летию города: Сб. статей / под ред. акад. М. Н. Тихомирова. М., 1964. С. 101, 290–291.
РГАДА. Ф. 96: Сношения России со Швецией. Оп. 1. Д. 3. Л. 287–290.
Российская национальная библиотека (далее: РНБ ОР). Ф. 550. № F. І.337. Л. 15об.–16; Письма Русских Государей и других особ Царского семейства. М., 1848. Т. 1. С. 324–325.
БАН ОР. Собр. Дружинина. № 77/102. Л. 124об.–145об.
См.: Чумичева О. В. Арсений Грек в России: судьба и легенды // Русское общество и литература позднего феодализма. Новосибирск, 1996. С. 19.
Никон, Патриарх. Рай мысленный, в нем же различныя цветы (далее: Рай мысленный...). Иверский монастырь, 1658–1659. Л. 54–55об.
См.: Повесть о рождении, воспитании и жизни Святейшего Никона, Патриарха Московского и всея России, написанная его клириком Иоанном Шушериным. М., 1997. С. 53.
Никон, Патриарх. Рай мысленный… Л. 62–62об., 65об.–67об.
РГАДА. Ф. 142. Оп. 1. Д. 384. Л. 1, 2; Письма Русских Государей и других особ Царского семейства. М., 1848. Т. 1. С. 303–304 (№ 385); Аполлос (Алексеевский), архим. Начертания жития и деяний Никона, Патриарха Московского и всея России. М., 1859. С. 46–48, 142–144; Никон, Патриарх. Рай мысленный… Л. 67об.–68об.
РНБ ОР. Ф. 717. № 182/182. Л. 86–120.
В означенное время на иконах, подражая западноевропейским традициям портретного письма, стали творить изводы с портретным сходством ликов святых и заказчиков, богато украшая одежды по образцу одежд заказчиков. На изменение техники письма уже мало обращали внимания – не до этого, когда начинали трансформироваться иконографические формы и принципы (см., например: Очерки истории МИД России 1802–2002: в 3 т. Т. I. 860 – 1917 гг. М., 2002. С. 97; также см.: Тодоров А. А. …И разбойнику рая двери отверзый // Патриарх Никон: История и современность: Мат-лы Всерос. науч. конференции, посвященной 400-летию со дня рождения Святейшего Патриарха Никона; в наст. сб.: Бусева-Давыдова И. Л. Роль государства и Церкви в развитии русского искусства XVII в. С. 938).
См.: Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. СПб., 1883. Т. 12. М., 1996. Кн. 7. С. 170. В пылу исполнения патриаршего указа стрельцами было попорчено немало икон православного письма (см.: Гиббенет Н. Историческое изследование дела Патриарха Никона: в 2 т. СПб., 1882–1884. Т. 2. С. 473–474).
См.: Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. М., 1996. Кн. 7 (Справочно-библиографические мат-лы. С. 598, 59
Житие протопопа Аввакума, им самим написанное, и другие его сочинения. Архангельск, 1990. С. 131.
См.: Белокуров С. А. Арсений Суханов. М., 1894. Ч. 2. С. 195.
См.: Никон, Патриарх. Поучение о моровой язве. М., 1656. С. 23, 26–27; Он же. Слово на моровое поветрие // Патриарх Никон. Труды. С. 100–104.
См.: Алеппский Павел. Путешествие Антиохийского Патриарха Макария в Россию в половине XVII в. // ЧОИДР: 1896–1900. Вып. 4. М., 1898. С. 118–119.
См.: Чиновники Московского Успенского собора и выходы патриарха Никона / с предисл. и указ. проф. А. П. Голубцова. М., 1908. С. 277–278.
См.: Щедрина К. А. Некоторые историко-богословские аспекты монастырского строительства Патриарха Никона // Никоновские чтения. М., 2002
См.: Тихомиров М. Н. Новгородский хронограф XVII в. // Русское летописание. М., 1979. С. 293.
См.: Алеппский Павел. Указ. соч. С. 145.
См.: Харлампович К. Малороссийское влияние на великорусскую церковную жизнь. Казань, 1914. Т. 1. С. 276; Брокгауз Ф. А., Ефрон И. А. Энциклопедический словарь. СПб., 1892. Т. 8. С. 448.
См.: Историческое исследование дела Патриарха Никона. Ч. 1. С. 3–7, 168–172; Ч. 2. С. 491; Гиббенет Н. Патриарх Никон по вновь открытым документам. СПб., 1884. С.
См.: Белокуров С. А. Дела Святейшаго Никона Патриарха, паче же реши чудеса врачная
См.: Дело о Патриархе Никоне / под ред. Г. В. Штендмана. СПб., 1897.
См.: Николаевский П. Ф. Видение Патриарха Никона в Воскресенском монастыре в 1660 г.
РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140. Ч. 3. Л. 125; Историческое исследование дела Патриарха Никона. Ч. 1. С. 101; Ч. 2. С. 598–599; Записки Отделения русской и славянской археологии Императорского русского археологического общества. СПб., 1861. Т. 2. С. 585.
Ромодановская Е. К., Шишков А. Т. Сибирские видения 1662 г. в контексте антиниконовской борьбы // Сибирь и литература XVII века. Новосибирск, 2002. С. 314–329.
Дело о Патриархе Никоне. С. 123–124 (№ 32).
См.: Тодоров А. А. Неделя Святых отец // Патриарх Никон. Труды. С. 1083.
См.: Зимин С. Великая Уния: Выбранные места из переписки с авторами. М., 2005; Тодоров А. А. Неделя Святых отец // Патриарх Никон. Труды. С. 1119; в наст. сб.: Тодоров А. А., Шмидт В. В. Человек – общество – Церковь – государство: мир Бога и власть государства. С. 1126; Зимин С. Н. И жезл Лигарида процвел… С. 735.
Патриарх Никон и протопоп Аввакум / сост. В. А. Десятников. М., 1997. С. 239–240.
См.: Житие Никона, Патриарха Московского и всея Руси. Саранск, 2005 (по ркп.: л. 243–245).
РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140а. Ч. 1. Л. 189–191а; Соловьев С. М. Соч. М., 1991. Кн. 6: История России с древнейших времен. Т. 11–12. С. 265.
См.: Сергеев Николай, свящ. Краткое жизнеописание святейшего патриарха Никона. Вятка, 1888. С. 12; Зеленская Г. М. Святыни Нового Иерусалима. М., 2002. С. 273–274.
См.: Житие Никона, Патриарха Московского и всея Руси. Саранск, 2005 (по ркп.: л. 284).
См.: Повесть о рождении, воспитании и жизни Святейшего Никона, Патриарха Московского и всея России, написанная его клириком Иоанном Шушериным. С. 184–185; Николаевский П. Жизнь Патриарха Никона в ссылке и заключении после осуждения его на Московском соборе 1666 года. СПб., 1886. С. 131.
Никон, Патриарх. Возражение или Разорение… // Патриарх Никон. Труды. С. 248.
Об этой незаурядной личности писали довольно много и в России, и за рубежом; писали с чувством, с пристрастием, или осуждая его, или оправдывая. Большое внимание ему уделяли русские историки: Н. И. Костомаров, С. М. Соловьев и др., а также русские мыслители и богословы, например, протоиерей Г. Флоровский.
См.: Каптерев Н. Ф. Сношения Иерусалимских Патриархов с русским правительством с половины XVI до конца XVII столетия // Православный Палестинский сборник. Т. 15. Вып. 1. СПб., 1895; Он же. Характер отношений России к православному Востоку в ХVI и XVII вв. Серг. Посад, 1914.
Было обнаружено, что важнейшие книги при переводе и переписке были значительно искажены, поэтому возникла необходимость в их «исправлении». Речь шла об «исправлении» Библии, Катехизиса, Потребника и др. Уже Патриарх Филарет начал исправлять тексты церковных книг, таких, как Потребник, Служебник, Минеи, Октоих, Шестоднев, Псалтырь, Апостол, Часослов, Триодь цветная и постная, Евангелие служебное и учительное. Сменивший Филарета Патриарх Иосиф продолжил печатание богослужебных книг с предварительным их исправлением. Исправление книг было далеко не простым делом. Прежде всего сличение с древними книгами и рукописями на греческом языке требовало наличия квалифицированных специалистов, которых почти не было. Кроме того, не всякий греческий оригинал был истинным оригиналом, не всякая рукопись была настоящим образцом, которому надо было следовать. И, хотя келарь Троице-Сергиева монастыря Арсений Суханов привез с Афона более 500 рукописей, а греческие архиереи прислали еще около 200, работать с ними оказалось некому из-за отсутствия знающих палеографию и греческий язык.
Исправление осуществлялось преимущественно по печатным книгам киевской, литовской, венецианской печати, к которым доверие не было безусловным: «… имеют де папежи и лютеры греческую печать, и печатают повседневно богословныя книги Святых отец, и в тех книгах вмещают лютое зелье, поганую свою ересь». В этих условиях справщики в основном стремились просто восстановить смысл. И все-таки они делали полезное и нужное дело. Особо следует заметить: только при Царе Алексее Михайловиче и Патриархе Никоне эта работа получила смысл церковной реформы и церковного возрождения. Это произошло, когда вокруг Царя возник кружок «боголюбцев», в который вошли духовник Царя Стефан Вонифатьевич и боярин Ф. М. Ртищев, понимавшие церковное возрождение как «путь в греки».
См. в ч. III наст. сб.: Житие Никона, Патриарха Московского и всея Руси.
См.: Шмидт В. В. Воззрения и труды Патриарха Московского и всея Руси Никона (Святая Русь: от третьего Рима к Новому Иерусалиму) // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7: Философия. 2001. № 4.
Патриарх Никон. Труды / научн. исследование, подготовка документов к изд., сост. и общ. ред. В. В. Шмидта. М., 2004. С. 16.
См.: Костомаров Н. И. Очерк домашней жизни и нравов великорусского народа в XVI и XVII столетиях. М., 1992.
Георгий Флоровский, прот. Пути русского богословия. Париж, 1937. С. 67–71.
См. там же. С. 67.
См.: Шмидт В. В. Святейший Патриарх Никон // Патриарх Никон. Труды. С. 18.
Георгий Флоровский, прот. Указ. соч. С. 63–64.
Георгий Флоровский, прот. Указ. соч. С. 6.
Георгий Флоровский, прот. Указ. соч. С. XV–XVI.
Достаточно вспомнить о великом летописном своде, к которому Никон, милостью Божией Патриарх, руку приложил и который получил соответствующее именование – «Никоновская летопись». Этим сводом утверждается принцип линейности в истории развития, прорывающий модель циклического времени в средневековом мироощущении и мировосприятии. Многие из описанных событий как факты включались Патриархом Никоном в систему его анализа и аргументации при написании грандиозного «Возражения или Разорения смиренаго Никона, Божиею милостию Патриарха, противо вопросов боярина Симеона Стрешнева, еже написа Газскому митрополиту Паисее Ликаридиусу, и на ответы Паисеовы». См. также: Лаврентьев А.В. Летописный свод патриарший 1652 г. // Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 3: XVII в. Ч. 2. СПб., 1993; Кудрявцев И. М. Издательская деятельность Посольского приказа (К истории русской рукописной книги во второй половине XVII в.) // Книга: Исследования и материалы. Сб. VIII. М., 1963.
См. в наст. сб.: Степнов П. П., Шмидт В. В. Морально-этическое сознание допетровской Руси: понятийно-категориальное осмысление русской философской мысли. С. 818.
Георгий Флоровский, прот. Указ. соч. С. 1.
Там же. С. 2.
Георгий Флоровский, прот. Указ. соч. С. 3–4.
Ильин И. А. О русской культуре // Ильин И. А. Собр. соч.: в 6 т. Кн. 2. С. 458.
Там же.
Георгий Флоровский, прот. Указ. соч. С. 6.
Там же. С. 8.
Георгий Флоровский, прот. Указ. соч. С. 11.
Ильин И. А. История становления государства // Ильин И. А. Собр. соч.: в 6 т. Кн. 2. С. 553.
От греч.: почитатель, ревнитель, поклонник, приверженец.
О делах и намерениях государя см.: Богданов А. П. В тени Великого Петра. М., 1998. С. 13–246.
См. подробнее: Богданов А. П., Симонов Р. А. Прогностические письма доктора Андреаса Энгельгардта царю Алексею Михайловичу // Естественнонаучные представления Древней Руси: Счисление лет. Символика чисел. «Отреченные» книги. Астрология. Минералогия. М., 1988. С. 151–203.
См.: Соловьев С. М. История России с древнейших времен. М., 1991. Кн. VI. С. 260–261.
Богданов А. П. Перо и крест: Русские писатели под церковным судом (далее: Перо и крест…). М., 1990. Гл. 3 (важнейшая историография – с. 458–461).
РГАДА. Ф. 381. Оп. 1. № 357; см.: Соловьев С. М. Указ. соч. С. 273.
Буганов В. И., Богданов А. П. Бунтари и правдоискатели в Русской православной церкви. М., 1991. Гл. 6 (важнейшая историография – с. 521–522).
См. подробнее: Макарий (Булгаков), митр. История Русской церкви. СПб., 1883. Т. XII. С. 760–792.
ГИМ ОР. Син. № 130.
Трапезой Полоцкий постоянно именовал процесс познания, подчеркивая его жизненную необходимость. См., например: Симеон Полоцкий. Обед душевный. М., 1681
См.: Богданов А. П. София-Премудрость Божия и царевна Софья Алексеевна: Из истории русской духовной литературы и искусства XVII века // Герменевтика древнерусской литературы. Сб. 7. М., 19
Ср.: Татарский И. Симеон Полоцкий: Его жизнь и деятельность. М., 1886; Богданов А. П. Перо и крест… Гл. 4.
Последнее упоминание о преподавании in Alexiano Musaeo – чудовской школе «гречанина Арсения» (Сатановского), действовавшей с 1653 г., относится к 1663 г.
Подробнее см.: Богданов А. П. К полемике конца 60 – начала 80-х годов XVII в. об организации высшего учебного заведения в России: Источниковедческие заметки
Грамота опубл.: Попов М. Г. Материалы для истории патриарха Московскаго Питирима (далее: Материалы-1) // Христианское чтение. 1890. Ч. 2. № 7–12. С.
Как показал еще С. М. Соловьев (История России с древнейших времен. Кн. VI. Т. 11. С. 201 и сл.), рассуждения коего не смог убедительно оспорить Н. И. Субботин (Дело патриарха Никона: Историческое исследование по поводу XI тома Соловьева. С приложением актов и бумаг, относящихся к этому делу. М., 1862).
«Сказки» Питирима и документы собора см.: Дело о патриархе Никоне / издание Археографической комиссии по документам Московской синодальной (б. Патриаршей) библиотеки. СПб., 1897.
См.: Попов М. Г. Материалы для истории патриарха Московскаго Питирима (далее: Материалы-2). М., 1895. С. 3–4 и др.
Подробнее см.: Макарий (Булгаков), митр. История Русской церкви. СПб., 1883. Т. XII. С. 376–378; О местоблюстителе Киевского престола епископе Мстиславском Мефодии см. там же. С. 559–591.
Субботин Н. И. Материалы для истории раскола за первое время его существования. М., 1874. Ч. I. С. 183–188 и др.
Соловьев С. М. Указ. соч. С. 222, 235. О грамоте 1655 г. см. с. 243–245.
Макарий (Булгаков), митр. История Русской церкви. Т. XII. С. 559–591.
Знаки гетманской власти.
О них см. подробнее: Каптерев Н. Ф. Характер отношений России к Православному Востоку в XVI и XVII столетиях. Сергиев Посад, 1914; Богданов А. П. Перо и крест… Гл. 3. С. 125–230.
Соловьев С. М. Указ. соч. С. 215–216.
Плеть в XVII в. была много страшнее палок-батогов и как орудие казни шла сразу за раскаленными клещами и топором, а в качестве пыточного инструмента считалась незаменимой: несколько ударов, как правило, вырывали у пытаемого любой оговор.
Соловьев С. М. Указ. соч. С. 248, 251, 252, 255 и др. Материалы опубликованы Археографической комиссией – см.: Дело о Патриархе Никоне / под ред. Г. В. Штендмана. СПб., 1897.
Документ о поставлении Питирима и его настольную грамоту см.: Попов М. Г. Материалы-1 // Христианское чтение. 1890. Ч. 2. № 7–12. С. 492–49
См.: Попов М. Г. Материалы-2. С. 5.
Макарий (Булгаков), митр. История Русской церкви. Т. XII. С. 495. О всем деле см. с. 480–497.
См.: Попов М. Г. Материалы-2. С. 5.
См.: Попов М. Г. Материалы-2. С. 5–14.
См.: Попов М. Г. Материалы-1 // Христианское чтение. 1890. Ч. 2. № 7–12. С. 516–523.
1 ЧОИДР. М., 1847. № 2. Отд. IV. С. 20–22; Настольную грамоту Патриарха Питирима и извещение о перемене московского архипастыря, отправленное им Константинопольскому Патриарху Дионисию только в декабре 1672 г., см.: Попов М. Г. Материалы-1 // Христианское чтение. 1890. Ч. 2. № 7–12. С. 499–514.
См.: Попов М. Г. Материалы-1 // Христианское чтение. 1890. Ч. 2. № 7–12. С. 514–515; Он же. Материалы-2. С. 15–16.
Соловьев С. М. Указ. соч. С. 166.
Данная статья подготовлена на материалах полемики со священником Илией (Емпулевым), автором книги «Страха вашего не убоимся» (Оренбург: «Оренбургская книга», 2005).
В миру – князь Ухтомский Александр Алексеевич. Родился в 1872 г. в Ярославской губ. На решение стать священником повлияла встреча со св. прав. Иоанном Кронштадтским. По окончании Московской Духовной академии в 1895 г. принял монашество, служил в Казани. С 1907 г. – епископ Мамадышский, с 1911 г. – епископ Сухумский, с 1913 г. – епископ Уфимский и Мензелинский, с 1917 г. – член Святейшего Синода, с конца 1918 г. – член правительства адмирала Колчака, с 1919 г. – епископ Саткинский единоверческий. Решения Московского собора 1666–1667 гг. в отношении старостильников считал несправедливыми и ошибочными; непримиримый борец против обновленчества; считал необходимым рукополагать как можно больше епископов на случай возможных репрессий. В феврале 1920 г. арестован в Новониколаевске; в 1921 г. он в Омске, оттуда отправлен в Москву (сидел в Бутырской тюрьме), в конце 1922 г. освобожден, вернулся в Уфу, где объявил свою епархию автономной. В 1923 г. арестован, приговорен к трем годам ссылки, в 1926 г. вернулся в Уфу; в 1927 г. вызван в Москву, арестован и сослан в Кзыл-Орду; в 1929 г. арестован и приговорен к трем годам тюрьмы. В конце 1931 г. освобожден, проживал в Москве, примкнул к Катакомбной церкви, в которой наряду с существованием «иосифлянским», возглавляемым митр. Петроградским Иосифом (Петровых; расстрелян в 1937 г.) основал «андреевское» течение. В 1932 г. арестован, отбыл три года ссылки в Алма-Ате; в 1935 г. вновь арестован и помещен в Ярославский изолятор. Расстрелян в Ярославской тюрьме 4 сентября 1937 г.; канонизирован Архиерейским Собором РПЦЗ в 1980 г.
Под таким названием вошло в церковную историю советского периода Послание (16.07.1927) к большевистскому правительству от так называемого Временного Патриаршего Синода (ВПС), созданного под эгидой ОГПУ митрополитом Сергием (Страгородским). ВПС и его «Декларация» вызвали возмущение среди иерархов, клириков и мирян Российской Православной Церкви апостасийным духом, пронизывающим этот документ. ВПС фактически разделил Церковь надвое: Тихоновская исповедническая и Сергианская, лояльная новой власти, тем самым христоненавистникам было дано формальное «право» осуществлять геноцид по отношению к отвергшим Сергианскую церковь как к «раскольникам» (подробнее см.: Русская Православная Церковь в советское время: 1917–1991 / сост. Г. Штриккер: в 2 кн. М., 1995. Кн. 1. С. 268).
Цит. по: Зеленогорский М.Л. Жизнь и деятельность Архиепископа Андрея (кн. Ухтомского). М., 1991. С. 203.
Иосиф Волоцкий. Просветитель, или изобличение ереси жидовствующих // Православный собеседник. 1855. Ч. III–IV; 1856. Ч. I–IV; 1857. Ч. I–III.
См.: Феофилакт (Моисеев), архим. Святитель Иов – первый Русский Патриарх. Серг. Посад, 1998.
Солоневич И. Л. Народная монархия. Буэнос-Айрес, 1954; см. также: Поздеева И. В. Первые Романовы и царистская идея // Вопросы истории. 1996. № 1.
См.: Вернадский Г. В. История России: Московское царство. Ч. I–II. М., 1997; Пирлинг П. Россия и Папский престол. М., 1912. Кн. 1.
Текст обетной грамоты и комментарий к нему см. в ч. III наст. трехтомника: Утвержденная Грамота Великого Московского Земско-Поместного Собора от 21 февраля 1613 г.
В миру Федор Никитич Романов, отец Царя Михаила Федоровича.
См.: Демидова Н. Ф., Морозова Л. Е., Преображенский А. А. Первые Романовы на Российском престоле. М., 1996.
Измаильтянами, или агарянами, на Руси называли магометан, потомков Измаила, родившегося от Авраама и его служанки по имени Агарь. Имя Измаил означает «дикий осел» (Быт. 16).
См.: Каптерев Н. Ф. Сношения Иерусалимских Патриархов с русским правительством с половины XVI до конца XVII столетия // Православный Палестинский сборник. Т. 15. Вып. 1. СПб., 1895; Он же. Характер отношений России к православному Востоку в ХVI и XVII вв. Серг. Посад, 1914; Николаевский П. Ф. Из истории сношений России с Востоком в половине XVII века // Христианское чтение. 1882. Январь–август.
См.: Котошихин Г. О Московском государстве в середине XVII столетия: Русское историческое повествование XVI–XVII вв. М., 1984; Он же. О России в царствование Алексея Михайловича. СПб., 1906.
См.: Зызыкин М. В. Патриарх Никон: Его государственные и канонические идеи: в 3 ч. Варшава, 1931–1938; М., 1995 (репринт); Шмидт В. В. Богословие Никона, Патриарха Московского // Патриарх Никон. Труды / научн. исследование, подготовка док. к изд., сост. и общ. ред. В. В. Шмидта. М., 2004. С. 929; Аверинцев С. С. Византия и Русь: два типа духовности // Новый мир. 1988. № 9.
См.: Шмидт В. В. Воззрения и труды Патриарха Московского и всея Руси Никона (Святая Русь: от третьего Рима к Новому Иерусалиму) // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7: Философия. 2001. № 4; в наст. сб.: Соколова И. М. «Новый Иерусалим» в Кремле: незавершенный замысел Царя Федора Алексеевича. С. 1025; Яворская С.Л. Сакрализация царства в образах Нового Иерусалима: («Шумаевский крест»: опыт реконструкции замысла). С. 1005.
См.: Выходы государей царей и великих князей Михаила Федоровича, Алексея Михайловича, Федора Алексеевича, всея Русии самодержцев (с 1632 по 1682 г.) / предисл. П. Строева. М., 1844; Алеппский Павел. Путешествие Антиохийского Патриарха Макария в Россию в половине XVII в. // ЧОИДР. 1896–1900. Вып. 5.
См: Зызыкин М. В. Патриарх Никон: Его государственные и канонические идеи. Ч. 1. С. 48.
См. в III ч. наст. трехтомника: Новоиерусалимский. Сказание о жизни, подвигах и наследии Никона, милостью Божией Патриарха.
Антоний (Храповицкий), митр. Полн. собр. соч. Т. 1–3. Казань, 1909; Т. 4. Почаев, 1906; Он же. Патриарх Никон и Россия // Апология клерикализма: Сб. статей об актуальных проблемах диалога Церкви, общества и государства. М., 2007. См. также: Никон (Рклицкий), архиеп. Митрополит Антоний Храповицкий и его время. М., 2003. Кн. I; Каптерев Н. Ф. Светские архиерейские чиновники в Древней Руси. М., 1874
См.: Голицын Н. В. Научно-образовательные сношения России с Западом в начале XVII в.
См.: Никон, Патриарх. Духовные наставления христианину // Патриарх Никон. Труды. С. 181.
См.: Ключевский В. О. Боярская дума Древней Руси. Пг., 1919; Воробьев В. М., Дегтярев А. Я. Русское феодальное землевладение от «Смутного времени» до конца петровских реформ. Л., 1986; Демидова Н. Ф. Служилая бюрократия в России XVII в. и ее роль в формировании абсолютизма. М., 1987; Белокуров С. Из духовной жизни московского общества XVII в. М., 1902; Вайгачев С. А. «Обмирщение» русской духовной культуры XVII века, сущность процесса и его социокультурные истоки // Актуальные проблемы истории русской культуры. М., 1991; Баканурский А. Г. Православная Церковь и скоморошничество. М., 1986.
См.: Царствование Михаила Федоровича Романова и его отца – Патриарха Филарета Романова; также см. в наст. сб.: Тодоров А. А., Шмидт В. В. Человек – общество – Церковь – государство: мир Бога и власть государства. С. 1126.
См.: Папство и его борьба с Православием. М., 1993.
См.: Житие Никона, Патриарха Московского и всея Руси. Саранск, 2005 (по ркп.: л. 100); Тодоров А. А. Неделя Святых отец // Патриарх Никон. Труды. С. 1083.
См.: Никон, Патриарх. Возражение или Разорение смиренаго Никона, Божиею милостию Патриарха, противо вопросов боярина Симеона Стрешнева, еже написа Газскому митрополиту Паисее Ликаридиусу, и на ответы Паисеовы // Патриарх Никон. Труды. С. 197–198.
Хотя позже он и был сослан в Тобольск, но и там сумел подружиться не с кем иным, как с Аввакумом. Если вспомнить о Симеоне Полоцком, Сильвестре Медведеве и других одиозных фигурах, то статистика близости таких лиц ко двору Царя позволяет говорить о специфической атмосфере, которая начала складываться вокруг Алексея Михайловича в период его охлаждения к Патриарху Никону. См.: Бессонов П. А. Юрий Крижанич, ревнитель воссоединения Церквей и всего славянства в XVII в. (по вновь открытым сведениям о нем) // Православный собеседник. 1870. № 7–12.
См.: Тодоров А. А. Неделя Святых отец // Патриарх Никон. Труды. С. 1083.
См.: Воробьев Г. А. Паисий Лигарид // Русский архив. 1893. Кн. 1; Дубовицкий А. Б. Паисий Лигарид и его участие в деле Патриарха Никона // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 8: История. 2001. № 3; Каптерев Н. Хлопоты Московского правительства о восстановлении Паисия Александрийского и Макария Антиохийского на их патриарших кафедрах и о разрешении от запрещения Паисия Лигарида // Богословский вестник. 1911. Сентябрь, октябрь; Лавровский Л. Несколько сведений для биографии Паисия Лигарида, митрополита Газского // Христианское чтение. СПб., 1889. Кн. 2 (№ 11–12); Пирлинг П. Паисий Лигарид: Дополнительные сведения из римских архивов
См.: Житие Никона, Патриарха Московского и всея Руси. Саранск, 2005 (по ркп.: Л. 109, 117, 119, 143, 156, 252, 261).
Цит. по указ. соч. (по ркп.: Л. 237, 241, 247, 255, 257).
См.: Бороздин А. Протопоп Аввакум: Очерк из истории умственной жизни русского общества в XVII веке. СПб., 1898; Горский И., свящ. Иоаким, Патриарх Всероссийский, в борьбе с расколом: в 2 ч. // Странник. 1864. Февраль. С. 54; Март. С. 101; Демин А. С. Для чего Аввакум написал первую челобитную? // ТОДРЛ. Т. 24. М.; Л., 1969; Добротворский И. Отношение русскаго раскола к Церкви и правительству // Православное обозрение. 1862. Т. VII. № 3. С. 364–392; Журавлев А. И. Полное историческое известие о древних стригольниках и новых раскольниках так называемых старообрядцах. СПб., 1799; Князьков С. Как начался раскол Русской Церкви: Исторический очерк. СПб., 1911; Лобачев С. В. Книгопечатание и раскол: Старопечатные издания Московского печатного двора первой половины XVII в. как исторический источник: Опыт исследования // Русское прошлое. Историко-документальный альманах. Кн. 7. СПб., 1996; Макарий (Булгаков), митр. История русского раскола, известного под именем старообрядчества. СПб., 1889; Макаров В. Е. Вопрос о причинах разделения Русской Церкви. М., 1912; Максимов С. Рассказы из истории старообрядчества по раскольничьим рукописям. СПб., 1861; Михельс Г. О деятельности Ивана Неронова в первые годы никоновской реформы // Русское общество и литература позднего феодализма. Новосибирск, 1996; Обозрение лютеранских и реформаторских обществ в России с половины XVI до начала XVIII века // Христианское чтение. 1857. Т. I. C. 375; Пихлер А. История протестантства в Восточной Церкви в XVII столетии // Православное обозрение. 1862. Т. VII. № 3. С. 118–121; Порфирий, иером. О причинах расколов // Странник. 1867. Июнь. Т. II. С. 123; Пругавин А. С. Раскол и сектантство в русской народной жизни. М., 1905; Раскол в расколе, или новыя суеверия в мнимой старой вере // Руководство для сельских пастырей. 1861. Т. III. С. 499; Румянцева В. С. Кружок Стефана Вонифатьева // Общество и государство феодальной России. М., 1975; Русский раскол с точки зрения иностранца (Le raskol et les sects n Russie. Leroy-Beaulieu. Revue des deux Mondes 1 novembre 1874, 1 mai et juin 1875.)
См.: Горский И., свящ. Иоаким, Патриарх Всероссийский, в борьбе с расколом: в 2 ч.
См.: Бороздин А. Протопоп Аввакум: Очерк из истории умственной жизни русского общества в XVII веке; Житие протопопа Аввакума, им самим написанное, и другие его сочинения. Архангельск, 1990; Малышев В. И. Материалы к «Летописи жизни протопопа Аввакума» // Древнерусская книжность: По материалам Пушкинского Дома. Л., 1985.
Ответственность за те беды, которые царствование Петра принесло России, полностью лежит на главах его партийных воспитателей, которые совершили вопиющее беззаконие, подсадив малолетнего Петра вторым Царем к существующему Царю Иоанну Алексеевичу. Вины же самого Петра в этом воцарении нет, поскольку вменять десятилетнему ребенку личное самочиние в таком деле неправомочно.
Если до Петра прикрепление крестьян к земле носило чисто мобилизационный характер, оставляя их юридически равноправным сословием, то Петр совершил неслыханное злодейство – он сделал крестьян (т.е. христиан) частной собственностью, сословием рабов. Русское крестьянство не принадлежало к роду Хамову и не ему изнесено было древнее праотеческое проклятие: «проклят Ханаан; раб рабов будет он у братьев своих» (Быт. 9:25), а потому данное Петром I дворянству право владеть своими братьями по вере как рабами и скотами по своей духовной сути явилось актом богоборческим.
Слова Государя Императора Николая II, произнесенные в день отречения от престола. Цит. по: Кобылин В. Анатомия измены: Истоки антимонархического заговора. СПб., 1998. С. 310.
Возведенная на Русский трон Петром I Марта Скавронская, известная под именем Императрицы Екатерины I, происходила из семьи некоего Шмуля, жителя ливонского местечка Вышки. История ее появления возле Петра весьма экзотична и изобилует многоразличными приключениями. Мало кто из историков удержался от упоминания о них в своих научных трудах (В. О. Ключевский, Н. И. Костомаров, С. М. Соловьев). Молви кто иль напророчь за век до этого, что во главе Московского Царства и Русской Церкви окажется столь доблестная дама, не сносить бы ему головы. Однако в любом случае именно она стала буквальным прообразом пресловутой ленинской «кухарки, управляющей государством».
Проще говоря, блюстительства пустого места: «се, оставляется вам дом ваш пуст» (Мф. 23, 38).
Genii (англ.) – дух, демон; арабск. «джин» – злой дух.
В связи с этим уместно заметить: благочестивейший Царь Феодор Иоаннович, многими молитвами, терпением и искусными трудами добывший для России Патриаршество, сердечной приязни у наших историков, в отличие от Петра, не стяжал.
Еще молимся, о еже сохранитися… всякому граду и стране от… нашествия иноплеменников и муждоусобныя брани (диаконское прошение на Великой вечерне из чина Всенощного бдения
Русскую иерархию невозможно заподозрить даже в причастности к фундаментальному идеологическому концепту «Православие, Самодержавие, Народность» (показательно, что его авторство принадлежит мирянину – графу С. С. Уварову). Нечастыми, но яркими исключениями были, например, митрополит Филарет (Дроздов), еп. Феофан (Говоров), еп. Игнатий (Брянчанинов), архиеп. Никон (Рождественский) и др. Но в целом ситуацию можно охарактеризовать как вялую и апатичную.
Князь Г. Е. Львов – глава Временного правительства в период 02.03.1917 – 08.07.1917; дворянин А. Ф. Керенский – глава Временного правительства в период 08.07.1917 – 25.10.1917.
Подписали члены Синода: митр. Киевский Владимир; митр. Московский Макарий; архиеп. Литовский Тихон (Белавин, будущий Патриарх); архиеп. Финляндский Сергий (Страгородский, будущий Патриарх); архиеп. Новгородский Арсений; архиеп. Гродненский Михаил; архиеп. Нижегородский Иоаким; архиеп. Черниговский Василий; протопресв. Александр Дернов (см.: Церковные Ведомости. 1917. № 9).
Подробнее см.: Ленин В. И. Государство и революция: Учение марксизма о государстве и задачи пролетариата в революции. М., 1968; Солоневич И. Л. Диктатура сволочи. Буэнос-Айрес, 1952.
ВЧК создана (7) 20 декабря 1917 г. постановлением Совета Народных Комиссаров для борьбы с контрреволюцией и саботажем. Далее этот орган постановлением ВЦИК от 06.02.1922 трансформируется в Государственное политическое управления (ГПУ) при НКВД РСФСР. 02.11.1923 Президиум ЦИК СССР создал Объединенное государственное политическое управление (ОГПУ) при СНК СССР. 10.07.1934 в соответствии с постановлением ЦИК СССР органы государственной безопасности вошли в Народный комиссариат внутренних дел (НКВД) СССР. 03.02.1941 НКВД СССР разделен на два самостоятельных органа: НКВД СССР и Наркомат государственной безопасности (НКГБ) СССР. В июле 1941 г. НКГБ СССР и НКВД СССР вновь объединены в единый наркомат – НКВД СССР. В апреле 1943 г. вновь образован Наркомат государственной безопасности. 15.03.1946 НКГБ преобразован в Министерство государственной безопасности. 07.03.1953 МВД и МГБ объединены в МВД СССР. 13.03.1954 создан Комитет государственной безопасности при Совете Министров СССР. 03.12.1991 подписан Закон «О реорганизации органов государственной безопасности», КГБ СССР упразднен, на его базе созданы Межреспубликанская служба безопасности и Центральная служба разведки СССР (в наст. время – Служба внешней разведки Российской Федерации). 28.11.1991 подписан Указ «Об утверждении Временного положения о Межреспубликанской службе безопасности». 06.05.1991 образован Комитет государственной безопасности РСФСР. 26.01.1991 подписан Указ о преобразовании КГБ РСФСР в Агентство федеральной безопасности РСФСР. 24.01.1992 образовано Министерство безопасности Российской Федерации на базе упраздняемых Агентства федеральной безопасности РСФСР и Межреспубликанской службы безопасности. 21.12.1993 подписан Указ об упразднении Министерства безопасности и о создании Федеральной службы контрразведки. 3.04.1995 подписан Закон «Об органах Федеральной службы безопасности в Российской Федерации».
См.: История Советской Конституции в документах. М., 1981. С. 109–110. Пункт 7 Декрета гласит: «Религиозная клятва или присяга отменяется», т.е. отменяется и Соборная клятва 1613 г.
Подробно см.: Русская Православная Церковь в советское время. Кн. 1. С. 185. .
РККА – Рабоче-крестьянская Красная Армия – официальное наименование Сухопутных войск и ВВС СССР в период с 1918 по 1946 гг.
См.: Русская Православная Церковь в советское время. Кн. 1. С. 255.
В 1943 г. в результате встречи митр. Сергия со Сталиным последний закрепит эту «победу» большевизма, но побежденной окажется не Церковь Христова, а лишь апостасийная часть ее епископата.
О дореволюционной антимонархической деятельности Сергия (Страгородского) см.: Паряев А. Митрополит Сергий Страгородский: Неизвестная биография. Чернигов, 2
Подчеркнем еще раз: речь идет об административной их ипостаси, а не о литургико-таинственной, которая была, есть и будет недосягаема для «врат адовых».
«И призвал фараон мудрецов [Египетских] и чародеев; и эти волхвы Египетские сделали то же своими чарами: каждый из них бросил свой жезл, и они сделались змеями…» (Исх.7:11–12).
Не рассекреченные доныне архивной службой ФСБ материалы об исключительно доверительных отношениях Сталина с известнейшим чародеем-эзотериком Вольфом Мессингом, имевших место в 30–40-х гг. XX в., а также странные «научные» манипуляции с гробницей Тамерлана в Самаркандском мавзолее, проводившиеся в июне 1941 г. специальной экспедицией по личному указанию Сталина, позволяют поставить его атеистические убеждения под сомнение. Документальные фильмы по каждой из этих тем в 2005 г. неоднократно демонстрировались по каналу ТВЦ. Да и само существование мавзолея-капища внутри православного храма труднообъяснимо: площадь у стен Московского Кремля, именуемая ныне Красной, до конца XVII в. называлась Троицкой по имени стоящего в ее восточной части соборного храма, главный престол которого посвящен Святой Живоначальной Троице. Сама площадь была задумана как открытый храм под Покровом Божией Матери, алтарем которого является сам Троицкий собор. В нем же находятся престолы Покрова Богородицы, св. Василия Блаженного и др. святых. Ныне храм именуется «храм Покрова на Рву», но чаще «собор Василия Блаженного» [См.: Мокеев Г. Священный верх Москвы Златоглавой // Новая книга России (Журнал). 2004. № 11].
Условным с большой натяжкой: Петр I был помазан на Царство законным чином и, следовательно, является «цезарем». Данное основание уже сверхизбыточно, чтобы не рассматривать Сталина наравне с Петром.
Приведем выдержку из предисловия Издательства Московской Патриархии к статье В. М. Ундольского «Отзыв Патриарха Никона об Уложении Царя Алексея Михайловича» (Новые материалы для истории законодательства в России с замечаниями Вукола Ундольского), напечатанную в сборнике «Богословские труды» (1982. № 23): «Имя Святейшего Патриарха Никона стало великим в истории Русской Православной Церкви. Исследователи его многострадальной жизни и большого вдохновенного творчества все глубже проникаются к нему чувством благоговения, преодолевая противоречивые напластования. Дело, которое совершил Патриарх Никон, теперь – 300 лет спустя после его преставления к Богу – нашло признание ученой общественности: и в области архитектуры, и в широких дипломатических связях, в церковном и государственном строительстве. Особое же место Святейший Патриарх Никон занял в истории культуры созданием выдающейся в мире Патриаршей библиотеки, сохранившей в своих недрах лучшие славянские рукописи, своевременно собранные по всему лицу земли Русской. Сейчас они становятся достоянием ученых всего мира – кто ценит историческое прошлое и стремится сохранить преемство культурных традиций. Богословское значение этого собрания по достоинству было оценено митрополитом Филаретом (Дроздовым), по благословению которого протоиерей Александр Горский, профессор Московской Духовной академии, создал знаменитое научное “Описание славянских рукописей Московской Синодальной библиотеки” (Горский А.В., Невоструев К. И. Описание славянских рукописей Московской Синодальной (Патриаршей) библиотеки. Т. 1–6. М., 1855–1917. В настоящее время описание этого уникального собрания рукописей завершено: Протасьева Т.Н. Описание рукописей Синодального собрания, не вошедших в описание А.В. Горского и К. И. Невоструева. Ч. 1–2. М., 1970–1973).
Рукописное наследие Патриарха Никона еще не изучено в должной мере. Начало научного использования его рукописей положил один из крупнейших ценителей памятников древнерусской письменности В. М. Ундольский (1815–1864). Он составил большое собрание рукописей для последующей работы в области русской истории и литературы (РГБ ОР. Ф. 310; Ф. 704). К числу неизданных работ относится и «Отзыв Патриарха Никона об Уложении Царя Алексея Михайловича» (ГБЛ ОР. Ф. 704. Картон 6, ед. хр. 1. 1859 г.). В письме к историку А. Н. Попову В. М. Ундольский так писал о своей работе: “Мой больше чем полугодовой труд: отзыв Патриарха Никона об Уложении Царя Алексея Михайловича не пропущен Петербургскою цензурою по резким выражениям Святейшего автора Возражения. Что делать? Надо дать другой оборот: как при жизни Патриарха многое ему не удавалось, во многом ему грубо отказывали, так и через двести почти лет по его кончине не хотят выслушать его правдивого и весьма замечательного голоса о первом законодательном нашем памятнике… Буди всегда и во всем воля Божия!” (Русский архив. 1886. Кн. 2. № 5–8. С. 302)».
Уфимские епархиальные ведомости. 1917. № 5–6. Отд. неофиц. С. 138–139.
Жевахов Н. Д. Воспоминания: В 2 т. М. 1993. Т. 1. С. 112.
См.: Хайдеггер М. Пролегомены к истории понятия времени / пер. Е. Борисова. Томск, 1998. С. 157–320.
Мифический персонаж из «Фауста» Гете, прилетевший на Брокенский шабаш в стеклянной реторте.
В. Ш.: Материалистско-картезианская, как и последующие – вульгарно-гуманистическая, марксистско-ленинская и антропо-либертарная – картины мира, задаются категориями диалектического и исторического материализма, антропогенной аксиоматикой и описываются в понятиях социального детерминизма (в частности, классово-производственных и социально-классовых отношений) и валеологии. Она априори не содержит и не допускает идеи Бога (устранение трансцендентного элемента из общественно-индивильной картины мира и редуцирование последнего к социальной детерминированности приводят к формированию и развитию процессов расщепления в восприятии собственно картины мира; категория социальной детерминированности в подобных системах заменяет и/или подменяет Бога). Следовательно, если отношения большевиков с верующим народом (религиозным сознанием) описываются в терминах и понятиях, применявшихся к отношениям православного государства и Церкви, то неизбежно возникает логическое противоречие между первым и вторым типами отношений, поскольку ни один признак, характеризующий первый тип, не может быть пригоден для характеристики второго типа. Связывание данных двух типов отношений на операциональном уровне, в мышлении, механистично и может бытийствовать в рамках расщепленного сознания – как общественного, так и индивидуального (расщепленное сознание определяется категориями психопатологии, в частности, как индивидуально- и социально-шизофреническое явление). См.: Войшвилло Е. К. Понятие. М., 1967; Гегель Г. В. Ф. Наука логики: в 2 т. М., 1970.
См.: Епископ Афанасий (Сахаров), исповедник и песнописец. Серг. Посад, 2003. С. 84. Вероятно, не за горами уже то время, когда этот опыт снова будет востребован. Серафим (Роуз). Не от мира сего. М., 1988. С. 215 («…каждый монастырь или общину мы разсматриваем как часть будущей катакомбной сети борцов за истинное Православие»).
Преподобный Лаврентий Черниговский († 1950) свидетельствует: «…храмы будут ремонтировать, оборудовать не только снаружи, но и внутри. Купола будут золотить как храмов, так и колоколен, а когда закончат все, наступит то время, когда воцарится антихрист. Все храмы будут в величайшем благолепии как никогда, но христианину православному в них нельзя будет ходить, поскольку там не будет приноситься Безкровная Жертва Иисуса Христа, а там будет все сатанинское сборище» (Цит. по: Россия перед Вторым пришествием: Материалы к очерку Русской эсхатологии / сост. С. Фомин. М., 2002. С. 356).
В судьбах «пременения царств» богоустановленная царская власть над народом(ами) все же восполняется властью Царя царей: сия тайна велика, ибо есть промысл Божий о мире и царствах сего мира с его народами.
Обычному мирянину сегодня подчас невозможно разобраться в этом обилии «согласий», каждое из которых считает вполне православным и благодатным исключительно себя и законной лишь свою иерархию. Одни иерархи с легкостью анафематствуют других, забыв о том, что все они в равной степени попали под анафему Соборной клятвы 1613 г. Законный Местоблюститель Патриаршего престола св. новомученник митрополит Казанский и Свияжский Кирилл (Смирнов) признавал хиротонию «сергианцев» и допускал возможность мирян причащаться у них, однако указывал, что духа сергианского надлежит отрицаться как гибельного (см.: Письмо митрополита Кирилла митрополиту Сергию (Страгородскому) [Cтанок Хантайка Туруханского района, Красноярского округа. 02/15.05.1929]; Письмо, датированное февралем 1934 г. // Русская Православная Церковь. Кн. 1. С. 301–302).
Простые люди, оказавшись духовными сиротами на огромной, некогда целостной канонической территории, не мудрствуя, ходят в те храмы, которые рядом с их жильем, сердцем понимая, что Церковь Христова стоит на Евхаристии: «И, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря: сие есть тело Мое, которое за вас предается; сие творите в Мое воспоминание. Также и чашу после вечери, говоря: сия чаша есть Новый Завет в Моей крови, которая за вас проливается» (Лк. 22:19–20).
Причина этого – изъятие Русского Царя из европейского миропорядка, благодатью которого держалась вся некогда целостная система государств православной Эйкум
К таковым, в частности, относится призыв к русскому народу принести покаяние в грехе, которого он не совершал, – в цареубийстве. В отличие от иудеев русские своего Царя не убивали и проклятия на себя не износили. Мы совершили иной грех – мы нарушили Соборное обетование 1613 г. и продолжаем его нарушать через поставление (демократическое избрание) Не-романовых, однако люди, именующие себя пастырями, никогда об этом соборном грехе не упоминают «страха ради иудейска».
Включая единоверцев, а также старообрядческие толки и деноминации.
«А где ж его теперь взять?» – с веселой риторической беззаботностью вопрошает московский протоиерей, председатель Синодального отдела Московского Патриархата по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами Дмитрий (Смирнов) в эфире радиостанции «Радонеж».
Малх – раб первосвященника Анны, которого хозяин воздвиг на заушение Иисуса Христа и которому апостол Петр отсек ухо (Ин.18:10).
«И кто же пойдет против сего Соборного постановления – Царь ли, Патриарх ли, и всяк человек, да проклянется таковой в сем веке и в будущем, отлучен бо будет он от Святыя Троицы…» (см. в ч. III наст. трехтомника: Утвержденная Грамота Великого Московского Земско-Поместного Собора от 21 февраля 1613 г.).
В частности, в 2004 г. население России сократилось на 1,7 млн человек (см.: Доклад Министра регионального развития В. Яковлева на заседании рабочей группы «Демография и трудовые ресурсы» // Российский вестник. 2005. Июль, 15).
Серафим Саровский, преп. О цели христианской жизни: Беседа с Мотовиловым. М., 1996. С. 124.
См.: Питирим, митрополит Волоколамский и Юрьевский. Преподобные Нил Сорский и Иосиф Волоцкий; Депман Г.-Д. О подвиге преподобного Иосифа Волоцкого // Тысячелетие Крещения Руси. М., 1989.
В состав кружка входили светские и духовные лица, московские и провинциальные. Из московских членов наиболее видными, кроме протопопа Стефана Вонифатьева, были окольничий Федор Михайлович Ртищев, архимандрит Ново-Спасского монастыря Никон (будущий Патриарх), протопоп Казанского собора Иван Неронов, переведенный в Москву из Нижнего Новгорода, и дьякон кремлевского Благовещенского собора Федор Иванов. Из провинциальных ревнителей выделялись протопопы: Юрьевца-Поволжского – Аввакум, Костромской – Даниил, Романовский – Лазарь, Муромский – Логгин и др. В бытность архимандритом Ново-Спасского монастыря Никон примыкал к провинциальным членам кружка ревнителей и отрицательно относился к грекам и малороссам. Он нередко тогда говорил, что «Гречяне де и Малые Росии (т.е. киевляне. – В. Ш.) потеряли веру, и крепости и добрых нравов нет у них» и что благочестие сохранилось лишь у русских. (Записки о жизни протопопа Ивана Неронова с 1653 по 1659 г. // Субботин Н. И. Материалы для истории раскола. М., 1875. Т. 1. С. 150). Эти же ревнители благочестия, воспитанные на иосифлянских идеях сильной воинствующей Церкви, активно проводили представление о власти священства как если не доминирующей, то почти равной власти царской. Позднее под влиянием Царя Алексея Михайловича, Ф. М. Ртищева и Стефана Вонифатьева, представлявших миссионерско-экклезиологическое (грекофильское) внешнеполитическое направление, у Никона сформировалось представление о дальнейших путях общественно-церковных преобразований при активно-ответственной позиции Патриарха и довлении духовной власти мирскому жизнесозиданию. В царском окружении сложилось мнение, что именно такой человек, как Никон, обладавший крепким духом и твердой волей, верящий в высокое патриаршее предназначение, ставший преданным сторонником преобразования церковно-общественной жизни по ромейско-греко-кафолическому образцу, сможет быть достойным Первосвятителем третьего Рима. Царь и его приближенные, убежденные в готовности Никона быть соработником на ниве духовного бережения Вселенского Православия, решили передать ему Патриаршество, как только оно будет освобождено.
Царь Алексей Михайлович несмотря на то, что разделял представления Ивана Грозного о царской власти и готов был считать себя «самодержцем» всего «Православного Востока», активно усиливал авторитет нового Патриарха ввиду чрезвычайной важности предстоявших внутри- и внешнеполитических задач. Русское правительство отводило в решении этих задач первейшее место социокультурным преобразованиям как идеологическим и общественно-церковным, усилив их авторитетом не просто Патриарха – «потаковника» светской власти, но Патриарха – «Великого Государя», занимающего самостоятельное положение в государстве (см. в наст. сб.: Комаровская Е. П., Мурзин-Гундоров В. В., Шмидт В. В. Царь Алексей Михайлович и Патриарх Никон: символика светской и духовной власти Руси. С. 1073).
Торжественное «моление» и клятва Царя и боярства в послушании должны были поразить воображение народных масс величием нового Патриарха и «божественностью» его будущих действий. Сотрудничество Московского Царя и Патриарха в форме «премудрой двоицы» преподносилось как образец для подражания всем православным народам. См., напр.: Каптерев Н. Ф. Патриарх Никон и Царь Алексей Михайлович. Сергиев Посад, 1909. С. 106–114; в наст. сб.: Лескин Д. Ю. Византийский идеал «симфонии» двух властей и его влияние на формирование церковно-государственных отношений в России. С. 1113.
См.: Мельников П. И. Исторические очерки поповщины. М., 1874. Гл. 1–7; Никольский И. Ф. Об антихристе. СПб., 1898; Русский вестник. 1863. № 4–6. Гл. VIII–ХIV; 1864. № 5; 1866. № 5, 9; 1867. № 2; Смирнов П. С. Внутренние вопросы в расколе в ХVII в. СПб., 1898.
См. наст. сб.: Тодоров А. А., Шмидт В. В. Человек – общество – Церковь – государство: мир Бога и власть государства. С. 1126.
См.: Каптерев Н. Ф. Сношения Иерусалимских Патриархов с Русским правительством. СПб., 1895. Ч. 1.; Доброклонский, проф. Иноземное влияние, самодеятельность и прогресс в Русской Церкви // Чтения ОЛДПР. 1893.
См. в наст. сб.: Степнов П. П., Шмидт В. В. Морально-этическое сознание допетровской Руси: понятийно-категориальное осмысление славяно-русской философской мысли. С. 818.
См.: Белокуров С. А. Собирание Патриархом Никоном книг с Востока // Христианское чтение. 1882. Сент.–окт.; Успенский Б. А. Раскол и культурный конфликт XVII в.
Никон, Патриарх. Возражение или Разорение смиренаго Никона, Божией милостию Патриарха, противо вопросов боярина Симеона Стрешнева, еже написа Газскому митрополиту Паисию Ликаридиусу, и на ответы Паисеовы // Патриарх Никон. Труды / научн. исследование, подг. документов к изд., сост. и общ. ред. В. В. Шмидта. М., 2004. С. 258–278.
См. в наст. сб.: Лескин Д. Ю. Византийский идеал «симфонии» двух властей и его влияние на формирование церковно-государственных отношений в России. С.
Православная Церковь приняла свое совершение не только по благоразумию и благочестию догматов, но и по священному уставу церковных вещей; праведно есть нам истреблять всякую новизну ради церковных ограждений, ибо мы видим, что новины всегда были виной смятений и разлучений в Церкви; надлежит последовать уставам Святых отец и принимать то, чему мы от них научились, без всякаго приложения или умаления. Все святые озарились от единаго Духа и установили полезное; что они анафеме предают, то и мы проклинаем; что они подвергли низложению, то и мы низлагаем; что они отлучили, то и мы отлучаем; пусть православная великая Россия во всем будет согласна со Вселенскими Патриархами (Ответы Паисия, Патриарха Константинопольского, на вопросы Никона, Патриарха Московского и всея Руси // Христианское чтение. 1881. Кн. 1).
См. в наст. сб.: Меньщиков А. А., Рыбаков Ю. М., Шмидт В. В. Внешняя политика Русского Царства в XVII в. С. 1144.
См. в наст. сб.: Бусева-Давыдова И. Л. Роль государства и Церкви в развитии русского искусства XVII в. С. 938; Васильева Е. Е., Кручинина А. Н., Заболотная Н. В. Патриарх Никон: традиция и со временность (русское певческое искусство второй половины XVII – начала XVIII в.). С. 919.
См.: Собрание определений и постановлений Священного Собора Православной Российской Церкви: 1917–1918 гг. Вып. 1–4. М., 1994.
См: Аввакум Петров. Послания и челобитные. СПб., 1995; Бороздин А. К. Протопоп Аввакум: Очерк по истории умственной жизни русского общества в ХVII в. СПб., 1990; Памятники истории старообрядчества ХVII в. // Русская историческая библиотека. Т. 39. Кн. 1. Вып. 1. Л., 1927.
К концу XVII в. Русь создает свою национальную систему отраслевой обществоведческой мысли, которая проявляет свою мощь в литературной многожанровой традиции (см.: Лихачев Д. С. Древнеславянские литературы как система // Славянские литературы: VI Международный съезд славистов. М., 1968; Он же. Поэтика древнерусской литературы. М., 1979; Кусков В. В. Характер средневекового миросозерцания и система жанров древнерусской литературы XI – первой половины XIII вв. // Вестник МГУ. Сер. 9. Филология. 1981. № 1) и сформированной на православных святоотеческих основах социальнополитической мысли и философской системе (см.: Шичалин Ю. А. Жанры философской литературы // Новая философская энциклопедия: в 4 т. М., 2001. Т. 1. С. 26–27), которая воплощена в так называемых «Риториках» (см. в наст. сб.: Гаврюшин Н. К. Русская философская симфония. С. 880).
См.: Шмидт В. В. Воззрения и труды Патриарха Московского и всея Руси Никона (Святая Русь: от идеи третьего Рима к Новому Иерусалиму) // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7: Философия. 2001. № 4.
Основные материалы, составляющие наследие и относящиеся к наследию Святейшего Патриарха Никона, см.: Патриарх Никон. Труды.
См. в наст. сб.: Бондарева О. Н. Зодчество Святейшего Патриарха Никона: истоки и значение. С. 956. В переписке и грамотах Святейшего Никона, в монастырских документах и рукописях [Леонид (Кавелин), архим. Историческое описание ставропигиального Воскресенского, Новый Иерусалим именуемого, монастыря, составленное по монастырским актам. М., 1876; Он же. Акты Иверского Святоозерского монастыря (1582–1707). СПб., 1878; Лаврентий, архим. Краткое известие о Крестном Онежском Архангельской епархии монастыре. М., 1805; РГАДА. Ф. 1195; Архангельский областной исторический архив. Ф. 174. Оп. I. Д. 2–6; Архив Воскресенского Новоиерусалимского монастыря. Ф. 1 // Историко-архитектурный и художественный музей «Новый Иерусалим»], литературных трудах самого Патриарха (Никон, Патриарх. Рай Мысленный. 1659; Он же. Грамота о Крестном на Кий-острове монастыре. 1656) и его жизнеописании (Шушерин И. К. Житие Святейшего Патриарха Никона, написанное некоторым бывшим при нем клириком. СПб., 1784) сохранился обширный материал по созданию и роли монастырей в истории духовно-просветительской и социально-культурной жизни России и Православной Эйкумены.
Крестный Кий-островский Онежский монастырь – монастырь «Любви жертвенной» – обетный, хранитель и символ Вселенского Православия на северных рубежах Московско-Ромейского царства (см.: Лаврентий, архим. Краткое известие о Крестном Онежском Архангельской губернии монастыре. М., 1805; Кольцов Т.М. Крестный Онежский Кий-островский монастырь // Патриарх Никон. Труды. С. 581–619). Главной святыней монастыря стал монументальный Крест-мощевик, созданный в меру Креста Господня, в «тело» которого были помещены более 300 святынь и мощей святых от всех концов Вселенной [РГАДА. Ф. 1195. Оп. 1. Д. 1. 1657. Л. 3; Никон, Патриарх. Увещевание о созидании на Кий-острове Крестного Онежского монастыря. 1656; ГБЛ. Рукописный фонд. Ф. 299 (Тихонравов). Д. 488. Ныне этот Крест отреставрирован и установлен в храме преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках, в Москве].
Иверский Богородицкий Святоезерский Валдайский монастырь – монастырь «Любви милосердствующей» – устраивался во образ (с отдельными условными, прикровенными чертами прототипа) Святой Горе Афонской и был призван напоминать всякому человеку о величайшей милости и заступничестве Пресвятой Богородицы по ее обетованию: Благодать Божия да пребудет на месте сем и на пребывающих зде с верою и благоговением, сохраняющих заповеди Сына и Бога Моего. И с малым попечением все будет на земли сей изобильно. И жизнь небесную получат, и не оскудеет милость Сына и Бога Моего к месту сему до скончания века. Аз же буду Заступница месту сему и к Богу о нем теплая Ходатаица, о чем свидетельствовал список чудотворной иконы Пресвятой Богородицы Иверской, выполненный на Афоне (см.: Шмидт В. В. Иверский Богородицкий Святоезерский Валдайский монастырь // Патриарх Никон. Труды. С. 543–579).
Воскресенский монастырь Нового Иерусалима – монастырь «Любви торжествующей», – созданный во образ Града Небесного и подобие святых мест Палестины с храмом Гроба Господня. Здесь проявляется особенность восприятия русскими христианской символики, вероучения, которое характеризуется конкретизацией их в богословии и древнерусском искусстве: в XVI–XVII вв. Иерусалим еще воспринимается как символ, который можно «переставлять по карте» и присваивать тому или иному географическому месту. Он был синонимом центра Православия, религиозной (церковной) столицы Вселенной, поскольку географические объекты носили сакральный характер, т.е. привязывались не к месту, а к вере. Для средневековой системы религиозных представлений и переживаний была важна трансляция – закрепление имени, хотя были случаи и более-менее точного, конкретного воспроизведения объекта религиозного поклонения и почитания (см.: Шмидт В. В. Святого Живоносного Воскресения Христова монастырь Нового Иерусалима // Патриарх Никон. Труды. С. 621–821).
Строго следуя святоотеческому учению о важности для церковной жизни материального изображения, сходного с первообразом (материальным предметам дается Божественная благодать ради имени на них изображенных), Патриарх Никон сакрализует пространство, переименовывая близлежащие к монастырю территории, объекты по образу палестинских (см.: Книга Большому чертежу (1692–1694). М.; Л., 1950. С. 189–190). Так появляются: Плачевный путь, река Иордан, Кедронский поток, Силоамская купель, Самарянский колодец; горы: Сион, Елеон, Фавор, Ермон, Рама; селения: Вифания, Скудельничье, Вифлеем, Назарет, Кана Галилейская; территории: Гефсиманский сад и Мамврийский дуб, Уриин сад, Самария, Галилея, Египетская страна, Иосафатова долина, Юдоль плачевная; различные сады: сад Никона, овощные сады, рощи и др. О них упоминает голландец Н. Витсен (Витсен Н. Путешествие в Московию: 1664–1665. Дневник / пер. со староголланд. В. Г. Трисман. СПб., 1996. С. 182; см. также: Дело о Патриархе Никоне. СПб., 1897. С. 439).
При всей верности образцу Патриарх все же привнес и некоторые отличия, свидетельствующие о том, что он мыслил придать воздвигаемому храму кафоличный, вселенский характер. Так, в главном алтаре устроены престолы-троны для Вселенских Патриархов – Антиохийского, Александрийского, Константинопольского, Иерусалимского и Московского; по монастырскому преданию, Святейший Никон предполагал устроить так, чтобы в разных приделах богослужение могли совершать разноплеменную православные: греки, грузины, молдаване, белорусы, украинцы и др. (по образу принадлежности престолов разным христианским конфессиям в храме Гроба Господня), что подтверждается нарочито разнонациональной братией никоновых монастырей.
В Воскресенском соборе монастыря Нового Иерусалима образно представлен мир видимый и невидимый, проявлено единство Церкви торжествующей и воинствующей; храмовые изображения являют единство ветхозаветных и новозаветных святых, прославляющих Бога в соборном предстоянии со всеми молящимися и воспевающими: «Отдадим образу пообразное, познаем наше достоинство, почтим начало образное, познаем тайны силу и за кого Христос умре. Будем яко Христос, зане Христос яко мы; будем бози Его ради, зане и Он нас ради человек бысть; яко же изволи приять горшее, да даст лучшее; обнища, да и мы Онаго нищетою обогатимся рабий зрак прият, да мы свободу восприимем; сниде, да мы возвысимся; искусися, да победим; безчествовася, да ны прославит; умре, да ны привлечет к Себе, низу лежащих в греховнем падении. Днесь спасение миру, елико же видим и елико невидим; Христос из мертвых, совостаньте, Христос в Себе, восприходите, Христос из гроба, свободитеся из уз греха. Воскресе Христос, и падоша демони. Воскресе Христос, и радуются Ангели. Воскресе Христос, и жизнь жительствует. Воскресе Христос, и мертвы ни един во гробе. Христос воста от мертвых, начаток умершим бысть. Да днесь из мертвых воскресе и мене, победника, возноватворит духом и в нова облечет человека, да даст новому зданию, иже по Бозе раждаемым здателя благ и учителя, Христу и соумерщвляема усердно и совоскрешаема, Тому слава во веки. Аминь. Написася сие лета 7174, от воскресения Господа нашего Иисуса Христа 1632 года (см. ч. I наст. трехтомника. С. 915).
См. в ч. III наст. сб.: Шмидт В. В. Православная Эйкумена и учение веры (в кратком изложении).
Здесь и далее в статье внутритекстовые ссылки даны на: Никон, Патриарх. Возражение или Разорение… // Патриарх Никон. Труды.
Здесь понятие «богословие» употреблено в его узком, первоначальном значении – «учение о Боге». Катафатическое богословие, по псевдо-Дионисию, возможно постольку, поскольку весь мир, все существующее есть некий образ, или изображение Божье. Коль творческое действие Божье есть теофания, Бог как Благо есть Любовь, и потому же Он есть Красота, а печать Божественной красоты лежит на всем творении, то для православной религиозности любовь есть неутолимое влечение сердца и ума к красоте Бога – чрез красоту познается путь к Нему. Красота – не что иное, как образ Блага, а в жизни индивидуальной и общественной отблеском апофатической красоты Всеблагого является благообразие. Именно к благообразию устремлен человек в своих интимности и социальности и достигает его аскетическим и молитвенным подвигом, тем самым соделывая доступный своему восприятию и переживанию как предмет сердечно-умного влечения и нравственного подражания этот заветный образ Бога. См.: Флоровский Г. В. Восточные отцы V–VIII веков. М., 1992; Котельников В. Православная аскетика и русская литература (На пути к Оптиной). СПб., 1994.
Например, как о Боге-мздовоздаятеле (Никон, Патриарх. Возражение…): «...есть Бог неправедно судящим, якоже фараону, Моаву, Гевалу, Аммону и Аммалику, и Ассиру, Мадиаму и Сисаре, и Авиву в потоце Киссове, и Ориву, и Зиву, и Зевею, и Салмону, Дафану и Авирону, Навуходоносору, царю Вавилонску, неправедно судившаго Даниилу пророку и трием отроком, и Валтасару, глумящемуся о святых сосудех, и Саулу, пожирателю скверне, Иозии, непреподобно кадящему, и Ахаву, пророкоубийце и гонителю, Ироду и Понтийскому Пилату, архиереем и Старцем жидовским и прочим святых пророков и святых апостол (л. 986) и всех святых неправосудцам, гонителем и убийцам, Максентию, Иулиану законопреступнику, Иуаленту, их же именословити оставим ныне, но на предглаголемая обратимся»; на л. 488–498 дается ретроспективный взгляд на библейскую историю с включением фрагментов социальной истории.
Никон, Патриарх. Возражение или Разорение…: (л. 177об.)… аще не покаетеся, вси такожде погибнете. Или о богатстве благости Его и пождании и долготерпении не радиши, не ведый, яко благость Божия на покаяние тя ведет. По жесточеству же твоему и по непокаянному сердцу, щадиши себе гнев в день гнева и откровения праведнаго суда Божия, иже воздаст коемуждо по делом его.
2 Уже отмечалось, что свидетельство Истины в мире дольнем для Святейшего Патриарха Никона было задачей всей его жизни, личного крестоношения. Как в теоретических разработках, так и в практических поступках он есть неотъемлемая часть и воплощение святоотеческого наследия, о чем также свидетельствует статья М. Ю. Люстрова «Уход Патриарха Никона как подражание образцам (к вопросу о самосознании Московского Патриарха)» (Герменевтика древнерусской литературы. СПб., 2000. С. 447– 459). М. Люстров отмечает, что в XVII в. в России появляется новый тип церковного деятеля – воинствующего обличителя, неистового, упрямого, беспощадного к врагам Церкви и к своим противникам бойца… По мнению М. В. Зызыкина, «уход Никона является центральным фактом его Патриаршества» (Патриарх Никон: Его государственные и канонические идеи М., 1995. Ч. 2. С. 190). Патриарх Никон причисляет себя к числу подобных автору «Книги бесед», уподобляется Иоанну Златоусту, в жизни во многом повторяя Златоуста (см: Георгий Флоровский, прот. Пути русского богословия. С. 67; см. также: Терновский Ф. Изучение византийской истории и ее тенденциозное приложение в Древней Руси. Киев, 1875. Вып. 1. С. 54–55).
К началу 80-х гг. XVII в. в России разыгрывалась история, подобная византийской истории V в. Главным героем ее являлся Патриарх Никон: как Царь получил от «новых константинополян» – воскресенцев письмо, так и заточенный Святейший получил письмо от Царя. Подобно Императору Феодосию, молившему Иоанна Златоуста вернуться из ссылки, Федор Алексеевич склонялся перед осужденным Патриархом и объявлял о его возвращении: «О Святом Дусе отцу нашему Никону Патриарху грешный Царь Федор и с супругою своею поклон сотворяем и чести твоей возвещаю, аще Бог повелит сему писанию вручитися тебе, и ваша честность да весть что, надеялся на Бога, преведение твое не умедлит быти… И посем я грешной Царь Феодор и с женою своею благословения вашего при свидании вашем с нами и чрез писание желаем» (цит. по: Николаевский П.Ф. Жизнь Патриарха Никона. СПб., 1886. С. 128).
Для Святейшего Никона и его современников возвращения Константинопольского и Московского Патриархов были равнозначными: даже тот факт, что Златоуст был «реабилитирован» посмертно, а Никон – при жизни, не являлся принципиальным. Это обстоятельство подтверждается другими западноевропейскими и русскими средневековыми текстами (см.: Люстров М. Ю. Земные средства общения с небожителями в Средневековье // Герменевтика древнерусской литературы. М., 1998. С. 338–345). В статье М. Сухотина об английском авторе труда по истории Русской Церкви A. Стэнли (Stanley А. Lectures of the History of the Eastern Church) находим следующую цитату: «Фотий в девятом столетии и Златоуст в четвертом в некоторых отношениях напоминают нам карьеру Никона. Это сходство может доказать нам, что на расстоянии шести столетий один и тот же Дух одушевляет две главные отрасли Восточной Церкви» (цит. по: Сухотин М. М. Станлей // Православное обозрение. 1862. № 7. С. 355).
Вместе с тем из принадлежащих Патриарху Никону текстов можно выявить тех героев священной и церковной истории, на которых он ориентировался. В послании Патриарха Паисию Лигариду (июнь 1662 г.) находим: «И наше отхождение не нерадения ради еже от стада нашего есть, но некако и божественно мнитца нам быти по писанном во Евангелии, яко множицею и Христос от навета Иродова и июдейских тайно и явно отходил и бегал, тако же и апостоли, якоже Павел от Дамаска и Петр от темницы избежа, и прочии, такожде и в первосвятителех, якоже Григорий Богослов и Афанасий Великий являются отходя мучительских ради гонений» (цит. по: Гиббенет Н. А. Историческое изследование дела Патриарха Никона: в 2 т. СПб., 1882–1884. Т. 1. С. 224–225).
Таким образом, Патриарх Никон последовательно подражал Христу, апостолам и первосвятителям. Вопрос о допустимости в Древней Руси имитаций поступков Христа и посвященная этому предмету литература рассматриваются: Плюханова М. Б. О национальных средствах самоопределения личности: самосакрализация, самосожжение, плавание на корабле // Из истории русской культуры. М., 1996. Т. 3. С. 414; вопрос о сакрализации Московского Патриарха вообще и Патриарха Никона, в частности: Она же. О некоторых чертах личностного сознания в России XVII в. // Художественный язык Средневековья. М., 1982. С. 191–192; Живов В. М., Успенский Б. А. Царь и Бог: Семиотические аспекты сакрализации монарха в России // Языки культуры и проблемы переводимости. М., 1987. С. 101–102, 110; см. также: Успенский Б. А. Царь и Патриарх. М., 1998. С. 103–107.
Имя также необходимо считать образом (по-гречески – иконой), следовательно, то и другое символично с разницей в том, что имя есть не только напоминание, но естественный образ, т.е. истинное феноменальное отображение свойств: так Сын Божий называется «Печатию равнообразной Отца», «Именем Отца» (Литургия Василия Великого), «Образом Отца» (Евр. 1). В Имени отображается и все естество и в данном случае нераздельность по сути равнопоклоняема и прославляема – это традиционное святоотеческое понимание (св. Максим Исповедник. Толкование на молитву Отче наш. М., 1853. С. 15; св. Феодор Студит. Творения. М., 1907. С. 129). Известно непреодоленное заблуждение иконоборцев, отделявших образ от Образуемого и воздававших поклонение лишь образам, в то время как поклонение, воздаваемое иконе, нераздельно относится к первообразу.
См. здесь: VII: Богослужение Патриарха Никона. С. 810.
Пространный катехизис. М., 1889. С. 129. Нужно подчеркнуть, что в этот период уже довольно широко распространены и Толковое Евангелие Феофилакта Болгарского, и толкование на Божественную литургию (см.: Бусева-Давыдова И. Л. Символика архитектуры по древнерусским письменным источникам XI–XVII вв. // Герменевтика древнерусской литературы. Сб. 2: XVI – начало XVIII в. М., 1989. С.279–308).
Примечательно начало бытования в русской книжной традиции сборников богословского содержания, в которых опубликованы не только основные вероучительные тексты и их толкования (см. напр.: РГБ ОР. Ф. 310. № 601: Литургия толковая; Ф. 178. № 2190: Сборник богословский; Ф. 310. № 614: Сказания и толкования священных и богослужебных изречений и обычаев и др.; Опт. 117: Сборник правил и поучений монахам и т.д.), но и тщательно подобранные материалы, имеющие структуру особого типа, выступающие прообразом современных полных молитвословов (см., напр.: РГБ ОР. Ф. 178. № 1408: Псалмы, молитвы, составленные из текстов псалмов, и книги библейские и др.). Также в ч. III наст. трехтомника см.: Шмидт В. В. Православная Эйкумена и учение веры (в кратком изложении).
См.: Аквилонов Е. П. Церковь: Научные определения Церкви и апостольское учение о ней как о Теле Христовом. СПб., 1894; Лисовой Н. Н. Обзор основных направлений русской богословской академической науки в XIX – начале ХХ столетия // Богословские труды. 2002. Сб. 37. С. 56–70; Мансветов И. Ф. Новозаветное учение о Церкви. М., 1879; Писарев Л. И. Экклезиология мужей апостольских // Православный собеседник. 1914. № 10; Питирим, архиеп. Церковь как претворение Тринитарного Домостроительства // ЖМП. 1975. № 1; Троицкий В. А. Очерки из истории догмата о Церкви. М., 1912; Флоренский П. А. Экклезиологические материалы: Понятия о Церкви в Священном Писании // Богословские труды. 1974. Сб. 12. С. 73–183.
Непревзойденным по глубине и масштабу анализа богословских воззрений Патриарха Никона остается труд М. В. Зызыкина «Патриарх Никон. Его государственные и канонические идеи»; здесь данные вопросы будут представлены в кратком изложении.
Апостол Павел говорит о Христе как о Главе и христианах как о членах тела Церкви: Еф.1:23, ср.: 1Кор.12:12.
«А еже вместо иныя другую укажет, несть разорение, но строение… то есть место немалое и людей множество. К ним же прилежат страны язык немало и есть тамо немало останок языческих обычаев. Нецыи же глаголют и идолопоклоннических останков останцы есть. И сего ради… таковое дело соделано…» [Никон, Патриарх. Возражение или Разорение // Патриарх Никон. Труды (по ркп. л. 133об.)]. В этом отрывке видны забота и попечение Святейшего Патриарха Никона о расширении Церкви, ее миссионерской деятельности. Большое внимание Святейший уделяет и социальному служению: «Церковное богатство – убогих богатство святое Писание именует, и подобает раздавати его убогим. Аще бо и нам, требующим раздавати, церковнии властели должни суть, якоже пишет, колми паче сущия под ними причетники миловати и даяти им потребная должни суть. Сего же (л. 216) не творящии да отлучатся, пребывающии же неисправлени да извергнутся, понеже сами быша братоубийцы, ибо, не имея потребных на составление живота, умирает, аще убо и не умре он, отинуду Божественному промышлению, даровавшему ему потребная животу».
(л. 82) «… глаголеши, яко римская слава и честь преиде на Москву. Откуда ты то навык, покажи ми. Се видел еси деяние святых отец Собора в Константинополи и ничто же о сем глаголано бысть в них, якоже выше писано есть, но равночестием Московский Патриарх Иерусалимскому почтен в помяннике же по Иерусалимстем Патриарсе. И радуемся в таком Уставе и утвержении пребывати, а не преходити меры и Устава святых отец Святейших Вселенстих Патриарх» (см.: Никон, Патриарх. Возражение или Разорение… // Патриарх Никон. Труды).
1 См.: Глубоковский Н. Н. Русская богословская наука в ее историческом развитии и новейшем состоянии. М., 1992; Лисовой Н. Н. Обзор основных направлений русской богословской академической науки в XIX – начале XX столетия // Богословские труды. 2002. № 37.
«Возражение или Разорение…» Патриарха Никона представляет собой историческое, догматическое и каноническое обобщение и трактовку весьма широкого спектра вопросов, связанных с предметом и сутью Церкви, государства, власти, системы церковно-государственных взаимоотношений и т.д., которые составляют значительное наследие не только Русской Православной Церкви, но и Вселенского Православия. Ярким подтверждением тому является панихида, совершенная участниками Поместного Собора 1917–1918 гг. на гробнице Патриарха Никона в Воскресенском монастыре, которой знаменательно начался Собор, восстановивший Патриаршество и принявший ряд важнейших положений, регулирующих жизнедеятельность Русской Церкви.
Церковь являлась крупнейшим хозяйственным институтом государства. Рост церковного землевладения сокращал общегосударственный земельный фонд, из которого служилые люди получали поместья в качестве жалованья за службу. К концу XVI в. в результате подавления боярской оппозиции царская власть укрепилась и могла принимать серьезные меры к ограничению роста церковного землевладения: в 1580–1584 гг. монастырям было запрещено приобретать земли. После ликвидации польско-шведской интервенции, когда первоочередной задачей Русского государства и правительства было восстановление разоренного хозяйства и пополнение опустошенной государственной казны, неизбежно вставал вопрос об отношении к церковному землевладению. В 1619 г. был создан Сыскной приказ, который занялся пересмотром жалованных грамот и подтверждением их от имени Царя Михаила (см.: Веселовский Б. С. К вопросу о пересмотре и подтверждении жалованных грамот в 1620–1630 гг. в Сыскных приказах // ЧОИДР. 1907. Кн. 3. С. 1–2).
Правительство в XVII в., не отказываясь в принципе от соборных постановлений XVI в., запрещавших рост церковного, в частности монастырского, землевладения, тем не менее допускало некоторые отступления от этих решений, особенно когда во главе Русской Церкви были отец Царя Патриарх Филарет и Патриарх Иосиф [см.: Горчаков М. И. О земельных владениях всероссийских митрополитов, патриархов и св. синода (988–1738 гг.). СПб., 1871. С. 329–330]. В 1648–1649 гг. правительство под давлением дворянства, поддержанного посадским населением, категорически запретило духовенству и церковным учреждениям приобретать новые земли и внесло это решение в Соборное уложение 1649 г. (гл. XVII, ст. 42). По Уложению, Церковь не только утрачивала легальную возможность увеличивать свои земельные владения, но и лишалась многих городских владений – торгово-ремесленных слобод и дворов на посадах: «А впредь, опричь государевых слобод, ничьим слободам на Москве и в городех не быти» (там же. Гл. XIX. Ст. 1, 8, 9; см. также: Смирнов И. И. Посадские люди и их классовая борьба до середины XVII в. М.; Л., 1948. Т. 2. С. 593–607).
Церковь все же продолжала оставаться крупнейшим землевладельцем и сохранять привилегии, например, право иметь своих служилых людей (этим правом пользовались Патриарх, митрополиты и архиепископы – имели своих дворян и детей боярских, получавших поместья из патриарших и иных домовых земель, денежное жалованье (См.: Горчаков М. И. Указ. соч. С. 403–404, 409–410, Приложения: с. 100–110, 116, 185).
Митрополиты, архиепископы, епископы, монастыри и население их вотчин в первой половине XVII в. находились в отношении суда и управления в ведении царского Приказа Большого дворца (Патриарх имел собственные четыре приказа: Дворец, ведавший общим управлением патриарших вотчин, Разряд, ведший учет патриарших служилых людей, назначавший их на службу и назначавший им поместное и денежное жалованье, Казенный, ведавший финансами, и Судный (см.: Соборное уложение. Гл. XIII, ст. 1; Богоявленский С. К. Приказные судьи XVII в. М.; Л., 1946. С. 100–113). Таким образом, огромные земельные богатства Церкви, сложившиеся административно-судебные ее привилегии входили в противоречие с проводимой в течение всего XVII в. централизацией государственного управления и вызывали постоянное возмущение со стороны дворянства. Это и определяло в известной мере политику правительства по отношению к Церкви и отразилось в решениях Земского собора 1648–1649 гг.
Если вопрос о церковных землях и не был радикально решен, то привилегии Церкви в области управления и суда подверглись значительному ограничению (сохранил свои привилегии только Патриарх); все церковные и монастырские земли были изъяты из ведения Приказа большого дворца и подчинены вновь созданному Монастырскому приказу, здесь же были сосредоточены и все судебные дела по искам к духовенству и населению церковных и монастырских вотчин. Во главе Монастырского приказа были поставлены царские окольничие и дьяки: если в первое время вместе с окольничим князем И. А. Хилковым в состав судейской коллегии Приказа входили представители духовенства, то с 1655 г. их уже не было (см.: Богоявленский С. К. Указ. соч. С. 85–87). Это было прямое вмешательство светской власти в хозяйственные и судебные дела Церкви – отказ от старых иммунитетных грамот, распространение централизации в области государственного управления на ту сферу хозяйственной жизни, которая до середины XVII в. практически не затрагивалась. Также см.: Колотий Н. А. Преодоление средостения: власть, народ, Церковь (Проблема имуществ, имущественное и земельное право в России) // Государство, религия, Церковь в России и за рубежом. 2007. № 1–2 (38–39).
Подобными идеями руководствовались многие из деятелей Православной Церкви. «Елико отстоит небо от земли, толико отстоит наш сан паче всякаго сана мирскаго», – говорил митрополит Фотий в своем обращении к духовенству [Православный собеседник. 1861. Т. II. С. 315; Русская старина. 1879. Апрель. С. 735). Митрополит Киприан проводил мысль о независимости епископов от воли Великого Князя, который не должен ни назначать, ни судить их (см.: Русская старина. 1879. Апрель. С. 732). Максим Грек об этом предмете пишет так: «Да учится преподобие твое, яко святительство и царство мажет и венчает и утверждает, а не царство святителей, и сего ради руки их с желанием и благоговейнством целуют, аки освященных Богу Вышнему, и главу свою приклонь, аки прочий народ, знамением честнаго Креста знаменуется от них по премногу. Убо болши есть священство царства земскаго, кроме бо всякаго прекословия менша от болшаго благословляется, глаголет божественный апостол. Тем же аще изгнашася Божиим судом мирский царствующей, но духовне царствуяй не отриновен есть руки Божия благодати (см.: Творения Максима Грека. Ч. III. С. 155); также см.: Епифанович С.Л. Преподобный Максим Исповедник и византийское богословие. Киев, 1915; Иванов А. И. Литературное наследство Максима Грека: Характеристика, атрибуция, библиография. Л., 1969; Живов М. В. «Мистагогия» Максима Исповедника и развитие византийской теории образа // Художественный язык Средневековья. М., 1982].
2 См. в ч. III наст. сб.: Шмидт В. В. Православная Эйкумена и учение веры (в кратком изложении).
См.: Евдокимов П. Н. Православие. М., 2002; Лосский В. Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви: Догматическое богословие. М., 1991; Он же. Богословское понятие человеческой личности // Богословские труды. 1995. Сб. 14.; Он же. Богословие и боговидение. М., 2000; Каллист (Уэр), еп. Святая Троица – парадигма человеческой личности // Альфа и Омега. 2002. № 2; Он же. Личность и бытие // Богословский сборник (Православный Свято-Тихоновский Богословский ин-т). 2002. Вып. 10.
См.: Умное делание: О молитве Иисусовой (Сборник о молитве Иисусовой). М., 1995; Топоров В. Н. Святость и святые в русской духовной культуре. Т. I. М., 1995; Никонов К. И. Современная христианская антропология. М., 1983; Burghardt W.J. The Image of God in Man according to Cyril of Alexandria. Woodstock, 1957.
Бог из видимой и невидимой природы Своими руками творит человека по Своему образу и подобию. Из земли Он образовал тело человека, душу же разумную и мыслящую дал ему Своим вдуновением. Это мы и называем образом Божиим, ибо выражение «по образу» указывает на умственную способность и свободную волю, тогда как выражение «по подобию» означает уподобление Богу в добродетели, насколько оно возможно для человека. См.: Иоанн Дамаскин. Точное изложение православной веры. М., 1765–1781; Он же. Диалектика. М., 1881.
О тринитарном истолковании образа Божия в святоотеческой мысли см.: Sullivan J.E. The Image of God: The Doctrine of St. Augustine and Its Influence. Debuque; Iowa, 1963. P. 165–195; об образе и подобии Божием по Григорию Нисскому см.: PG 44. Р. 1328–1345 (dubia), 1329–1340.
В данном выражении можно видеть и идею, схожую с раннегреческим учением об истинносущем бытии как вечном и неизменном единстве, в начале которого Анаксагор мыслил «семена».
См. в наст. сб.: Воробьева Н. В. К вопросу о состоянии нравственного богословия в Русской Православной церкви во второй половине XVII в. С. 867
Никон, Патриарх. Возражение или Разорение… // Патриарх Никон. Труды. Святейший здесь дает также и толкование на Слово 9, стих 56: «Лучше убо грабящих сам своея надежды ради Царствия Небеснаго разграбих и ничто же ныне имея, разграбления не боюся. Отгнания же страха изменихся, едино Отечество Горе рай ведый, всю же землю, яко преселение удаления зрю, по глаголу Давида пророка: Господня (л. 1002об.) земля и концы ея, аз же пришлец есмь и преселник, якоже и вси отцы мои. Мук же не боюся, что убо и возмут, не обретше тела, от воздержания и печали измождену, разве се глаголеши, яко первую и вторую ми язву нанесеши, могущую ми смерть сотворити. До сего бо во твоей власти есть, но аз апостолски рещи, по вся дни умирая умерщвлением плоти, когда убоюся смерти, но яко благодетелницу вменяю, Богу мя препосылающу, Ему же живу и служу и тщуся издавна явитися лицу Его. Бедно же ми, еже не пострадати мученическа подвига за истину».
Никон, Патриарх. Духовные послания христианину // Патриарх Никон. Труды.
Никон, Патриарх. Возражение или Разорение… // Там же.
Никон, Патриарх. Духовные послания христианину // Патриарх Никон. Труды; см. также в «Возражении или Разорении…» л. 433, 435–437 и др.
Никон, Патриарх. Возражение… // Патриарх Никон. Труды.
Там же.
Никон, Патриарх. Возражение… // Патриарх Никон. Труды.. (л. 238)… Научи бо нас Спас не убоятися от убивающих тело, души же не могущих убити, но паче боятися научи имущаго власть воврещи в дебрь огненную… (л. 318) Яко подобает всякому глаголу или вещи верна приводити свидетельства от богодухновенных книг Писаний во извещение убо благому, в постыжение ж лукавому (Мф.7; Мк.28; Деян.3)… (л. 320) Яко не достоит просто, ниже неиспытателне от лицемерствующих истину совосхищатися, от даннаго ж нам от Писаний воображения познавати (Мф.23; Ин.46; 1Кор.150)
Там же: (л. 85об.)… Яко не подобает инако учащим внимати, аще и воображаются во еже прелстити на обличение не извещенных…. Блюдитеся, да никто вас прелстит. Мнози бо приидут во имя Мое… (л. 47об.)… Кто инако учит и не приходит ко здравым словесем Господа нашего Иисуса Христа, и еже по благочестию учению разгорде ничесоже сведый, но болезнь о взыскании и любопрениих. От них же бывает зависть, рвение, хула, мнения лукава, прихождения растленных человек умом и отчюжденых от истины, мнящих приобретение быти благочестие, отступай от таковых.., Господу свидетелствующу, горе человеку тому, (л. 83об.) им же соблазн приходит. И паки. Иже аще соблазнит единаго от малых сих, мний наречется во Царствии Небеснем.., но и (л. 356) Яко ввереным словесем Господня учительства, аще умолчит что от нуждных, еже к Божию благоугождению, повинен есть крови, еже в беду впадающих (Лк. 61).
Никон, Патриарх. Возражение или Разорение…: Ты кто еси судяй чюждему рабу, своему Господеви стоит или падет, станет же силен Бог (л. 150) поставити его. Тем же безответен еси, о человече, всяк судяй, им же бо инаго судиши, себе осуждаеши, тая ж де бо твориши судяй. Вемы же, яко суд Божий есть воистину на творящих таковая. Помышляеши же ли се, о человече, судяй таковая, яко ты убежиши суда Божия. И паки. Не оклеветайте друг друга, братие, не осуждайте, оклеветая ибо брата или осуждая брата, оклеветает закон и осуждает закон: аще закон осуждаеши, не си творец, но судия; един есть Законоположник и Судия, могий спасти и погубити.
Основополагающим является труд Святейшего «Духовные послания христианину», как дополнение – «Возражение или Разорение…». Отметим особо: тема настолько велика и многогранна, что требует отдельных исследований. Здесь же представлены лишь некоторые общие рассуждения – пролегомены к будущим специальным работам.
Никон, Патриарх. Возражение или Разорение… // Патриарх Никон. Труды.
Никон, Патриарх. Духовное завещание христианину // Патриарх Никон. Труды.
Никон, Патриарх. Возражение или Разорение… // Патриарх Никон. Труды.
Патриарх Никон не оспаривает, но, наоборот, подтверждает божественное происхождение царской власти и то, что Бог действует через гражданскую власть, даже если правитель является вероотступником (подтверждение тому видно в жизни Иисуса Христа, который был законопослушным гражданином Римской империи). В связи с этим ни сам Христос, ни апостолы, ни апологеты II в., ни великие каппадокийцы и др. не были социальными реформаторами и не призывали к переустройству общественных структур. За двадцать веков историческое христианство (православие) не создало особой социальной доктрины, а его нравственное учение было всегда обращено к отдельной человеческой личности, а не к массам, структурам и социумам.
Христиане никогда не считали дольний мир идеальным, но они убеждены в невозможности создать на земле рай путем социальных преобразований, пока человек остается в падшем своем состоянии. Этим и обусловливается спокойное и сознательное послушание властям, отказ от участия в борьбе за гражданские права и свободы. Истинная свобода для христианина в том, чтобы стать духовно свободным, свободным от уз греха, а уже результатом этого и будут последующие социальные преобразования. Размышляя в собственно христианской традиции, Патриарх Никон сформулировал идею «симфонии» властей, каждая из которых выполняет присущую ей функцию: духовная власть довлеет и направляет власти светской (мирской), но никак не наоборот, когда Церковь является подчиненной, когда узурпируется духовная власть.
Наиболее характерным для социально-нравственного учения Патриарха Никона является то, что он рассматривает жизнь человека в Церкви и государстве с позиции единства и неразрывности – «симфонической» гармонизации, как путь к очищению и обожению посредством исполнения заповедей Божиих и активного доброделания, высоконравственной жизни.
Никон, Патриарх. Возражение или Разорение… // Патриарх Никон. Труды.
Cм. в ч. III наст. сб.: Покаянный плач Царя Алексея Михайловича: глас последний ко Господу Богу
См. в наст. сб.: Степнов П. П., Шмидт В. В. Морально-этическое сознание допетровской Руси: понятийно-категориальное осмысление славяно-русской философской мысли
Духовное завещание Никона, Патриарха // Патриарх Никон. Труды.
См.: Забелин И. Е. Опыты изучения русских древностей и истории. М., 1872. Ч. 1. С. 196–198.
Олеарий А. Подробное описание путешествия Голштинского посольства в Московию и Персию в 1633, 1636 и 1638 гг. // ЧОИДР. 1868. Кн. 4. Отд. 4. С. 508, 510 (кн. 3, гл.21:22); см. также: Мейерберг А. Путешествие в Московию барона Августина Мейерберга, члена Императорского придворного совета, и Горация Вильгельма Кальвуччи, кавалера и члена правительственного совета Нижней Австрии // Там же. 1874. Кн. 1. Отд. 4. С. 171; Павел Алеппский. Путешествие Макария в Россию в половине XVII века, описанное его сыном архидиаконом Павлом Алеппским / пер. с араб. Г. Муркоса. Вып. 1–5. М., 1896– 1900. Т. 2. Кн. 9. Гл. 9. С. 36; Каптерев Н. Ф. О греко-латинских школах в Москве XVII в. до открытия Славяно-греко-латинской Академии // Годичный акт в МДА 1.10.1889. М., 1889; Белокуров С. А. Адам Олеарий о греко-латинской школе Арсения Грека в Москве XVII в. М., 1888.
См.: Корсаков Д. А. Архимандрит Леонид (Кавелин) // ЖМНП. 1891. № 12. С. 126–146.
См.: Леонид (Кавелин), архим. Историческое описание Ставропигиального Воскресенского, Новый Иерусалим именуемого, монастыря в 17 столетии. М., 1876. С. 282–287, 330–366.
См.: Переписная книга домовой казны Патриарха Никона, составленная в 7166 году по повелению Царя Алексея Михайловича // Временник ОИДР. 1852. Кн. 15. Отд. 2. С. 1, 23, 79, 98, 101, 104, 117–134 (РГАДА. Ф. 1209. Оп. 4. Ч. II. Д. 5078: Описная книга имущества и архива Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря, составленная подьячим Московского Судного приказа Федотом Москалевым. 1688 г.).
Слово благополезно о создании монастыря Пресвятые Богородицы Иверския и святаго новаго исповедника и священномученика Филиппа, митрополита Московскаго и всея Руси чудотворца, иже на Святе озере, и о пренесении мощей святаго праведнаго Иакова, иже прежде Боровеческ именовася: Списано Никоном Патриархом // Рай мысленный / изд. Иверскаго монастыря: 1658–1659. Т. 2. С. 49–73.
Никон, Патриарх. Духовные наставления христианину. Л. 298–393; Духовное завещание. Л. 485об.–493об.
Никон, Патриарх. Возражение или Разорение… Л. 1–1039.
Вопрос об авторстве Никоновской летописи окончательно не решен. Но в Новоиерусалимской библиотеке XVII в. хранился «Летописец келейный» на 67 листах, с художественно оформленной заставкой, обложен бархатом и переплетен в досках. По важности эта книга принадлежала к числу избранных келейных книг Патриарха Никона: «Сказание известно, когда и в какое время в Великой Российской земле просия еже от единаго истиннаго, в Троице славимаго, Бога нашего, вера Христианская и благочестие утвердися, и коим образом Российские Митрополиты прияша власть от Константиноградских Патриархов… и когда и коим образом в царствующем граде Москве Великий Патриарший Престол устроися, и кто бысть первый Патриарх и по нем другие; в нем же и о поставлении Великаго Царя и Великаго Князя Михаила Федоровича отца Великаго Царя и Великаго Князя Михаила Федоровича отца – Великаго Государя Преосвященнаго Филарета на превысочайший Патриарший престол царствующаго града Москвы и всея Великия России». «Летописец» подписан по листам Патриархом Никоном в 7169 (1659–1660) г.
В настоящее время этот свод [Ф. 178. № 2190 «Сборник богословский (атрибутируется как «Риторика неизвестного автора»; см. его обзор здесь в статье Н. К. Гаврющина «Русская философская симфония»)] готовится к публикации в серии «Наследие» – приложении к журналу «Государство, религия, Церковь в России и за рубежом» (изд-во РАГС).
См.: Амвросий (Орнатский), еп. История Российской иерархии. М., 1807–1815. Т. 1–4; Болховитинов Евгений, митр. Словарь исторический о бывших в России писателях духовного чина. М., 1827; Строев П.М. Списки иерархов и настоятелей Российской Церкви. СПб., 1877. Многие из учеников и постриженников Святейшего Патриарха Никона оказались в других монастырях, привнося туда и развивая традиции монастыря Нового Иерусалима. Так, в последнее время канд. искусствоведения А.Н. Кручининой были открыты нотированные рукописи XVII в. (РНБ ОР: Собрание Кирилло-Белозерского монастыря), принадлежащие старцу иеродиакону и головщику Григорию Жернову, о чем свидетельствует полистовая скрепа: постриженник Живоносного Христова Воскресения монастыря Новаго Иерусалима бывшаго Великаго Господина Святейшаго Никона Патриарха Московскаго и всея России…. Введение их в научный оборот, несомненно, окажет серьезное влияние на перспективу дальнейших исторических, культурологических исследований (см.: Патриарх Никон. Труды. Сноска № 380. С. 753).
См. в наст. сб.: Васильева Е. Е., Кручинина А. Н., Заболотная Н. В. Патриарх Никон: традиция и современность (русское певческое искусство второй половины XVII – начала XVIII в.). С. 9
Библиотека до закрытия монастыря в 1917 г. имела внушительное количество экземпляров, в ней были представлены практически все отрасли не только богословия, но и науковедения. Как и многие другие библиотеки, она пострадала. В 1907 г. монастырская библиотека большей частью была отправлена в Москву и составила Воскресенское собрание отдела рукописей Государственного исторического музея (в настоящее время местонахождение многих единиц хранения неизвестно, так как многое было списано по ненайденному акту № 58 в 1955 г.).
От лекаря Рафаила Померанского поступили две книги по медицине – «Домашняя аптека» (Краков, 1670) и «Vocabula Medikamenta»; от казначея и уставщика Марка Щербакова – рукописи «Праздники большие» и «Аристотель премудрый»; от старца Иоанна Щербакова – «Космография» (1690) и т.д.
Пополнил библиотеку изданиями Библий, иллюстрированных гравюрами, собраниями «кунтштов», различными изданиями «Символов и эмблематов» (Амстердам, 1705). Среди книг: Псалтырь, пер. с еврейского. М., 1809; 12 посланий Игнатия Богоносца, пер. с греч. М., 1772; Кирилл Иерусалимский. Богословие и изложение православной веры. М., 1765–1781; Иаонн Дамаскин. Богословие, или изложение православной веры. М., 1765–1781; Гуго Гроций. Рассуждение против атеистов и натуралистов. М., 1765. Об архимандрите Амвросии см.: Болховитинов Евгений, митр. Словарь исторический о бывших в России писателях духовного чина. М., 1827; Бантыш-Каменский Дм. Жизнь преосвященного Амвросия. М., 1813.
Пополнил библиотеку изданиями Библий, иллюстрированных гравюрами, собраниями «кунтштов», различными изданиями «Символов и эмблематов» (Амстердам, 1705). Среди книг: Псалтырь, пер. с еврейского. М., 1809; 12 посланий Игнатия Богоносца, пер. с греч. М., 1772; Кирилл Иерусалимский. Богословие и изложение православной веры. М., 1765–1781; Иаонн Дамаскин. Богословие, или изложение православной веры. М., 1765–1781; Гуго Гроций. Рассуждение против атеистов и натуралистов. М., 1765. Об архимандрите Амвросии см.: Болховитинов Евгений, митр. Словарь исторический о бывших в России писателях духовного чина. М., 1827; Бантыш-Каменский Дм. Жизнь преосвященного Амвросия. М., 1813.
Об этих людях см.: Амвросий (Орнатский), еп. История российской иерархии. М., 1807–1815. Т. 1–4; Болховитинов Евгений, митр. Словарь исторический о бывших в России писателях духовного чина; Строев П. М. Списки иерархов и настоятелей Российской церкви. СПб., 1877. Например, архимандрит Аполлос (Байбаков А. Д.) – член Академии Наук; труды: Богословские рассуждения. М., 1781; Натура и благодать. М., 1784; Об ангелах // Прибавление к Творениям Святых отцов. М., 1803; Исследование книги масона Сен-Мартена о заблуждении и истине. Тула, 1790; Правила пиитические (10 изд.) М., 1774–1826. Заслуги архимандрита Леонида (Л.А. Кавелин) в исторической науке и богословии трудно переоценить. Он не только подготовил множество историко-культурологических, археографических исследований – при нем был основан в монастыре музей Патриарха Никона и художественных ценностей; были заложены и упрочены традиции как архивные, так и искусствоведческие, в церковных древлехранилищах и т.д. Архимандрит Амфилохий (П. Н. Сергиевский) – член-корр. Императорской Академии Наук, первым составивший подробное «Описание рукописного собрания библиотеки Воскресенского монастыря».
Никон, Патриарх. Возражение или Разорение…: (л. 110)… Мы же от Спасителя Христа научившеся молитися, еже не внити в напасть, протяженне и прилежне… помолимся. Немощь свою познавше, избавитися прорекованных искуса, и ниже видети антихристово пришествие, ниже предглаголанных язык движение, ниже беду смертную, от спасителныя веры отступити насилующую. Но свидетелство совести по силе соблюдающе, невредимо, неуязвлено, ко Искупившему нас честною Своею кровию Христу Богу распалением любве делы (л. 110об.) благими показующе, вечных благ сподобимся.
Еваргий Понтийский, авва. Аскетические и богословские творения. М., 1994. С. 83.
См., например: Шмидт В. В. Богослужение Патриарха Никона // Патриарх Никон. Труды. С. 1033. Описание никоновых монастырей см. там же. С. 543, 581, 621.
В первом на Руси Киево-Печерском общежительном монастыре (XI в.) был введен Студийский устав, написанный в начале VIII в. игуменом Студийского монастыря прп. Федором Студитом. Более древним является Иерусалимский устав, принятый в монастыре Саввы Освященного, основанном в IV в. По Студийскому уставу, правилам монастырской жизни уделяется более внимания, нежели правилам богослужебным (служба короче, менее торжественна в отличие от Иерусалимского, в котором служба значительно сложнее и труднее в отправлении). См.: Казанский П. С. История православного русского монашества. М., 1885; см. также примечания-библиографии, приведенные к статьям в системном исследовании: Давыдов И. П. Православный акафист русским святым (религиоведческий анализ). Благовещенск, 2004.
В книгохранилище Воскресенского монастыря из 106 рукописей числилось восемь Уставов, в том числе на пергаменте Устав Святой лавры Иерусалимской преподобного Саввы на сербском наречии. Многие из чинов во время ссылки Патриарха Никона были утрачены, но затем восстановлены в рукописном Уставе 1679 г.; в основу восстановленного лег харатейный старописаный русский Устав 1446 г., был сверен с Уставами обители Саввы Освященного, храма Гроба Господня, монастырей Святого Афона, Александрии и Египта. Полный список Устава монастыря Нового Иерусалима не обнаружен, но возможно его восстановление по сохранившемуся списку (РГБ ОР) описания его структуры и особенностей, составленных архимандритом Варлаамом в 1798 г., архимандритами Аполлосом, Леонидом. См.: Леонид (Кавелин), архим. Историческое описание Ставропигиального Воскресенского, Новый Иерусалим именуемого, монастыря в 17 столетии. С. 330; Шмидт В. В. Устав монастыря Нового Иерусалима // Патриарх Никон. Труды. С. 725.
Известно, что Иерусалимский Патриарх в Великий четверг совершает «умовение ногам» двенадцати архиереям у входа в храм Гроба Господня. В монастыре Нового Иерусалима по Уставу «архимандрит, аще восхощет, творит братии умовение ногам». И. Шушерин в «Известии о житии…» пишет, что Патриарх Никон творил «умовение ногам» не только в Великий четверг, но и во весь год, прибывающим в обитель странникам.
См.: Пушевский Петр. Святые места и святыни на Востоке и в России. Вып. 1. М., 1896; Он же. Каникулярная поездка в Святую Землю в 1899 г. Киев, 1904; Сокровища древней русской литературы: Книга хождений. Записки русских путешественников XI–XV вв. М., 1984; XVI–XVII вв. М., 1988.
Из Устава: «Во святую и Великую субботу до утрени устроить одр, сиречь Гроб Господень, и на нем положив плащаницу, и поставить против амвона на среди храма. Ко утрени – благовест час нощи, или как настоятель изволит… Вышед архимандрит со всеми, став перед Гробом Господним, раздает свещи всем».
Из Устава: «О пришествии в монастырь Великих Государей, когда благоволение их Царское бывает» и «О провождении из обители Великих Государей», также в 10-й главе «Чин, егда бывает заздравная чаша в день Ангелов Великих Государей, творимая сице (так)». Данный монастырь был крайне популярен, в нем бывали и жертвовали на его благоустроение, поновление, устроение новых приделов многие из державных фамилий.
См.: Силкин А.В. Малоизвестные памятники строгановского лицевого шитья из Ростова Великого // Памятники культуры: Новые открытия: 1984. Л., 1986. С. 420–433; Памятники строгановского лицевого шитья в Казани // Памятники русского искусства: История и реставрация: Сб. научн. трудов ВХНРЦ им. акад. И. Э. Грабаря. М., 1987. С. 58–73; Полознев Д. Ф. Саккос Ростовского митрополита Ионы
См.: Павел Алеппский. Путешествие Макария… Т. 2. Кн. 9. Отд. 12. С. 47; Т. 2. Кн. 10. Отд. 7. С. 75; Книга записная Патриарших служб и выходов Святейшего Никона: Конец XVII в. Син. № 93. Л. 4–6, 13–14, 17, 19об., 56–58, 66–68, 75об. // ГИМ ОР.
Павел Алеппский. Указ. соч. Т. 1. Кн. 8. Отд. 6. С. 404, 406; Т. 2. Кн. 9. Отд. 12. С. 48, 51–52.
Никон, Патриарх. Возражение или Разорение… // Патриарх Никон. Труды.
Schmemann A. Liturgy and Tradition. Ed. T. Fisch. N.Y., 1990. Р. 49–88.
Власов Ю. Н. Власть, право, мораль: Категориальная проблематика в актуальных проблемах русской философии. М., 1998.
Нравственному знанию, как правило, приписывается мудрость. Это связано с тем, что мудрость – свойство дофилософского и раннефилософского мышления, оно есть воплощение стремлений достичь истины, размышление над опытом жизни. Мудрость является духовным ориентиром в социо-культуросозидающем процессе, и большинство философских и религиозных систем выступает как системы мудрости, причем не только в теоретическом, но и в практическом отношении. См.: Бычко А. К. Народная мудрость Руси: Анализ философа. Киев, 1988.
См.: Громов М. Н. Древнерусские тексты как философский источник // Исторические традиции философской культуры народов СССР и современность. Киев, 1984. С. 89–98; Истрин В. М. Хронографы в русской литературе. СПб., 1989; Он же. Исследования в области древнерусской литературы. СПб., 1906; Коялович М. О. История русского самосознания по историческим памятникам и научным сочинениям. СПб., 1901; Мильков В. В. Источники философской мысли Древней Руси // Проблемы исследования философии народов СССР. М., 1986. С. 28–31; Орлов А. С. Древняя русская литература XI–XVII веков. М.; Л., 1945; Подскальски Г. Христианство и богословская литература в Киевской Руси (988–1237 гг.) / пер. А.В. Назаренко, под. ред. К. К. Акентьева. СПб., 1996; Сазонова Л. И. Литературная культура России: Раннее Новое время / Рос. Академия наук; Ин-т мировой лит-ры им. А. М. Горького. М., 2006.
См.: Федотов Г. П. Святые Древней Руси. Ростов н/Д, 1999; Барсуков Н. П. Источники русской агиографии. М., 1882; Голубинский Е. Е. История канонизации святых в Русской Церкви. М., 1903 и д
См.: История философии в СССР: в 5 т. М., 1968. Т. 1. С.85–90.
Федор Карпов развивает созвучные Макиавелли мысли; он, в частности, пишет: «Дело народное в градех и Царствех погибает долгодушеством терпениа, долготерпение в людех без правды и закона общества добро разрушает и дело народное ни во что изводит, злыа нравы в Царствех вводит и творит людей Государем непослушных за нищету». А. И. Клибанов считает, что Карпов выводил государственные законы из разума и опыта, а не из богословия. См.: Написание о грамоте (Опыт исследования просветительско-реформационного памятника конца XV – первой половины XVI в.) // Вопросы истории, религии и атеизма. Т. 3. М., 1955; Реформационные движения в России в XV – первой половине XVI в. М., 1960. См. также: Карпов Федор. Послания к Максиму Греку // Сочинения преподобного Максима Грека. Казань, 1863. Ч. 3; Послание митрополиту Даниилу, Послание к старцу Филофею // Летопись занятий Археографической Комиссии. СПб., 1908. Вып. 21.
Рационализм является одной из важнейших черт мировоззрения Ивана Пересветова. Его религиозно-философские взгляды во многом близки к воззрениям русских еретиков, в частности Матфея Башкина; хотя он и разделяет основные постулаты ортодоксальной догматики, но безразлично относится к обрядовой стороне, к религиозно-конфессиональным спорам. В своей аргументации он исходит, как правило, из доводов рассудка и практики жизни (Пересветов И. С. Соч. М.; Л., 1956. С. 161–162, 176).
Философские взгляды Ермолая-Еразма разворачиваются в русле религиозно-догматических средневековых представлений. Тринитарный догмат становится основой для всей системы Ермолая, для отрицания «самовластия» человека, свободы воли и острой критики антитринитарных построений еретиков. См.: Еразм-Ермолай. Благохотящим Царем правительница и землемерие // Летопись занятий Археографической Комиссии за 1923–1925 гг. СПб., 1926. Вып. 33.
Современные исследования все более говорят об Иване Грозном как о книжнике, подчеркивая, что он был образованнейшим человеком своего времени. Воспитателями Грозного в юности были выдающиеся книжники: поп Сильвестр и митрополит Макарий, составители наиболее значительных книжных трудов своего времени – Домостроя и Великих Четьих Миней (12 т., наиболее полное собрание всех читавшихся на Руси произведений). Русские источники говорят, что он был «во словесной премудрости ритор, естествословен и смышлением быстроумен», утверждают, что «в мудрости никим побежден бысть». По свидетельству венецианца Фоскарини, Иван Грозный читал «много историю Римского и других государств… взял себе в образец великих римлян». В его сочинениях встречается множество ссылок на произведения древней русской литературы. Он приводил наизусть библейские тексты, места из хронографов и русских летописей, цитировал наизусть целыми «паремиями и посланиями», как выразился А. Курбский; читал «Хронику» Мартина Вольского, знал «Повесть о разорении Иерусалима» Иосифа Флавия, сложную в философском отношении «Диоптру» инока Филиппа и многое другое.
В своих «Посланиях» Иван IV озвучивает необычную для его представлений о власти мысль: между монахами (Царь Иоанн принял монашеский чин) не должно существовать никаких сословных и вообще светских различий: святые Сергий Радонежский, Кирилл Белозерский «не гонялись за боляры, да боляре за ними гонялись» (монаха, принявшего власть, он сравнивает с мертвецом, посаженным на коня: монах, действительно, почитался «непогребенным мертвецом», а принятие власти символизировалось посажением на коня – «посагом»). Грозный высказывал мысль, что монах в духовном отношении, в личной жизни, выше даже его – царя: двенадцать апостолов были «убогими», а на том свете будут на двенадцати престолах сидеть и судить царей Вселенной. В этих мыслях его смирение достигает высшей степени, но как Царь-реформатор-собиратель он никогда не «затягивал» времени своего смирения – ему важен был контраст с его реальным положением неограниченного властителя.
При Царе Иоанне был составлен первый русский Лицевой Летописный свод [первые три тома посвящены всемирной истории (при их создании использовались «История Иудейской войны» Иосифа Флавия, Летописцы Эллинский и Римский); в основу остальных семи томов русской истории, которая в своде начинается с 1114 г. (том по начальной истории не сохранился), была положена ранняя редакция списка Никоновской летописи, к которому добавлялись тексты из других источников: Русского Хронографа, Воскресенской летописи и др.]. Летопись обрывается на 1567 г., не закончив изложения истории правления Грозного Царя (в настоящее время предпринята первая публикация этого Лицевого свода, первый том которого вышел в 2007 г.). По списку Библии, переданному Грозным через Михаила Гарабурду князю Острожскому, был напечатан первый в славянских странах полный корпус Библии, получившей называние Острожской.
Иван Грозный стал первым русским Царем, создавшим крупнейшие хранилища книг и сокровищ, которые со временем приобретут мировую известность и станут символами государственного величия России. К нему обращались со своими литературными произведениями с очевидным расчетом на внимание Максим Грек, митрополит Макарий, архимандрит Феодосий, игумен Артемий, Иван Пересветов и др.
Несмотря на разнобой в оценках деятельности и личности Ивана Грозного, все сходятся в одном: он был человеком, стремившимся сбросить груз традиций «удельной» Руси, хотя одновременно и незаметно для себя во многом этим же традициям следовал (см.: Веселовский С. Б. Царь Иван Грозный в работах писателей и историков. М., 1999; Дуйчева И. Византия и византийская литература в посланиях Ивана Грозного // ТОДРЛ. Т. XV. М.; Л., 1958; Бахрушин С. В. Иван Грозный. М., 1954; Зимин А. А. Реформы Ивана Грозного: Очерки социально-экономической и политической истории России середины XVI в. М., 1960; Платонов С. Ф. Иван Грозный (1550–1584). Пг., 1923; Смирнов И. И. Иван Грозный. Л., 1944.
Для Андрея Курбского характерен повышенный интерес к философским вопросам: он пишет о необходимости знания философии, часто ссылается на древнегреческих и древнеримских философов и писателей. В целом он стоит на схоластико-догматических позициях (см.: Философская и социологическая мысль народов СССР в период феодализма (до XVII века) // История философии в СССР. Т. 1. М., 1968. С. 171–227). Ф. А. Замалеев говорит о Курбском как о первом российском западнике (Философская мысль в Древней Руси. Л., 1987. С. 229), а Г. П. Федотов назвал его Герценом XVI столетия (Россия и свобода // Федотов Г.П. Судьба и грехи России. Т. 2. М., 1998. С. 283).
Подробнее см.: Мильков В. В. Методологические проблемы исследования еретических учений на Руси XI–XVI вв. // Актуальные проблемы исследования марксистско-ленинского наследия. Вып. 1. М., 1980. С. 52–64.
В вопросах религиозно-философских Максим Грек придерживался ортодоксальной позиции. Определяя значение философии, он писал, что она священна потому, что о Боге, Его правде и промысле «прилежнейше повествует… целомудрие же и мудрость и кротость хвалит… гражданство составляет… всякую добродетель и благодать вводит во всем свете» (Сочинения Максима Грека. Казань, 1859. Ч. 1. С. 356), а ее задачи понимал в духе средневекового богословия как религиозно-этические (см.: Громов М. Н. Максим Грек. М., 1983; Паславский И. В. Идейно-философское наследие Максима Грека и его традиции на Украине в XV–XVII вв. // Проблемы исследования истории философии народов СССР. М., 1986. С. 35–38).
1 См.: Панченко А. М. Русская история и культура: работы разных лет. СПб., 1999; Успенский Б. А. Миф – имя – культура // Успенский Б. А. Избр. труды. Т. 1: Семиотика истории: Семиотика культуры. М., 1994. С. 298–319; Лихачев Д. С. Русская культура. М., 2000; Иванов В. В., Топоров В. Н. Славянская мифология // Мифы народов мира. М., 1997. Т. 2. С. 450–456.
Летописи и сказания отражают историю Русской земли. В основе почти всех русских летописей, рассказывающих о начальной истории Руси, лежит летописный свод, называющийся «Повесть временных лет» (подг. текста, статьи и коммент. Д. С. Лихачева. СПб., 1996). Самым же полным сводом является созданная под «назиранием» Патриарха Никона летопись, получившая во вкладной записи Святейшего именование «Никоновская летопись» (Летописный сборник, именуемый Патриаршей, или Никоновской летописью / С прил. извлечений из монографии Б. М. Клосса «Никоновский свод и русские летописи XVI – XVII веков» // Полн. собр. русских летописей. Т. IX–XIV. М., 2000).
См.: Иванов В. Г. История этики Средних веков. СПб., 2002. C. 417–420; Горский В. С., Крымский С. Б. Философские идеи в отечественной средневековой культуре // Научные докл. высш. шк. филос. науки. 1985. № 5. С. 91–99; Замалеев А. Ф. Философская мысль в средневековой Руси (XI–XVI вв.) Л., 1987; Философская мысль на Руси в позднее Средневековье. М., 1985; Одоховская И. А., Пикулык Н. Ф. Трактовка некоторых этических проблем в памятниках древнерусской литературы // Исторические традиции философской культуры народов СССР и современность. Киев, 1984. С. 142–148.
См.: Федотов Г. П. Святые Древней Руси. Ростов н/Д, 1999; История русской святости. М., 2001; Зоц В. А. Мыслители Киевской Руси. Киев, 1981.
См.: Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры. М., 1972; Иванов В. Г. История этики Средних веков. СПб., 2002; Соколов М. В. Средневековая философия. М., 1979; Становление философской мысли на Руси (XI–XVII вв.) // История русской философии: Учебн. для вузов. М., 2001.
Подробнее см.: Гуревич А. Я. Указ. соч. С. 49, 96, 129; Лотман Ю. М. Тезисы к семиотике русской культуры (программа изучения русской культуры) // Ю. М. Лотман и Тартуско-московская семиотическая школа. М., 1994. С. 407–416; Поляков Л. В. Христианизация и становление философии Киевской Руси // Вопросы научного атеизма. 1985. № 32. С. 268–292.
См.: Ойзерман Т. И. Проблемы историко-философской науки. М., 1996; Гусейнов А. А. Социальная природа нравственности. М., 1974; Пеунова М. Н. Формирование и развитие этических идей X–XVII вв. // Очерки истории русской этической мысли. М., 1976. С. 23–49.
См.: Титаренко А. И. Структуры нравственного сознания (Опыт этико-философского исследования). М., 1974; Зубец О. П. Динамика нравственной жизни: Ценностное сознание и социальное время. М., 1988; Романов Б. А. Люди и нравы Древней Руси. М.; Л., 1966.
В порядке иллюстрации приведем (историческая публикация по списку конца XVII в.: РГБ ОР. Ф. 299. № 87: Сборник сказаний и поучений) замечательный текст «Поучения и наказания от отца к сыну како ему жити подобает»: (л. 48об.) Сыне, твори, что есть в мире угодно и добро не ревнуй, и ненавидит творящим в беззаконие. Сыне, старого увидех – поклонися ему, аще с ним в беседе побеседуй. А жене своей, жено всегда называй. (л. 49) Двух аще пойдеши и ты учися молчать, не во весь рот говорить. А куда скоро пошлют, туда скора и поди; а ногами ступай кротко; по верхам хором и по окнам ни смотри; чего не найдеши, ты наги не забиеши, и люди похвалят тя, что не верхогляд есть доброй человек. А на суд идучи не бранися, призывай Бога на помощь и в речи Святую Его Богоматерь Пречистую Богородицу. А в гости не зван не ходи, обещещен не будеши. А по море поедешь, и ты против ветру от буре не отпущайся; а сердешным другом не отступай. В чюжей в стране не со всяким знайся и правды всей не сказывай. (л. 49об.) А корову держи велику, а лошать хотя малу да удалу; а у кого, чадо, пиешь и ешь, и ты хлеб и соль не забывай. А чюжева сребра беря по себе да будешь надежден сему заплатить; да буди, чадо, послушаеше отца своего и матерь, будеши долговешен на земли. А не знаючи товару не купи, да впадешь в детох. А болнаго человека посети, а нищего в дом свой введи; жаднаго напои и покорми, то обрящеши от Христа милость. А замахнись на кого хотя и дважды, а не ударь не единожды, тако меньши печали. А полаты на земли не стави, готови на небеси. А кто тебе согрубит, и ты за него помолися. (л. 50) А в чюжем платье, чадо, не кросуйся и к церкви в чюжем платие не ходи, молися дома, так люди не осудят; а пойдеши к церкви, и ты стой в церкви кротко со страхом и с трепетом, и слушай церковнаго пения; а Великому, чадо, Господину не груби и не осуждай – сам осужден будеши. А суд твори в правду правдою, винаватым не ставь. Да не буди, чадо, сонлив и ленив. Сонлив и ленив человек дому своему не господин, а жене своей не муж, а детем не отец; платья цветнаго не носит и слаткаго куса не ест. Да еще, чадо, мертваго увидишь, и ты последуй ему на погребение со свещею. Аминь.
См.: Давид Р. Основные правовые системы современности. М., 1987. С. 458.
См.: Титаренко А. И. Указ. соч. С. 79; Лотман Ю. М. Об оппозиции «честь» – «слава» в светских текстах Киевского периода // Ученые записки Тартуского государственного университета. Вып. 198: Труды по знаковым системам. Ч. III. Тарту, 1967. С. 110–111; Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры. С. 184.
Горский А. А. Система государственной эксплуатации и социальная организация господствующего класса в Киевской Руси // Общее и особенное в развитии феодализма в России и Молдавии: Проблемы феодальной государственной собственности и государственной эксплуатации (ранний и развитой феодализм): (Чтения, посвященные памяти академика Л. В. Черепнина). М., 1988.
См.: Золотухина Н. М. Развитие русской средневековой политико-правовой мысли. М., 1985; Древняя Русь – проблемы и правовая идеология. М., 1984; Памятники права периода образования Русского централизованного государства: XIV–XV вв. М., 1955; Памятники русского права. Вып. 1–3. М., 1952–1955; Развитие русского права в XV – первой половине XVII веков. М., 1986; Развитие права и политико-правовой мысли в Московском государстве. М., 1986; Судебники XV–XVI веков. М.; Л., 1952; Щапов Я. Н. О системе права в Древней Руси // История СССР. 1987. № 5. С. 175–181; Он же. Княжеские уставы и Церковь в Древней Руси XI–XIV вв. М., 1972; Синицына Н. В. Идея законности в русской общественной жизни и общественной мысли конца XV – первой трети XVI в. // Общество, государство, право России и других стран Европы. Нормы и действительность: Ранний и развитой феодализм. М., 1983. С. 71–76.
Язык и миф, бытовой обиход и нормы поведения, все те первоэлементы человеческого существования, без которых человек не может совершить ни одного простейшего жизненного акта, есть с самого начала символические формы. Именно символическое богатство христианства придало средневековой культуре такое смысловое богатство и насыщенность. Как пишет С. С. Аверинцев, христианство к концу своего первого тысячелетия являет такую сквозную целостность и замкнутость, такую степень взаимной «признанности» входящих в его состав символических структур, что в каждом фрагменте его содержания уже как бы дано в свернутом виде все целое. Иначе был бы невозможен известный каждому исследователю средневековой культуры феномен, когда заведомо не столь уж начитанный автор рассуждает не темы мистического умозрения так, как если бы в совершенстве изучил тексты Плотина и Прокла, – просто потому, что … зерно христианизированного неоплатонизма через посредство псевдо-Ареопагита вошло в состав общехристианской традиции и органически с ней срослось. См.: Аверинцев С. С. К уяснению смысла надписи над конхой центральной апсиды Софии Константинопольской // Из истории русской культуры. М., 2000. Т. 1. С. 522.
По свидетельству иностранцев, в России «все они называют себя холопами, то есть рабами Государя… Этот народ находит больше удовольствия в рабстве, чем в свободе» (Герберштейн С. Записки о Московии. М., 1988. С.72:112). Нужно заметить здесь, что в отличие от западноевропейского вассалитета – системы договорных отношений – на Руси были отношения недоговорного начала – министериалитет. Политическая иерархия католико-протестантского Запада покоилась на иерархии собственности, вассальных прав и привилегий, в то время как на Руси вассалитет был генетически обусловлен княжеско-дружинными отношениями и являлся преемником военной демократии, где доминировали отношения равенства, а князь был первым среди равных. Впоследствии, с развитием идей самодержавия, территории государства с его народом стали пониматься как удел и ответственность верховной власти перед Богом, а от этого выстраивалась социально-аксиологическая система иерархических моделей взаимоотношений и управления.
См.: Колесов В. В. Древняя Русь: наследие в слове: Мир человека. СПб., 2000; Фроянов И. Я., Дворниченко А. Ю. Города-государства Древней Руси. М., 1988.
Древнерусский город стал необходимой опорой складывающегося государства и элитарных слоев. Городское население образовывало сложное сообщество, в котором культура разных социальных и этнических образований с их неповторимыми особенностями была результатом постоянного и тесного взаимодействия. См.: Тихомиров М. Н. Древнерусские города. М., 1956; Вернадский Г В. Киевская Русь. М., 1996.
См.: Даркевич В. П. «Градские люди» Древней Руси: XI–XIII вв. // Из истории русской культуры. Т. 1: Древняя Русь. М., 2000. С. 640–691.
См.: Домострой / подг. текста, пер. и коммент. В. В. Колесова // Памятники литературы Древней Руси: Середина XVI в. М., 1985. С. 70–173, 580–586; Сильвестра послание и наказания от отца к сыну // Памятники древнерусской церковно-учительной литературы. СПб., 1897. Вып. 3; см. также: Клибанов А. И. Духовная культура средневековой Руси. М., 1994.
См.: Фроянов И. Я. Древняя Русь: Опыт исследования истории социальной и политической борьбы. СПб., 1995.
См.: Рыбаков Б. А. Киевская Русь и русские княжества XII–XIII вв. М., 1982; Аничков Е. В. Язычество и Древняя Русь. СПб., 1914; Скрипиль М. О. Легендарно-политические сказания Древней Руси: Доклады и сообщения филол. ф-та Ленинградского гос. ун-та. Вып. 2. Л., 1950; Зимин А. А. Холопы на Руси: (С древнейших времен до конца XV в.). М., 1973; Романов Б. А. Люди и нравы Древней Руси. М.; Л.,
См.: Русская правда. Т. 1–3. М.; Л., 1940–1963; Закон Судный людем (Пространной и сводной редакции). М., 1961.
Память и похвала Иакова Мниха и Житие князя Володимера (л. 531об.); Житие и хождение Даниила, русской земли игумена, в Иерусалим (РГБ. Ф. 310. № 709). С. 24–26.
См.: Соловьев С. М. Соч.: в 18 т. М., 1988. Кн. 1. Т. 2. С. 500; Даркевич В. П. Указ. соч. // Из истории русской культуры. Т. 1: Древняя Русь. С. 656.
См.: Знаменский П. В. Повинности духовенства в Древней Руси // Православное обозрение. 1867. Т. XXII. № 2. С. 181–226; Он же. Образование духовенства в древней Руси // Там же. 1867. Т. XXII. № 4. С. 476–500. Содействие духовенства народному образованию // Странник. 1860. Январь. IV. С. 70; 1861. Октябрь. IV. С. 162; 1863. Июль. VI. С. 10; Труды духовенства по распространению грамотности в народе // Странник. 1862. Апрель. IV. С. 316.
1 См.: Действие греческаго Номоканона в Древней Руси по церковно-судным делам // Православный собеседник. 1860. Ч. I. С. 253 и сл., 359–296; Павлов А. С. Номоканон при Большом Требнике. Одесса, 1872; Рукописная Кормчая XV века // Православный собеседник. 1860. Ч. I, II. С. 202, 306.
См.: Каптерев Н. Ф. Власть патриаршая и архиерейская в Древней Руси в их отношении к власти царской и к приходскому духовенству // Богословский вестник. 1905. Январь, июль; Духовенство и земство // Руководство для сельских пастырей. 1864. II. С. 403, 669; Об отношении русских священноцерковнослужителей (духовенства) к приходам в XVII и XVIII столетиях // Православный собеседник. 1867. Ч. I. С. 6; Отношение русскаго православного духовенства к обществу // Руководство для сельских пастырей. 1862. I. С. 489.
Например, см. в наст. сб.: Шмидт В. В. Патриарх Никон: наследие русской истории, культуры и мысли. С. 765.
Уже в XI в. литературу оценивали как душеполезное домашнее чтение, а не только в применении к церковной службе. При Ярославе Мудром в Киеве работало много образованных профессиональных переводчиков – греков, болгар, были среди них и русские. Прежде всего на Русь из Византии переносили религиозно-дидактические сочинения – ветхозаветные Притчи Соломона, Книгу Премудрости Соломона, Книгу Премудрости Иисуса, сына Сирахова, состоявшие из отдельных нравоучительных изречений. Псалтырь, настольная книга любого грамотея, известная в русских списках с XI в., особенно отвечала настроениям и эмоциональным всплескам средневекового человека – ее использовали для обучения грамоте, по ней вместе с тем гадали о будущем. Из новозаветной части Библии стойко привились притчи и поучения Христа, разъяснявшие основы этики новой религии. Извлечения из Библии, Апостольских посланий, святоотеческих произведений составили переведенный с греческого сборник назидательных изречений «Пчела» (широко распространен – имеется практически в каждом рукописном отделе российских библиотек). При его посредстве читатель мог познакомиться с афоризмами классических и эллинистических философов. Перед книгочеем вырисовывался идеал практической жизни мудрого человека: познавай себя, борись за правду против зла, отвечай за свои поступки, соблюдай христианские заповеди.
Даркевич В. П. Указ. соч. // Из истории русской культуры. Т. 1: Древняя Русь. С. 666. О появлении книг у восточных славян, об их жанрах и их восприятии см.: Калугин В. В. «Кънигы»: отношение древнерусских писателей к книге // Древнерусская литература: Изображение общества. М
Главными книголюбцами, переписчиками и книгочеями стали монахи; труд летописцев приобрел в национальном самосознании моральное измерение (создание летописи считалось нравственным и религиозным подвигом, угодным Богу; в описываемых событиях искали нравственных поучений). Христианский идеал Руси в значительной мере отождествлялся с монашеским образом жизни и служения: доминировала тема соединения, созерцания Бога и активного служения во славу Его. В центре древнерусской церковной жизни стояло не «богословское исследование», но практическое подвижничество. В деревенских приходах складывалось «бытовое православие», вводящее в мир архаических верований и преимущественно аграрного ритуализма, ставшее наиболее благодатной почвой для языческих ритуалов, магических действий, в которых христианский пласт сосуществовал с древними суевериями, мировидением и соответствующими способами религиозно-магического поведения в виде формульно ритуальных синкретичных элементов. Приходской священник – одна из ключевых фигур русской культурной жизни. «Русская народная душа воспитывалась не столько проповедями и доктринальным обучением, сколько литургически и традицией христианского милосердия, проникшей в самую глубину душевной структуры», – писал Бердяев (Бердяев Н. А. Русская идея // О России и русской философской культуре. М., 1990. С. 235; см. также: Каптерев Н. Ф. Характер отношений России к православному Востоку в ХVI и XVII вв. Серг. Посад, 1914). Этому пластическому, поющему и движущемуся воплощению как философии христианства, так и его истории, этой художественной материализации их (К.Н. Леонтьев) простолюдины были обязаны знакомством с основными доктринами учения популяризации богословской науки.
См.: Петухов Е. Нестор: Историко-критическое рассуждение о начале русских летописей. М., 1839; Приселков М. Д. Нестор-летописец: Опыт историко-литературной характеристики. Пг., 1923.
См.: Жданов И. Н. Слово о законе и благодати и похвала Кагану Владимиру // Жданов И. Н. Соч. Т. 1. СПб., 1904. С. 74; Горский В. С. Образ истории в памятниках общественной мысли Киевской Руси: (На основе анализа «Слова о законе и благодати» Илариона и «Слова о полку Игореве»)
См.: Самсонова Т. В. Теоретические проблемы этики. М., 1966; Гуревич А. Я. Время как проблема истории культуры // Вопросы философии. 1969. № 3. С. 116.
См.: Лихачев Д. С. Прошлое – будущее: статьи и очерки. Л., 1985. С. 274–311; Он же. Поэтика древнерусской литературы. М., 1979. С. 34–35.
См.: Ложные и отреченные книги русской старины, собранные А. Н. Пыпиным // Пыпин А. Н. и история русской литературы. Т. 1: Древняя письменность. СПб., 1911. С. 15; Изборник 1076 г. / изд., подг. текста В. С. Голышенко, В. Ф. Дубровиной, В. Г. Демьянова, Г. Ф. Нефедова. М., 1965. С. 96.
См.: Будовниц И. У. «Изборник» Святослава 1076 года и «Поучение» Владимира Мономаха и их место в истории русской общественной мысли // ТОДРЛ. Т. X. М.; Л., 1954; Черепнин Л. В. Русская историография до XIX века. М., 1957; Пашуто В. Т., Флоря Б. Н., Хорошкевич А. Л. Древнерусское наследие и исторические судьбы восточного славянства. М., 1982.
См.: Дьяконов М. А. Очерки общественного и государственного строя Древней Руси. СПб., 1912; Колесов В. В. Древняя Русь: наследие в слове: Мир человека. СПб., 2000.
Провозглашением нравственного императива завершается Изборник 1073 г. См.: Рыбаков Б. А. Из истории культуры Древней Руси. М., 1984. С. 65–66.
См.: Кизилов Ю. А. Историческое мировоззрение автора «Повести временных лет» // Вопросы истории. 1978. № 10. С. 61–78.
См.: Лихачев Д. С. «Слово о полку Игореве» и культура его времени. Л., 1978. С. 11.
См.: Мильков В. В. Осмысление истории в Древней Руси. СПб., 2000. С. 189–197; Лихачев Д. С. Русские летописи и их культурно-историческое значение. М.; Л., 1947; Иларион, митр. Слово о законе и благодати // Срезневский В. Мусин-Пушкинский сборник 1414 года в копии начала XIX-го века. СПб., 1893; Повесть временных лет. СПб., 1996.
Слава прошлых лет, современных митрополиту Илариону дней внушает надежду на новые достижения. Дохристианское прошлое выступает также в качестве прообраза будущего могущества Руси – прошлое и будущее как бы стягиваются к настоящему, которое образует вечно длящееся время мифологического сознания. В видении истории это порождает ощущение тесной сопряженности настоящего с прошлым, что сообщает образу Руси историческую глубину, выступает «тем “четвертым измерением”, в рамках которого воспринималась и становилась “обозримой” вся обширная Руськая земля» (Лихачев Д. С. Величие древней литературы // Памятники литературы Древней Руси: XI – начало XII в. С. 6). Идея независимости и единства «земли Руськой», чувство личной сопричастности судьбам Родины живет в древнерусской литературе, и не только в литературе XI–XII вв. (Борисоглебский цикл), XV–XVI вв. (Филофеев цикл), но и во всей полноте святоотеческой и канонической аргументации воплощено в наследии Патриарха Никона (Никон, Патриарх. Возражение или Разорение… // Патриарх Никон. Труды. С. 197–463).
См.: Повесть временных лет: Лаврентьевский список. СПб., 1910. См. цикл записей 1068, 1092–1095, 1096 гг.
В философии истории Древней Руси априори присутствует интерес к категории начала – «откуду есть пошло». Эта категория не столько связана с видением пространства-времени, сколько с уяснением начала как закона. Начало понимается как основание, принцип, правило, к которому «восходят» своими истоками все последующие события (см.: История всемирной литературы: в 9 т. М., 1983. Т. 1. С. 278; Мильков В. В. Осмысление истории Древней Руси. С. 23–106).
Религиозно-философская доктрина, положенная в основу «теории казней Божьих», – это восприятие и понимание Бога как судьи, карающего за отступление от нравственных требований христианства. Авторитет «теории казней», как она оформилась на страницах «Повести временных лет», вышел далеко за пределы XII в., на многие столетия вперед определив нравственные оценки отечественной истории. Историософия «теории казней», сосредоточив внимание на моральном факторе истории, имела в прицеле практическую нравственность, пытаясь воздействовать на нее фактором устрашения (см.: Каравашкин А.В. Свобода человека и теория «казней Божьих» в полемических сочинениях Ивана Грозного // Литература Древней Руси. М., 1996).
Идейно-религиозное направление «антиказни» отстаивало неприятие порядков (равно как и их идеологического оправдания), подрывающих единство страны, силы и способность народа к самозащите, установление в стране сильной и справедливой власти, способной обеспечить цельность и независимость княжеств, включая и их свободное духовное развитие (см., например: Поучение архиепископа Локы к братии // Памятники древнерусской церковно-учительной литературы. Вып. 1. С. 14, 16 и др.; Лука (Жидята). Поучение // Известия Отд. русск. яз. и словесности академии наук. СПб., 1913. Т. 28. Кн. 2; Серапион Владимирский. Поучения // Петухов Е. В. Серапион Владимирский, русский проповедник XIII века. СПб., 1888). Теоретические принципы «антиказни», отвергая идеи покорности и смирения, формулировали активную жизненную позицию, закрепляли в сознании чувство исторического оптимизма.
Повесть временных лет: Лаврентьевский список. СПб., 1910. См. цикл записей 1110 г. Логика поступков человека (князя) – не обыденно-земная, ее понимание возможно лишь с позиции монашеского отрешения от плотского: монах побеждает мир (грех) подвигом аскезы и воздержания, подлинный подвиг князей – реальная смерть ради преодоления притяжения плотского, суетного, уводящего от Бога земного бытия (см.: Феодосий Печерский. Послания и обучения // ТОДРЛ. Т. 5. М.; Л., 1947). 3 Повесть временных лет: Лаврентьевский список. С. 40, 132, 189–191, 193.
Повесть временных лет: Лаврентьевский список. С. 40, 132, 189–191, 193.
См.: Попов А. Н. Библиографические материалы: Книга Еразма о Святой Троице // ЧОИДР. 1880. Кн. IV.
Повесть временных лет. С. 189–191.
Там же. С. 22–23 (см. цикл записей 1036 г.).
См.: Федотов Г. П. Судьба и грехи России: в 2 т. СПб., 1992. Т. 2. С. 278; о долженствующем образе единства вероучения и жизни человека см.: Абрамович Д. И. Исследование о Киево-Печерском патерике как историко-литературном памятнике. СПб., 1902. С. 185; Топоров В. Н. Святость и святые в русской духовной культуре. Т. 1: Век христианства на Руси. М., 1995. С. 60; о проблеме свободомыслия см.: Бязрова Т. Т. Проблемы свободомыслия, его места и роли в духовной жизни Древней Руси // Актуальные вопросы научного атеизма. М., 1987. С. 66–80; Свободомыслие и атеизм в древности, Средние века и эпоху Возрождения / под ред. А. Д. Сухова. М., 1985.
См.: Бондарь С. В. Древнерусский «Изборник 1076 года» как источник изучения философской культуры Киевской Руси // Проблемы философии. Киев, 1982. Вып. 56. С. 17–24; Иванов В. Г. История этики Средних веков. М., 1984. С. 205–219; Протопопов С. «Поучение» Владимира Мономаха как памятник религиозно-нравственных воззрений и жизни на Руси в дотатарскую эпоху // Журнал Министерства народного просвещения. 1874. Февраль.
Н. М. Карамзин пишет: «…разделение нашего Отечества и междоусобные войны, истощив его силы, задержали россиян и в успехах гражданского образования: мы стояли или двигались медленно, когда Европа стремилась к просвещению… С половины XI века состояние Европы явно переменялось в лучшее; а Россия со времен Ярослава до самого Батыя орошалась кровию и слезами народа. Порядок, спокой ствие, столь нужные для успехов гражданского общества, непрестанно нарушались мечом и пламенем княжеских междоусобий…» (История государства Российского: в 6 кн. М., 1993. Кн. 6. Т. V–VI. С. 204). Вот поэтому идея порядка (социально-политические идеи) является доминирующей в умонастроениях мыслителей русского Средневековья (см.: Будовниц И. У. Русская публицистика XVI в. М.; Л., 1947; Лурье Я. С. Идеологическая борьба в русской публицистике конца XV – начала XVI века. М.; Л., 1960).
Обращает на себя внимание тот факт, что транслированная вместе с Православием как системой вероисповедания, моделью государственного устройства, идеологии и институционального взаимодействия «симфония» властей находит особое развитие на Руси (см. в наст. сб.: Лескин Д. Ю. Византийский идеал «симфонии» двух властей и его влияние на формирование церковно-государственных отношений в России. С. 1113; Тодоров А. А., Шмидт В. В. Человек – общество – Церковь – государство: мир Бога и власть государства. С. 1126).
Также весьма интересным является и переосмысление русской книжной традицией (социально-политической, религиозно-философской мыслью и идеологией) древнейшей христианской символики. Если во времена Императора Константина доминирующим в государственной символике являются Крест и образ Георгия Победоносца, а со времен Императора Юстиниана вводится образ орла с двумя головами (прор. Иезекииль), символизирующий насаженную плодоносящую ветвь Христову – Православную Церковь, Империю как живущую в законе и благодати Божией под началом Императора-защитника и Патриарха-святителя, то со времени централизации и становления Московского Царства этот символ находит свое окончательное развитие как символ православной державы. Если в византийской традиции было сформулировано понятие Софии как Иисуса Христа [после иконоборческой ереси (7 Вселенский собор) произошло окончательное и полное оформление догматической системы Православия], а в иконах «Христос – процветшее древо» (в сплетенных двух ветвях, означающих две природы и две воли во Христе – Божественную и Человеческую, утвержден Иисус Христос, из правой и левой ветвей Которого «проросли апостолы») и «София – Премудрость Божия» центральной фигурой является Иисус Христос, то русская традиция, особым духовным созерцанием постигшая пророчества Иезекиля о судьбах мира и Церкви, в своих иконографических решениях утверждает на месте Иисуса Христа как Церкви и ее Главы Пресвятую Богородицу как образ (тело) Церкви [см. икону: «Богоматерь Владимирская» (она же «Древо Московского государства» и «Похвала Богоматери Владимирской») с помещенными в боковых ветвях с одной стороны князьями, а с другой – святителями].
Таким образом, восприняв Православие в его византийской традиции, Северо-западная Русь, проходя этапы собирания земель и централизации в лоне Московского княжества, после падения Константинополя воскрешает и развивает древнее пророчество и готовится вступить в наследные права Православной Вселенной. Митрополия из Владимира переносится в Москву, утверждается не только автокефалия Русской Церкви, но она возводится в ранг Патриархата, т.е. на место отпавшей от Православия Римской кафедры устанавливаются родовые связи с Константинопольскими базилевсами, а впоследствии и со всеми европейскими правящими династиями, ведущими родство от семени Царя Давида.
В государственной символике закрепляется образ все того же пророка Иезекиля – двуглавая птица, распростертые крылья которой означают и просвещение всего мира словом Христовым, и омофор Церкви над Вселенной и ее народами, и недостижимую для дьявольских козней высоту полета; головы же этой птицы, означающие два естества и две воли во Христе, означают ответственную и зоркую мудрость и решимость в мирском и духовном управлении телом (обществом, государством) и защите Церкви как мира (Эйкумены, Вселенной), который олицетворяет тело птицы. Верховная корона символизирует Бога, от Которого все бысть, Которым и по воле Которого подается (символизируют источники – ленты) всякое начало и власть (короны над головами птицы).
Когда же, с развитием церковно-гражданских и общественно-государственных отношений и их институтов (третья четверть XVII в.), стали необратимыми процессы секуляризации и персоналистские тенденции в жизни и в отправлении гражданско-государственной власти, процесс крушения «симфонии» в гражданско-государственном управлении, Святейший Патриарх Никон ввел в жизнь символический образ Церкви и ее духовной власти – герб (см. в наст. сб.: Комаровская Е. П., Мурзин-Гундоров В. В., Шмидт В. В. Царь Алексей Михайлович и Патриарх Никон: символика светской и духовной власти Руси. С. 1073).
В сочинениях митрополита Илариона вырисовываются контуры консолидирующих нравственных ценностей: единство и равенство, идеал святой Руси, идея «нового, свежего народа», «идеал князя-просветителя», опирающегося на религиозные истины христианства, идея самодержавности Киевского княжества. Эти принципы легли в основу формулы государства как «симфонии» духовной и светской власти, доктрины «Москва – Третий Рим».
В образе Сергия Радонежского гармонично выразился русский идеал святости, объединяющий мистическое и политическое. С именем Сергия Радонежского связана миссия «нравственного дела», «нравственного воспитания народа», что символизировало политическое и нравственное возрождение Русской земли в XIV в. В этом контексте навыки монастырского общежития выступают как идеальные нормы нравственного поведения в обществе. Сергий Радонежский создал практическую школу благонравия, в которой, кроме религиозно-иноческого воспитания, главными житейскими науками были уменье отдавать всего себя на общее дело, навык к усиленному труду и привычка к порядку в занятиях, помыслах и чувствах. С образом Сергия Радонежского связано и утверждение в русском богословии идеи о приоритете нравственной силы над политической мощью.
См.: Смирнов И. И. Очерки политической истории Русского государства 30–50 годов XVI века. М.; Л., 1958.
См.: Федотов Г. П. Россия и свобода // Федотов Г. П. Судьба и грехи России. Т. 2. С. 280 и сл.
См.: Веселовский С. Б. Исследования из истории опричнины. С. 127, 154–155, 162–163, 198–199, 478. 4 Утверждение места и роли нового и мощного государства, каким стала Русь, отводилось, по замыслу
Утверждение места и роли нового и мощного государства, каким стала Русь, отводилось, по замыслу Ивана Грозного, «Лицевому летописному своду», который составил 10 т. См.: Сочинения Ивана Семеновича Пересветова // Памятники литературы Древней Руси: Конец XV – первая половина XVI века. С. 606.
См.: Карпов Федор. Послание митрополиту Даниилу; Послание старцу Филофею // Летопись занятий Археографической комиссии. 1908. Вып. 21; Зимин А. А. Общественно-политические взгляды Федора Карпова // ТОДРЛ. Т. XII. М.; Л., 1956.
См.: Панеях В. М. Русь в XV–XVII вв.: Становление и эволюция власти русских царей // Власть и реформы. СПб., 1996; Колычева Е. И. Холопство и крепостничество (конец XV–XVI в.). М., 1971, и др.
См.: Савельева М. Ю. Трансформация представлений о «Святой Руси» от Царства к Империи // Человек верующий в культуре Древней Руси: Мат-лы междунар. конференции (5–6 декабря 2005 г.). СПб., 2005; Рамазанова Н. В. Святая Русь в церковно-певческом искусстве середины XVI–XVII вв. // Там же; см. в наст. сб.: Рыбаков Ю. М., Меньщиков А. А., Шмидт В. В. Внешняя политика Русского Царства в XVII в. С. 1144.
См.: Синицына Н. В. Полемика в русской общественной мысли периода образования и укрепления Русского централизованного государства (конец XIV – конец XVI вв.)
Почти столетие потребовалось русским книжникам, чтобы обосновать божественные, нравственные и исторические права Москвы и московских Самодержцев. Еще при жизни Василия Темного, в 1461–1462 гг., неизвестный автор пишет сочинение, в котором утверждается необходимость учреждения автокефалии Русской Церкви. Автор называет Василия Темного «новым Владимиром» и одновременно «новым Константином». Русь представляется как оплот Православия, а Московский Великий Князь оказывается верховным блюстителем (прежде всего защитником) Православной Церкви, каким ранее был Византийский Император.
В начале ХVI в. Спиридон, сосланный Иваном III в Ферапонтов монастырь под именем Савва за то, что был поставлен Константинополем на Киевскую митрополию, составил сказание о Мономаховом венце, в котором утверждал преемство власти Московского Князя от Римского Кесаря Августа. Уже после его смерти было создано «Сказание о князьях Владимирских», в котором были использованы легенды о происхождении Русских Великих Князей от Августа и о приобретении Владимиром Мономахом царских регалий от Византийского Императора Константина Мономаха. Далее на основе этого «Сказания» был составлен «Чин венчания» Московских Государей, а в 1547 г. Иван Васильевич IV был коронован шапкой Мономаха на Русский престол (в это же время на дверцах царского трона в Успенском соборе Кремля были вырезаны сцены и собственно текст сказания).
Типология святых князей позволяет выделить: князей равноапостольных, князей-иноков, князей-страстотерпцев и прославленных своим общественным служением. Устойчивый образ русского святого князя складывается из следующих черт: в нем нет аскетизма, он полон мужественной красоты и силы; благочестие выражается в преданности Церкви, в молитве, в строительстве храмов и уважении к духовенству; отмечаются его нищелюбие, заботы о слабых, сирых и вдовицах, реже – правосудие; его военные подвиги, мирные труды, мученическая смерть представляются выражением одного и того же подвига жертвенного служения и любви – во имя своего града, земли Русской, православных христиан – в этой жертвенной любви и заключается христианская идея княжеского подвига.
Святые князья канонизировались не за политические или иные заслуги, а за подвиг жертвенной любви. Канонизация означала факт универсализации их нравственных поступков и деяний, совершенных ради мирского блага. Древняя Русь увидела в святых князьях прежде всего общих предков, заступников, носителей чести и долга.
Канон страстотерпца как моральной личности представлен в нравственном сознании Древней Руси именами Бориса и Глеба, которые были первыми канонизированными святыми. Они не были мучениками за Христа, но пали жертвой политического преступления в княжеской усобице: смысл их христианского подвига состоит в добровольной смерти от рук старшего брата. Морально-политическая идея, лежащая в основе их подвига, – идея послушания старшему брату. Смерть Бориса и Глеба стала голосом совести в междукняжеских удельных счетах, не урегулированных правом, но ограниченных идеей родового старшинства.
Евангельское обоснование подвига подчеркивает отсутствие мотива политического долга в поступке князей. В этом смысле их мученичество лишено всякого подобия героизма, напротив, выделяется их человеческая слабость, беззащитность, при этом смысл вольного страдания в образе непротивления смерти торжествует в Глебе над его человеческой слабостью. Таким образом, христианский страстотерпец предпочитает мученически умереть, чем сохранить жизнь, нарушив христианскую заповедь: быть кротким сердцем, отвечать на зло добром, не противиться насильнику насилием. В аскетизме Бориса и Глеба проявились такие христианские добродетели, как милосердие, смирение, незлобие, послушание.
См.: Свердлов М. Б. Генезис и структура феодального общества в Древней Руси. Л., 1983. С. 33–34.
См.: Обнорский С. П. Очерки по истории русского литературного языка старшего периода. М.; Л., 1946. С. 126–129; Кусков В. В. История древнерусской литературы. М., 1989. С. 123; Скрипиль М. О. «Слово» Даниила Заточника // ТОДРЛ. Т. XI. М.; Л., 1955. С. 79.
См.: Бычков А. К. Этические мотивы в духовной культуре Киевской Руси // Проблемы философии. Киев, 1982. Вып. 56. С. 10–17.
См.: Платонов И. С. Начало политического раскола в России: середина XVII в. Даугавпилс, 2001.
Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. М., 1981; Курбский А. От другие диалектики Ивана Спанинбергера о силогизме к вытолкованию // Харлампович К. В. Новая библиографическая находка. Киев, 1900. О философских взглядах А. Курбского см.: Гаврюшин Н. К. Научное наследие А. М. Курбского // Памятники науки и техники: 1984. М., 1986. С. 210–236; Елисеев С.А. О некоторых особенностях философско-исторических взглядов Курбского // Вестник Моск. ун-та. Серия История. 1983. № 3. С. 68–77.
Макиавеллиевская концепция о назначении Государя в представлении русских мыслителей (Иван Пересветов, Максим Грек, Феодор Карпов) базировалась на представлении о всесилии человеческой личности, о достаточности доброй воли монарха, чтобы переделать жизнь на новых основах. Она выражалась в идеях о различении свободы и произвола, о выводе государственных законов из разума и опыта, а не из богословия, в требовании свободы и равенства, в примате правды над верой. См. в ч. III наст. сб.: Описание вин, ими же к погибели и к разорению всякая царства приходят и с которыми делы в целости и смирении содержатся и строятся.
См.: Смирнов И. И. Беседа Валаамских чудотворцев и ее место в русской публицистике XVI века // Исторические записки. 1953. № 43; Зимин А. А. «Беседа Валаамских чудотворцев» как памятник позднего нестяжательства // ТОДРЛ. Т. XI.
Еразм-Ермолай. Благохотящим Царем правительница и землемерие // Летопись занятий Археографической комиссии за 1923–1925 гг. 1926. Вып. 33; Колесникова Т.А. Общественно-политические взгляды Ермолая-Еразма // ТОДРЛ. Т. IX. М.; Л., 1953.
Единый свод правил для повседневной жизни («Домострой») основывался на принципе «правда власти должна соотноситься с правдой жизни» и Божественной правдой и включал наставления, регламентирующие нравственные нормы русской средневековой жизни. Он отражал аксиологию человека Средних веков, включавшую добродетели: жизнь по средствам, доброе отношение к слугам и домочадцам, но также и телесные наказания в случае виновности, бережливость, скопидомство, послушание жены мужу и др. Эти правила приобретали самодовлеющее значение и самостоятельную ценность. См.: Домострой. М., 1991; Порфирьев И. Я. Домострой Сильвестра // Православный собеседник. 1860. Ч. III. С. 279; Найденова Л. П. Мир русского человека XVI–XVII вв. М., 2003; Смирнов С. И. Материалы для истории древнерусской покаянной дисциплины: Приложения // ЧОИДР. 1912. Кн. 3. Отд. 2. С. I–VI, 1–568.
См. в наст. сб.: Бусева-Давыдова И. Л. Роль государства и Церкви в развитии русского искусства XVII в. С. 938; Васильева Е. Е., Кручинина А. Н., Заболотная Н. В. Патриарх Никон: традиция и со временность (русское певческое искусство второй половины XVII – начала XVIII в.). С. 919.
Временник Ивана Тимофеева. М.; Л., 1951; Полосин И. И. Иван Тимофеев – русский мыслитель, историк и дьяк XVII в. // Ученые записки Моск. гос. пед. нн-та. Вып. 2. Т. X. М., 1949. В работах мыслителя нравственная позиция представляется не только как позиция власти, но и как позиция наблюдателя, который вышел за рамки своей прежней роли летописца, хронографа и стал наблюдателем-аналитиком.
См.: Полосин И. И. Социально-политическая история России XVI – начала XVII в. М., 1963; Формирование философской и социально-политической мысли в России XV–XVIII веков. М., 1946.
Самодержавное царство первых Романовых / сост., вступ. статья, комментарии Г. В. Талина; под ред. С. В. Перевезенцева. М., 2004.
Никон, Патриарх. Духовные наставления христианину // Патриарх Никон. Труды. С. 181–195 (также см. его в ч. III наст. сб.).
См.: Сахаров А. М. Церковь и образование Русского централизованного государства
См.: Зеньковский В. В. История русской философии. Т. 1. Ч. II. С. 44–45.
О православной этике см., например: Лифшиц В.Л. «Открытие человека»: Предпосылки возникновения и начальные этапы развития гуманизма в России // Проблемы гуманизма в домарксистской философии. Свердловск, 1987. С. 39–47; Бутузкина Е. Н. Религиозно-этические взгляды Нила Сорского // Философская мысль на Руси в позднее Средневековье. М., 1985. С. 68–76.
С вступлением на Великокняжеский престол в 1462 г. Иоанна III начинается новый период российской истории – история Московского Царства. Северная Русь, разбитая прежде на самостоятельные (удельные) миры, объединяется под единой государственной властью – Московского Великого Князя. Процесс создания единства начался еще в 1326 г., когда Иван Калита перенес митрополичью кафедру из Владимира в Москву, продолжился после первого разгрома соединенными силами всех северо-восточных князей, кроме Рязанского, в 1380 г. орд Мамая на Куликовом поле. Это военно-политическое объединение вокруг Москвы требовало централизации власти и соответственно безусловного ей подчинения, что происходило при сопротивлении Твери, Рязани, Новгорода и Пскова, не менее жестком, чем в столкновениях с Литвой или Ордой. В связи с этим Г. В. Плеханов замечает: «Полное подчинение личности интересам государства не было вызвано какими-нибудь особыми свойствами русского “народного духа”, оно явилось вынужденным следствием тех условий, при которых пришлось вести борьбу за свое историческое существование русским людям, поселившимся в верховьях Волги и мало-помалу объединенным Москвою. Раз возникнув, следствие это само сделалось причиной, сильно замедлявшей дальнейший экономический и культурный прогресс Великороссии. Но это не все. Оно затрудняло, кроме того, ту историческую работу собирания русских земель, за которую уже рано принялась Москва и которая до конца первой трети XVI в., вообще говоря, подвигалась очень быстро» (Плеханов Г. В. Соч. М.; Л., 1925. Т. XX. С. 94).
Шмидт В. В. Святого Живоносного Христова Воскресения монастырь Нового Иерусалима // Патриарх Никон. Труды. С. 621–821; Он же. Палестина Святой Руси (путеводитель с душепопечительным славословием) // Государство, религия, Церковь в России и за рубезом. 2009. № 2 (спецвыпуск). С. 177– 258; Он же. Святейший Патриарх Никон и его Новый Иерусалим // Богословские труды. 2002. № 37.
Никон, Патриарх. Возражение или Разорение… // Патриарх Никон. Труды.
См.: Ягич И. В. Рассуждение южнославянской и русской старины о церковно-славянском языке // Исследования по русскому языку. Т. 1. СПб., 1885–1895; Казакова Н. А., Лурье Я. С. Антифеодальные еретические движения на Руси XIV – начала XVI века. С. 176; Лурье Я.С. Перевод Лаодикийского послания
См.: Житие протопопа Аввакума; Книга бесед протопопа Аввакума. Пг., 1917.
Анализ идей протопопа Аввакума см.: Бороздин А. К. Протопоп Аввакум: Очерк об истории умственной жизни русского общества в XVII веке. СПб., 1900; Малышев В. И. Неизвестные и малоизвестные материалы о протопопе Аввакуме // ТОДРЛ. Т. IX; Сарафанова Н.С. Идея равенства людей в сочинениях протопопа Аввакума // ТОДРЛ. Т. XIV. М.; Л., 1958; см. также: Памятники истории старообрядчества XVII века
См.: Казакова Н. А., Лурье Я. С. Антифеодальные еретические движения на Руси; Клибанов А. И. Духовная культура средневековой Руси; Лифшиц В. Л. «Самовластие души» как гуманистический принцип в философской мысли Древней Руси // Наука и развитие общественных отношений. Свердловск, 1980. С. 103–106.
См.: Послание Федора Карпова Максиму Греку; Послание Федора Карпова митрополиту Даниилу // Памятники литературы Древней Руси: Конец XV – первая половина XVI века. М., 1984.
См.: Клибанов А. И. Духовная культура средневековой Руси. С. 319–330 (приложение).
См.: Ржига В. Ф. Литературная деятельность Ермолая-Еразма // Летопись занятий Археографической комиссии. Л., 1926. Вып. 33. С. 103–200.
См.: Зызыкин М. В. Патриарх Никон: Его государственные и канонические идеи: в 3 ч. Варшава, 1931–1938; М., 1995 (репринт); Зеньковский С. Русское старообрядчество. М., 1995. С. 197 (Мероприятия Патриарха Никона по исправлению книг почти невозможно понять, не принимая во внимание его интерес к внешней политике Московской Руси и ко Вселенскому Православию).
До указа Петра I (1.03.1702), по которому запрещалось использовать уничижительные имена в отношении к подданным, в обращении к верховной власти применялось сочетание «холоп твой» (в этом словосочетании для русского средневекового человека звучали благочестивые мотивы, поскольку все мы – рабы Божьи, а, значит, и холопы Государя, власть которого от Бога). По указу, вводилось обращение «нижайший раб», которое Екатериной II было заменено на «подданный» (см.: Юрганов А. Л. Категории русской средневековой культуры. М., 1998. С. 216–234).
См.: Плюханова М. Б. О некоторых чертах личностного сознания в России XVII века
Церковь вплоть до Смутного времени искала опору в государстве и сама возвышала авторитет светской власти, создавая в московский период истории идеологию национального православия, которая была закреплена решением Стоглавого собора, подтвердившим известные идеи о Москве как центре Вселенского Православия. Масштаб деятельности и фигура Патриарха Никона, нацеленного на удержание кафоличности и Вселенскости Церкви, никак не вписывались в эту традицию. Никон стремился не только утвердить институциональную самостоятельность и независимость Церкви среди общественно-государственных институтов, но и восстановить приоритет ее духовно-нравственного закона (каноники) перед законом социально-государственным.
См.: Житие протопопа Аввакума. С. 200.
Сказание Авраамия Палицына / под ред. Л. В. Черепнина. М.; Л., 1955; Живов В. М. Религиозная реформа и индивидуальное начало в русской литературе XVII века. С. 460–485.
Милюков П. Н. Очерки по истории русской культуры. М., 1992. С. 30.
См. в наст. сб.: Паламарчук П. Г. Москва, Мосох и Третий Рим: из истории политических учений русского средневековья. С. 1188.
Обращает на себя особое внимание культурно-научная и просветительская деятельность Святейшего Патриарха Никона. Им не только обеспечиваются создание духовно-культурных центров, школ, формирование библиотек на Руси, собирание святынь Вселенского Православия и проведение книжно-обрядовой справы – стимулируются процессы кросскультурного обмена, привлечения ученых-книжников, перевода литературных источников на национальный язык. В этот период появляется первая энциклопедия – «Скрижаль» и системное изложение русской (православной) философии в виде системной «Риторики».
РИБ. Т. 39. Стб. 67; Пустозерский сборник. 1975. С. 60.
РИБ. Т. 39. Стб. 547–548.
Как писал Г. В. Флоровский, нельзя объяснять «трудности древнерусского развития из бескультурности: этот кризис был кризис культуры, а не бескультурности… он был следствием и выражением внутренних трудностей». Эту цитату приводит В.В. Зеньковский в «Истории русской философии» (Т. 1. Ч. I. М., 1991. C. 42), поставив проблему своеобразия русского видения христианства как «церковного сознания» и «пробуждения в нем логоса».
Характеристику русского Средневековья как «периода молчания» Зеньковский считал неверной, потому что именно этот период был временем накопления духовных сил, а вовсе не дремоты духовной (там же. С. 31). П. Н. Милюков писал, что принятие христианства вызвало в русских людях огромный духовный подъем, подлинное одушевление. Конечно, внедрение христианства на Руси за пределами городов происходило медленно, но это не ослабляет самого «факта творческого одушевления». Уже в Древней Руси в христианском сознании заметен примат морального и социального начал, какой мы увидим в чрезвычайном выражении в русской философии XIX в. [см.: Щапов Я. Н. Церковь в Древней Руси (до конца XIII в.) // Православие в России: Вехи истории. М., 1989. С. 10–71].
Аверинцев С. С. К уяснению смысла надписи над конхой центральной апсиды Софии Константинопольской // Из истории русской культуры. М., 2000. Т. 1. С. 522.
Такого порядка тексты начинаются, как правило, так: Сия книга глаголемая Алфавит писана в простце. В начале зри, что глаголет Вседержитель: Аз есмь Алфа и Ωмега, начаток и конец. Глаголет Господь сый и бе грядый Вседержитель: Аз и Отец едино естество; Аз есть свет миру; Аз есмь путь, истина и живот; Аз во Отце, и Отец во Мне есть. Ниже. (Лк.) Слыши Израилю, Господь Бог твой Господь един (л. 701) есть. Аз Бог первый и по сих Аз есмь, разве Мене несть ктому, якоже Аз Господь Саваоф имя Мне (Исаиа, 42). Аз Господь творяй все. Славы Моея иному не дам. Аз есмь во веки. И десница Моя утверди небо, и рука Моя основа землю. [Мф. 2] Не Отец ли един всем вам есмь. Той премудрости водитель есть, и премудрым исправитель, в руку бо Его мы и словеса наша, и всякая мудрость и дел художество (см. далее: РГБ ОР. Ф. 218. № 1019: Сборник. Л. 701об.–745об.)
Публикуется по списку РГБ ОР. Ф. 299. № 78.
Кроме того, системой сносок к основному тексту приводится как дополнительный текст первой трети XVIII в. «Нравоучения от Священнаго Писания, по алфавиту избранная: Слыши, сыне, и вразумляйся» по списку РГБ ОР. Ф. 722. № 104: Юности честное зерцало, или Показание к житейскому обхождению, составленное Г. Бужинским.
(л. 38) α) Аще хощеши работати Господеви, уготови душу твою во смирение; аще премудр будеши себе, премудр будеши искренным твоим; аще ли зол будеши, един почерпнеши злая; аще узриши разумива ученью, и к нему и степени стезь его да трет нога твоя.
б) Бойся Бога и Царя и к ни единому же их протився; без совета ничто же твори; буи в смеху вознесет глас свой, муж же мудр едва мало осклабится.
в) Возлюби Господа Бога твоего всем (л. 38об.) сердцем твоим, и всею душею твоею, и всею мыслию твоею; в вине не мужайся, в пире не обличай искренняго; все творение приведет Бог на суть.
г) Господа чти от праведных трудов твоих; гортань сладок умножит други своя; горе глаголющим свет тму и тму свет.
д) До смерти подвизайся по истинне и Господь поможет ти; душа лукава погубит стяжавшая то ю; друга заступати не срамися.
е) Елико высок еси, толико смиряй себе; един есть вход всем в житие, подобен же нисход; есть молчай не имать бо совета несть молчай – ведый время.
(л. 39) ж) Жертва нечестивых мерзость Господеви; жестоко слово воздвизает брань; житие наше яко сень преходит.
з) Злословляй отца или матерь смертию да умрет; зависть не весть почитати полезною; завистию диаволею смерть вниде в мир.
и) Иже хранит своя уста, соблюдает от печали свою душу; иже отвещает прежде слышания, студ ему есть.
ï) Ϊереи почитай, старшим благотвори; ïконам (л. 39об.) покланяйся, не боготвори, но мысль к Первообразному возведи; ïдолу подобно сребро
к) Кротко ступание, кротко седение, кроток взор, кротко слово тебе будет; конь уготовляется в день брани и от Господа помощь; конь не учен свиреп и сын самодоволен блудник будет.
л) Любяй своего сына участит ему раны; лев ловит лов, а греси делающих неправду; лучше хлеб со сластию в мире, нежели дом исполнен со сваром.
м) Меды и дарове ослепляют очи премудрых; муж двоязычен открыет советы сонмищи; муж яр притворяет свары.
(л. 40) н) Небо высоко, земля широка, сердце же царево не обычно; не оправдай себе пред Богом и паче царя не мудрися; не буди скор языком твоим и ленив, и слаб в делех твоих.
о) Очи Господни и тмами светлейши солнца еста позирающе вся пути человечи; огнь палящь угасит вода и милостыня очистит грехи; обыкло покаряти не хотящих, насилство давит бо сие исполнии многи.
п) Преть человеком живот и смерть и еже изволит дастся ему; премудрость смирнаго вознесет главу его; помни суть, чай ответа и воздаяния по делом.
(л. 40об.) р) Разумей яко от всех сих приведет тя Бог на суть; раба разумива да любит душа твоя и не лиши его свободы; рвение и ярость умаляют дни.
с) Слава царева чтити повеления его; стут отца не наказан сын; согрешил ли еси не приложи к тому и о преждних ти помолися.
т) Тайну цареву добро хранити; терпелив муж лучше ищущаго науки; тиха дателя любит Бог.
у) Уста царя сохрани по словесех клятвы Божия не тщися; у Бога горда, богата, лжива и стара прелюбодея возненавидех; удержаваяй мзду от наемник яко проливай кровь.
(л. 41) θ) Философия истинная есть еже помнити смерть; фарисейскаго тщеславия отгребайся; фараонитския жестокости отбегай.
х) Хранит закон сын разумный, а иже хранит несытость – дасаждает; хранися буяго – да не приимеши труда; храни и себе, падению же братню не смейся.
ц) Царь премудр утверждение есть людем; цареви ложно ничто же да глаголется; (л. 41об.) царю слава во мнозе языце, во оскудении же людей падение силному.
ч) Чтый отца возвеселится о чадех; человек премудр молчит до времени; чада прелюбодею несовершенна будут и от закона преступна ложа семя исчезает.
ш) Широк путь вводяй в пагубу и мнози суть входящии в него; шум морский – безумнаго слово – тяготит бреги, не тучнит лука; шепотника и двоязычника подобает клясти.
щ) Щедр и милостив Господь, но и правосуден; щедраго рука не оскудеет; щадится праведных богатство, нечестивых потребится.
ю) Юзы в темницах посещати тщися.
ω) ωт зрака познан будет муж и сретением лица познан будет умный; ωткрываяй тайну – погубляет верность и не имать обрести други; ωт нищих другов таятся богатых двери, светлы же дворы богатым любезны.
См., например: Известие о рождении и о воспитании и о житии Святейшего Никона Патриарха Московского и Всея России, написанное клириком его Иоанном Шушериным. М., 1871; Гиббенет Н. Историческое изследование дела Патриарха Никона: в 2 т. СПб., 1882–1884; Субботин Н. Дело Патриарха Никона. М., 1862; Каптерев Н. Ф. Патриарх Никон и Царь Алексей Михайлович: в 2 т. М., 1909–1913; Зызыкин М. В. Патриарх Никон: Его государственные и канонические идеи: в 3 ч. Варшава, 1931–1938; Пальмер В. Патриарх и Царь: в 6 т. Лондон, 1871–1876. (на англ. яз.); Антоний (Храповицкий), митр. Восстановленная истина: О Патриархе Никоне
Термин «реформа» понимается нами в данном случае как «справа». Обычно под реформой подразумевается преобразование, изменение чего-либо. См., например: «С весны 1653 г. Никон приступил к проведению церковных реформ, которые внешне состояли в унификации русских церковных обрядов с греческими» (Байдин В. И., Шашков А. Т. История про древнее благочестие: Комментарий // Духовная литература староверов Востока России XVIII–XX вв. Вып. IX: История Сибири: Первоисточники. / отв ред. серии академик РАН Н. Н. Покровский. Новосибирск, 1999. С. 624. Употребление данного термина в отношении деятельности Патриарха Никона можно и должно рассматривать как бытующий некритичный историографический штамп, имеющий в себе пропагандистско-риторическое начало.
См., например: Андреев В. В. Исторические судьбы раскола. М., 1870; Он же. Раскол и его значение в народной русской истории: Исторический очерк. СПб., 1870; Бороздин А. К. Очерки русского религиозного разномыслия. СПб., 1900; Он же. Протопоп Аввакум: Очерк из истории умственной жизни русского общества в XVII веке. СПб., 1900; Бунин П. Великий раскол. М., 1912; Зеньковский С. А. Русское старообрядчество: Духовные движения XVII века. Мюнхен, 1970; Каптерев Н. Ф. Патриарх Никон и его противники в деле исправления церковных обрядов: Время патриаршества Иосифа. Серг. Посад, 1913; Макаров В. Е. Очерк истории старообрядчества: От Никона до наших дней. M., 1911; Он же. К вопросу о причинах разделения Русской церкви. M., 1912; Он же: Вопрос о причинах разделения Русской Церкви. M., 1912; Механников В., свящ. Историко-каноническое обозрение старообрядческого движения, как Церкви Христовой: Первый систематический опыт изложения, вновь пересмотренный автором и значительно дополненный. СПб., 1903; Мякотин В. А. Протопоп Аввакум: Его жизнь и деятельность: Биографический очерк. Пг., 1917; Смирнов П. С. Споры и разделения в русском расколе в первой четверти XVIII в. СПб., 1909; Он же. Внутренние вопросы в расколе XVII века: Исследование из начальной истории раскола по вновь открытым памятникам, изданным и рукописным. СПб., 1898; Тулупов Т. С. О разделении Русской Церкви: Материалы для изучения вопроса о расколе Русской Церкви, произошедшем при Патриархе Никоне и Царе Алексее Михайловиче. Саратов, 1915; Шахов М. О. Философские аспекты староверия. М., 1998; Лукин П. В. Народные представления о государственной власти в России XVII в. М., 2000.
Черная Л. А. О понятии «чин» в русской культуре XVII века // ТОДРЛ. Т. XLVII. СПб., 1993. Ведь недаром Патриарх Никон предпринимает серьезнейшую попытку формирования единого летописного российского свода, который затем получит именование Никоновской летописи.
См. там же.
«…боярин Василей Петрович Шереметев… велел благословить сына своего, бритобратца», – писал Аввакум. Боярин В. П. Шереметев с 1634 по 1639 г. был воеводой в Нижнем Новгороде. Назначение на воеводство в Казань он получил летом 1647 г. [см. подробнее: Материалы Записных книг Московского стола за 1646–1647 гг. (РИБ. Т. 10). СПб., 1886. С. 376]. Имя сына В. П. Шереметева, сопровождавшего его по дороге в Казань, Аввакум назвал в более ранней редакции своего Жития («…велел благословить сына своего Матфея бритобратца» – cм.: РИБ. Т. 39. Стб. II). Младший сын боярина Шереметева бритобрадец (бривший бороду) Матвей был стольником Царя Алексея Михайловича и одним из любимых его товарищей по охоте (см. подробнее: Филатов Н. Ф. На Нижегородской земле // Житие протопопа Аввакума, им самим написанное, и другие его сочинения. Горький, 1988. С. 285–286.)
См. например: Васильева Е.Е. Никоновская (Новоиерусалимская) школа в контексте русской культуры XVII века // Человек верующий в культуре Древней Руси: Мат-лы Международной научной конференции 5–6 декабря 2005 года. СПб, 2005. С. 107–127.
В. Ш.: В «Домострое» нормативная система была выстроена и кодифицирована в соответствии с системой духовно-нравоучительной, к примеру, «Лествицей», «Пчелой». Развитие и усложнение форм гражданско-социальных отношений питали секуляризационные умонастроения, которые породили потребность в кодификации и закреплении вышеназванных форм, что ранее было сделано, например, в Стоглаве. Дальнейшие секуляризационные тенденции вызовут Уложение 1649 г., которое в сравнении со Стоглавом пойдет еще далее: социальное начинает активно доминировать над духовным, а собственно секуляризационная интенция уже оформится как принцип государственно-церковных и церковно-гражданских отношений в духе Литовского статута. Как следствие государство стремится довлеть Церкви (в отличие от прошлых веков), с чем, собственно, и будет бороться Патриарх Никон сперва своим «Духовным наставлением христианину», а затем всей мощью апелляции к святоотеческой традиции и градским законам благоверных греческих и русских Великих Князей и Царей в своем «Возражении…», своим удалением ради «царева гнева», своим духовным стоянием в заточении «за слово Божие и Святую Церковь…».
Духовное завещание Никона, Патриарха Московского // Патриарх Никон. Труды / сост., научн. исслед. и подгот. документов к публ. В.В. Шмидта. М., 2004. С. 465–469.
«Будем вести себя благочинно» (Рим.13:13); «Чтобы вы благочинно и непрестанно служили Господу» (1Кор. 7, 35); «Епископ должен быть непорочен, одной жены муж, трезв, целомудрен, благочинен, честен, страннолюбив, учителен» (1Тим.3:2).
«Они не покорялись словам Божиим, и небрегли о воле Всевышнего» (Пс. 106, 11); «Дети мои! Не будьте небрежны; ибо вас избрал Господь предстоять лицу его» (2Пар. 29, 11); «Розга и обличение дают мудрость; но отрок, оставленный в небрежении, делает стыд своей матери» (Притч. 29, 15); «Проклят тот, кто дело Господне делает небрежно» (Иер. 48, 10); «Вид мудрости в самовольном служении, смиренномудрии и изнурении тела, в некотором небрежении о насыщении плоти» (Колос. 2, 23).
«Мы же оставивше вся, сиречь, отца и матерь, жену и чада, и други любовныя, и весь мир, и яже в нем красная и славная, в скорбех и бедах пребывающа и с телесными страстьми, яко со львом и со змием борющеся день и нощь, и малаго ради нашего небрежения, и слабости, и преслушания, со блудники и с мытари, и с грешники, осуждени будем… Но ниже о малем своем правиле попечение имамы, иже в церкви святой, и в келии нашей; и якоже подобает ни же о трапезном и о монастырском благочинии».
«Мы же убо вначале сие от себе отсечем и всеконечно отвержем таковое всепрезлое и прелютейшее небрежение. Проклят бо, рече, всякий творяй божественное дело велие с небрежением, и люто бо есть сей обычай долгий исцеляти. Сего ради, предже всего понудимся, братие, сами собою и положим себе сей святый и правый закон и заповедь добротворительную: воеже бы всегда поспешатися нам и прежде всех прилежно потщатися в соборе обретатися в божественнем и песнопетном деле, и со многоусердным тщатием притецати на душевную пищу. Точию да положим начало, и точию да начнем творити. И тако не оставит нас Господь Бог и дарствует нам милость Свою и послет всесильную помощь с высоты святыя Своея пренебесныя: любит бо ны зело и хощет всем спастися и ищет спасения нам. И се всякий ведый буди, яко кто трезвяйся [есть], той прибыток пользы своея всеспасительныя обрящет, а леняйся, таковый люте отщитится».
«И тако пришедша в божественную и святую церковь, якоже в самом небеси с вышними силами ставше, и неточию телесное благообразие наше показати имамы, но и ум весь собрати со сердечным чювством; и не шепщуще, ни глумящеся, ни же глосяще, но стисни свои руце и соедини свои нозе, и очи смежи, и ум собери, мысль же свою и сердце возми на небо. И тако со слезами и стенанием милость Божию призывая и да никакож изыдеши, когда от собрания без великия нужди. Сего убо ради, отцы и братия, понудим себе на дело Божие. Прежде о телесном благообразии и благочинии попечемся, потом же и о внутреннем хранении. И дело свое возлюбленно имамы, всех дел честнейши, еже к божественному пению и славословию всегда притекати и не скоро оттуду прежде отпущения исходити; и не шептати, ни глумитися, да не вместо Божественныя милости гнев Божий примам».
«Что же есть ищемое, еже от нас истяжется, еже со страхом многим и украшенным благоговеинством совоздвиженное и правомыслию и сокрушенным сердцем. Потомже сердечный нрав видимым образом показати ради стояния и ручнаго ради благочиния, и кроткаго и утишнаго ради гласа, тихое бо и кроткое любит Господь. На кого бо, рече, призре, но на кроткаго и молчаливаго, и трепещушаго Моих словес. И к цареви убо земному и то беседуя, всяким образом ухищряет, яко да много еже к нему благовеинство покажет… Но ты [же] сия не помышляеши, но сице небрежением и нерадением своим, и ни же самого себе веси, о чем инеему беседуеши, и о киих прошениях вещаеши. Не боишися, окаянне и [зло]страстне, яко тебе самому таковая иже на торжищах слышанная, во церкви святой не боящуся глаголати, и безчинными и нелепотными воплями обноситися, и во страшное оное время неполезная словесы вещати, и о суетных ти, и тяготных и минующих помышляющу, ленящуся и празднавающуся. Невозможно убо есть спастися нам, братие, таковая творящим и не боящимся страшнаго прещения Божия».
«Ащели же в церкви о тленных и суетных кто глаголет, лутчи есть паче тому не приходити, нежели раздражити Господа. Подобает же нам единодушно о всяком благочинии церковном вельми попещися, таковому прекословнину непокоривому страхом Божиим зело».
«И тако мы настояще и [сами] себе сугубую приобрящем и спасительную пользу, и самого Владыку нашего и Бога посреди нас спребывающа и неотходяща имамы [прибыти], и коемуждо нас, от благочинствующих, подавающу невидимо венцы нетленныя, иже с трезвением бодрости и со страхом Божиим и трепетом умильным предстоящим Ему, и источники слез изливающим. Лукавый же демон к сему уже и ни же воззрети смеет к нам. Ащели же с небрежением и нерадением [нашим] во страшное оное время неполезная вещающу кому и о суетных предглаголющу, и всякое пренебрежество яже о себе имущу, видев бес [яко] некую храмину праздну и пометену и бездверну сущу и якобы пусту стоящу обитель, скоро внидет и сотворит сего человека, прежде убо всякия беседы творити на молитве о тленных и о земных, потом же и поглумлятися, таже извлачит его и вон от всего святаго пения на премногий смех и на празднословие».
«Да и тем во кратце благоговейно и тихо мерно нуждное зело слово прорещи и о церковном токмо благочинии невелегласно[ж], но шептанием, да и прочих не усумнят и не смутят; и аще кого видят [нелепо] что творяща или козлогласяща и глаголюща преизлишше сих преданий благочинных, и никакоже да умолчат, но да возбранят и запретят».
«А кому будет нужда изыти вон от пения, и он да идет в келию свою, а пред церковию и пред трапезою не стояти ни с кем, и ни же седети; да не и прочии и инии братия пристанут и начнут стояти с ним, или собеседовати безвременно [и неполезно]. Сего бо ради празднословия и о божественном пении пренебрежения великаго ради, смерть всем человеком пренезапно приходит в мир».
«Нерадивый в своей работе брат расточителю» (Притч. 18, 10); «Нерадивая душа терпеть будет голод» (Притч.19:15).
«Я усердно принесу Тебе жертву» (Пс.53:8); «Усердно служа Богу день и ночь» (Деян.26:7); «Более же всего имейте усердную любовь друг к другу» (1Петр.4:8); «Пасите Божие стадо… надзирая за ним не принужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия» (1Петр.5:2); «Начальник ли – начальствуй с усердием» (Рим.12:8); – «Служа с усердием, как Господу, а не как человекам» (Еф.6:7); «Усердно стараться о том, чтобы жить тихо, делать свое дело и работать своими собственными руками» (1Фес.4:11).
«Лета убо моя к старости уже приближишася, и смертная [ми] чаша [в томлении моем] уготовляется: впадех убо во многия и различныя моя болезни, и ничтож ино возвещающу ми разве смерть и страшный суд Владыки моего Христа Бога. Сего ради боюся и трепещу, слышах бо Божественная писания глаголюща: истязан има быти настоятель о всех, иже по ним сущих, и аще может отсещи их от зла и не отсецает, кровь их от руку его Бог взыщет, и погибает таковый невнимателный и сам с ними, яко нерадив и ленив … не леностию и нерадением здешнее житие провождающе осуждени будем в страшное второе пришествие Господне».
«Яко ж, отцы наши и братия, и предстати имамы нелицемерному судищу Христову и слово воздати хощем о нашем монашеском житии, о делех же и о словесех, и о помышлениих наших, во истинну имамы страшен и немилостив суд прияти, иже хощет быти нерадивым и ленивым … прежде всего потщимся о сем яко да купно, егда клепание возгласит, тогда вся сущая яже есть в руках наших обретающаяся во скоре отметнем и со потщанием мнозем и усердием крепким потецем ко божественному и красному пристанищу всепресвятому церковному, якоже Петр святый и Иоанн богословный ко гробу Господню всеспасительному… Глаголет бо о сем великий Афанасий Патриарх святый Александрийский, яко святии ангели во церкви святой предстоят».
«И видят нерадиваго и усердствующаго, всякаго познавают нам невидимо. И иже коего со благоговением твердым, и яже не тако сущих и приходящих сведят же и кленущихся и празднословствующих и беседы пустышныя творящих назнаменуют».
«Такожде и мы, братия моя возлюбленная, аще нерадети начнем о соборном правиле, и напоследи всех приходяще и прежде всех отходяще, и яко нерадивии и ленивии отвержени будем от Бога. Сего ради, братие, всякое земное дело и попечение, и леность, и сон отвергша, потщимся всегда прежде всех тещи на молитву [святую]… Диавол бо яко волк и хищник прехитрый, лукав вельми сый, и вести о сем, яко вместо сих [наших] спасительных трудов царствия святаго небеснаго, наследие таковый усердный восприимет».
«Поминайте наставников ваших, которые проповедывали вам слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их» (Евр.13:7).
См., например: Возражение или Разорение смиренаго Никона, Божией милостию Патриарха, противо вопросов боярина Симеона Стрешнева, еже написа Газскому митрополиту Паисию Ликаридиусу, и на ответы Паисеовы // Патриарх Никон. Труды.
Ср.: Г-в С. Книги, цитируемые в произведениях Петра Могилы и людей, работавших под непосредственным его наблюдением и руководством // Киевские епархиальные ведомости. 1876. № 9. Отд. 2. С. 302–303; Беляев И. Д. Переписная книга домовой казны Патриарха Никона // Временник о-ва ист. и древностей российских при Московском ун-те. М., 1852. Кн. 15. Отд. II. С. 1–136; Аверинцев С. С. Поэтика византийской литературы. М., 1978. С. 287.
Зернова А. С. Книги кирилловской печати, изданные в Москве в XVI–XVII веках. М., 1958. С. 71; также см.: Шмидт В. В. Борьба за Кормчую: государство, общество, Церковь в эпоху Патриарха Никона // Имперское возрождение. 2008 № 4; Государство, религия, Церковь в России и за рубежом. 2009. № 1.
См. подробнее: Розенкапф, барон. Обозрение Кормчей книги в историческом виде. СПб., 1829. С. 82. Срезневский И. И. Обозрение древних русских списков Кормчей книги. СПб., 1897. С. 47–84.
Иннокентий, еп. Деятельное Богословие. М., 1819; Кочетов, прот. Черты деятельного учения веры. М., 1824; Бажанов, прот. Об обязанностях христианина. М., 1854; Фаворов, прот. Очерки нравственного учения. М., 1868; Он же: Чтения о христианской нравственности. М., 1880; Феофан, еп. Православное Нравственное Богословие. М., 1904 и др.
См. подробнее: Шмидт В. В. Жизнеописание Святейшего патриарха Никона // ЖМП 2002. № 11; Он же. Антропологические и нравоучительные воззрения Патриарха Никона // Патриарх Никон. Труды. С. 1011–1018.
Никон, Патриарх. Наставления христианину // Патриарх Никон. Труды; см. также: Осипенко М. В. «Наставления христианину» Святейшаго Патриарха Никона // Социальные конфликты в России XVII– XVIII веков. Саранск, 2005.
Возражение или Разорение смиренаго Никона… // Патриарх Никон. Труды.
Там же. Л. 92 (Мф.5:30), 159об. (Мф.5:40), 162об. (Мф.5:44), 166 (Мф.5:19), 187об. (Мф.5:12), 197 (Мф.5:44), 229об. (Мф.5:31), 244 (Мф.5:22, 28, 29), 277об. (Мф.5:39), 308об.–311 (Мф.5:1–23), 310об., 312об. (Мф.5:28), 313 (Мф.5:34), 314 (Мф.5:40), 315 (Мф.5:41), 318 (Мф.5:43–44), 321 (Мф.5:22), 351 (Мф.5:17), 425об. (Мф.5:23, 24), 435об. (Мф.5:33), 991, 723, 939 (Мф.5:40), 529об., 698об., 699 (Мф.5:17–18), 640 (Мф.5:44), 646, 674об., 724, 833об. (Мф.5:43), 666об., 845об. (Мф.5:32), 707, 707об., 710об., 717, 717об. (Мф.5:20–21), 714 (Мф.5:22), 719об., 793об. (Мф.5:38), 720об. (Мф.5:11), 723об. (Мф.5:42), 725об. (Мф.5:9), 732 (Мф.5:10), 777об. (Мф.5:30), 832об., 837об., 838, 844об., 912об. (Мф.5:34). Л. 918 (Мф.5:7, 12).
Там же. Л. 29об. (Мф.6:16), 125об. (Мф.6:24), 138 об, 139 (Мф.6:13), 286об. (Мф.6:10), 319об. (Мф.6:14, 15), 320 (Мф.6:19, 20).
Там же: Л. 2об. (Мф.7:1), 3 (Мф.7:3, 5), 26об. (Мф.7:6), 34об. (Мф.7:3), 46 (Мф.7:1–2), 88об. (Мф.7:5), 90об. (Мф.7:1), 147об. (Мф.7:3), 149об. (Мф.7:1), 324 (Мф.7:5), 339об. (Мф.7:23), 397 (Мф.7:18), 421об. (Мф.7:23), 440об. (Мф.7:15), 441 (Мф.7:20), 653, 707, 712об., 750об., 836 об, 972, 992об. (Мф.7:1–2), 536, 654 (Мф.7:22), 756 (Мф.7:6), 857об. (Мф.7:12), 917 (Мф.7:21).
Перевод: «Дети! Последнее время. И, как вы слышали, что придет антихрист, и теперь появилось много антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время. Они нашли нас, но не были наши; ибо, если бы они и были наши, то остались бы с нами; но они вышли, и чрез это открылось, что они не наши. Впрочем, вы имеете помазание от Святого и знаете все…» и т.д.
Скорее всего 1Ин.2:22–25: «Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос? Это антихрист, отвергающий Отца и Сына. Всякий, отвергающий Сына, не имеет и Отца; а исповедующий Сына имеет и Отца. Итак, что вы слышали от начала, то и да пребывает в вас; если пребудет в вас то, что вы слышали от начала, то и вы пребудете в Сыне и в Отце. Обетование же, которое Он обещал нам, есть жизнь вечная».
Патриарх Никон на правом поле листа «Возражения…» делает помету: Лук. 70. Здесь: Лк.13:1–5, что соответствует Евангельскому тексту: «В это время пришли некоторые и рассказали Ему о Галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их. Иисус сказал им на это: думаете ли вы, что эти Галилеяне были грешнее всех Галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам, но, если не покаетесь, все так же погибнете. Или думаете ли, что те восемнадцать человек, на которых упала башня Силоамская и побила их, виновнее были всех, живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но, если не покаетесь, все так же погибнете».
Патриарх Никон на правом поле листа «Возражения…» делает помету: к Сол. 275, здесь – 2Фес.2:7. Там говорится: «Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающий теперь».
Патриарх Никон на правом поле листа «Возражения…» делает помету: Мф.98, здесь – Мф.24:6–11. Там говорится: «Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец: ибо восстанет народ на народ, и царство на царство; и будут глады, моры и землетрясения по местам; все же это – начало болезней. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас; и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое; и тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга; и многие лжепророки восстанут, и прельстят многих; и, по причине умножения беззакония, во многих охладеет любовь; претерпевший же до конца спасется».
Патриарх Никон на правом поле листа «Возражения…» делает помету: Мф. 22; Ефес. 224. Здесь – Мф.26:41; Гал.5:22–23. Там говорится: «… бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение: дух бодр, плоть же немощна». «Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона».
Патриарх Никон на правом поле листа «Возражения…» делает помету: 1Кор. 134. Здесь – 1Кор. 6,10. Там говорится: «…ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царства Божия не наследуют».
Патриарх Никон на правом поле листа «Возражения…» делает помету: Мф. 10; Лук. 63. Здесь – Мф.13:42–50. Там говорится: «…и ввергнут их в печь огненную; там будет плач и скрежет зубов; тогда праведники воссияют, как солнце, в Царстве Отца их. Кто имеет уши слышать, да слышит! Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то. Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее. Еще подобно Царство Небесное неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода, который, когда наполнился, вытащили на берег и, сев, хорошее собрали в сосуды, а худое выбросили вон. Так будет при кончине века: изыдут ангелы, и отделят злых из среды праведных, и ввергнут их в печь огненную: там будет плач и скрежет зубов».
В гл. 13, ст. 30 Евангелия от Матфея говорится: «оставьте расти вместе то и другое до жатвы; и во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в связки, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою».
Патриарх Никон на правом поле листа «Возражения…» делает помету: Мф. 12:13. Здесь – Мф.5:22. Там говорится: «А Я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду; кто же скажет брату своему: “рака”, подлежит синедриону; а кто скажет: “безумный”, подлежит геенне огненной».
Как писал прот. Г. Флоровский в «Путях русского богословия», это была «острая романизация Православия, латинская псевдоморфоза Православия… и латинизации подвергается не только обряд и язык, но и богословие, и мировоззрение, и сама религиозная психология». О зависимости православного богословия от католического и протестантского см.: Тарасий (Курганский), иером. Великороссийское и малороссийское богословие XVI–XVII веков // Миссионерское обозрение: 1903 (Перелом в древнерусском богословии). Монреаль, 1979; Глубоковский Н. Н. Русская богословская наука в ее историческом развитии и новейшем состоянии. Варшава, 1928. Шафферт Е. А. Старообрядцы и Катехизис Петра Могилы. Новосибирск, 2004.
См. подробнее: Василий (Кривошеин), архиеп. Символические тексты в Православной Церкви // Богословские труды. 1968. №. 4.
См. подробнее: Гурьянова Н. С. Русская Православная церковь в XVIII веке и творческое наследие Киевской митрополии // Междун. научная конф. «Государство, церковь, общество: исторический опыт и современные проблемы». 11–13 апреля 2005 г. М., 2005. С. 174–178.
См. подробнее: Словарь книжников и книжности Древней Руси. СПб., 1993. Вып. 3: XVII в. Ч. 2. С. 163–166; Опарина Т. А. Иван Наседка и полемическое богословие Киевской митрополии. Новосибирск, 1998.
Иннокентий, еп. Деятельное Богословие. М., 1819; Кочетов, прот. Черты деятельного учения веры. М., 1824; Бажанов. Об обязанностях христианина. М., 1854; Фаворов, прот. Очерки нравственного учения. М., 1868; Он же. Чтения о христианской нравственности. М., 1880; Феофан, еп. Православное Нравственное Богословие. М., 1904; Православное исповедание Кафолической и Апостольской Церкви Восточной. Ч. 1: О Вере: Вопросы 106–107. М., 1831; Платон (Игумнов), архим. Православное нравственное богословие. М., 1993 и др.
См.: Никольский М. Очерк из истории духовнаго просвещения в конце XVII века // Православное обозрение. 1862. Т. IX. № 11; Вручение благоверной и христолюбивой Великой Государыне, премудрой Царевне, милосердной Софии Алексеевне, привилегии на Академию в лето от создания мира 7193, а от воплощения Бога Слова 1685, месяца Ианнуария в 21 день. Премудраго царя Соломона о премудрости в книгах его вещания, между 1682 и 1685 годами // Древняя Российская Вивлиофика. СПб., 1788. Ч. VI. № XIX. С. 390–420.
Весьма странно выглядят современные рассуждения и борьба, тем более что данный вопрос имеет свою историю – см., например: Иванцов-Платонов А. М., свящ. Предубеждения светских людей против богословских наук // Православное обозрение. 1863. Т. XII. № 9; О преподавании в университетах богословских наук
См. в настоящем сб.: Степнов П. П., Шмидт В. В. Морально-этическое сознание допетровской Руси: понятийно-категориальное осмысление славяно-русской философской мысли. С. 818.
«Азбуковники», помимо школьных правил и порядков, рассказывают о том, как после прохождения первоначального образования ученики приступают к изучению «семи свободных художеств», под коими подразумевались: грамматика, диалектика, риторика, музыка (имелось в виду церковное пение), арифметика и геометрия (геометрией тогда называлось «всякое землемерие», включавшее в себя и географию, и космогонию), наконец, «последней по счету, но первой действом» в перечне наук, изучавшихся тогда, называлась астрономия (или по-славянски «звездознание»). См., например: Азбуковник с доп. статьями (РГБ ОР. Ф. 310. № 976), Лексикон (Азбуковник) Лаврентия Зизания (РГБ ОР. Ф. 256. № 1; Ф. 310. № 974), Лексикон славенороссийский Памвы Берынды [РГБ ОР. Ф. 439. № 22.3; Ф. 178. № 2589 (Кутеинский); Шибан. № 215], Сказание о букве и о ее строении, яже потребна есть всем желающим правого учения книжнаго писания [РГБ ОР. М. № 108 (Большак)], Сказание о грамоте [РГБ ОР. М. № 23 (Большак)], Словарь еврейско-русский (РГБ ОР. Ф. 256. № 231), Толкование иностранных слов и образцы речи (РГБ ОР. Ф. 310. № 613). Также см.: Татищев В. Н. Лексикон российский исторический, географический и гражданский // Татищев В. М. Избр. произв. Л., 1979.
См., например: Риторика (РГБ ОР. Ф. 178. № 2778; Ф. 200. № 73 (Ниловск.); Ф. 256. № 192 (Румянц.); Ф. 299. № 607 (Тихонрав.); Ф. 310. № 874, № 875); Риторика (ГИМ ОР. Муз. № 710, № 2274; Синод. № 861, № 918, № 933; Щук. № 941); Риторика Софрония Лихуды (РГБ ОР. Ф. 299. № 532, № 640), Евхаристирион: Сборник стихов, поднесенных Петру Могиле от учеников риторики из школы при Лавре: Список с печатного изд. 1632 г. (РГБ ОР. М. № 943). См. также: Аннушкин В. И. Первая русская «Риторика» XVII века: Текст: Перевод: Исследование. М., 1999; Буланина Т.В. Риторика в Древней Руси: Сведения о теории красноречия в русской письменности XI–XVII веков: Автореф. дис. … к. филол. наук. Л., 1985; Виноградов В. В. Основные проблемы изучения образования и развития древнерусского литературного языка // История русского литературного языка. М., 1978. С. 65–151; Вомперский В. П. Риторики в России XVII–XVIII вв. М., 1988; Соболевский А. И. Образованность Московской Руси XV–XVII веков. СПб., 1903; Стратий Я. М., Литвинов В. Д., Андрушко В. А. Описание курсов риторики и философии профессоров Киево-Могилянской академии. Киев, 1982.
См., например: Грамматика (ГИМ ОР. Барс. № 2283; Вахр. № 983; Дубл. № 909; Муз. № 2417; Увар. № 226; Хлуд. печ. № 141д; Черт. № 337), Грамматика Лаврентия Зизания (ГИМ ОР. Хлуд. печ. № 51д; Черт. печ. № 732; Щап. № 123), Грамматика Константина Ласкаря (ГИМ ОР. Син. греч. № 497, № 498, № 499), Лудольф Г. В. Грамматика российская. Oxf., 1696 (ГИМ ОР. Щап. № 246); Илья Копиевич. Грамматика. Амстердам, 1700 (ГИМ ОР. Мнш. № 566, № 567), Грамматика Мелетия Смотрицкого (ГИМ ОР. Барс. № 2282; Дубл. № 490, № 844; Менш. № 560, № 561, № 693, № 1873, № 1910; Син. печ. № 334, № 734; Хлуд. печ. № 67; Цар. № А58; Черт. печ. № 44, № 192, № 593, № 637; Щап. № 126,), Грамматика Мануила Москопула (ГИМ ОР. Син. греч. № 322, № 323, № 500), Грамматика словенская (ГИМ ОР. Увар. № 364); Грамматика Патриарха Иосифа (ГИМ ОР. Дубл. № 806); Алфавит (грамматика) с доп. статьями (ГИМ. Муз. № 1681). См. также: Востоков А.Х. Русская грамматика по начертанию его же сокращенной Грамматики полнее изложенная. СПб., 1839; Грамматики Лаврентия Зизания и Мелетия Смотрицкого / сост., подг. текста, науч. коммент. и указатели Е. А. Кузьминовой; предисл. Е. А. Кузьминовой и М.Л. Ремневой. М., 2000; Крижанич Ю. Граматично изказание об русском иезику. Брянск, 1848; Ломоносов М. В. Российская грамматика. СПб., 1757; Смотрицкий Мелетий. Грамматики славенския правильное синтагма. Вильно, 1618; М., 1721; Еремин И. П. Лекции и статьи по истории древней русской литературы. Л., 1987; Майков Л.Н. Очерки по истории русской литературы XVII и XVIII столетий. СПб., 1889; Робинсон А. Н. Борьба идей в русской литературе XVII в. М., 1974; Пекарский П. Представители Киевской учености в половине XVII в. // Отечественные записки. 1862. № 2; Симеон Полоцкий и его книгоиздательская деятельность. М., 1982.
Русским книжникам, несомненно, был известен комплекс семи свободных искусств (наук), изучавшихся в университетах Византии и Западной Европы. Первые известия об этом встречаются в «Речи философа» («о числе» – арифметике, «движении звезд» – астрономии, «мере земли» – геометрии и т.д.; грамматику, диалектику, риторику, музыку упоминает Паннонское житие Кирилла Туровского. Несколько позже было переведено сочинение прп. Иоанна Дамаскина «О девяти музах и семи свободных искусствах», которое давало наиболее полное представление о комплексе наук, изучавшихся в школах высшего типа Византии и Западной Европы. См., например: Иоанн Дамаскин. Грамматика и философия. (ГИМ ОР. Увар. № 443); Он же. Грамматика и диалектика (ГИМ ОР. Барс. № 248, № 2294); Он же. Богословие (РГБ ОР. Ф. 304. № 121); Он же. Книги философские (РГБ ОР. Ф. 310. № 524), Грамматика И. Дамаскина и риторика Иоанна, экзарха Болгарского (ГИМ ОР. Син. № 918).
См., например: Богословие нравоучительное (РГБ ОР. Барс. № 276; Епарх. № 968; Син. № 108, № 122; Увар. № 878 [Леонид. № 216]); Гефенгеффер. Богословие (ГИМ ОР. Увар. № 1, № 356; Леонид. № 291; Царск. № 23); Кирилл Транквиллион. Богословие (ГИМ ОР. Син. печ. № 344); Он же. Зерцало богословия / пер. с белорус. диакона Феофана. 1674–1676 гг. (РГБ ОР. Фад. № 37); Он же. Перло многоценное (РГБ ОР. Ф. 152. № 109); Риторика (лекции по философии) (РГБ ОР. Ф. 299. № 722); Философия (ГИМ ОР. Забел. № 675, № 676); Философия нравоучительная (этика) (ГИМ ОР. Муз. № 2914); Философия и толкование категорий Аристотеля (ГИМ ОР. Син. греч. № 236; Вл. № 457; Матт. № MCCXXIII); Раймонд Луллий. Философия (ГИМ ОР. Муз. № 2718; Черт. № 286); Он же. Философия: «Наука предивная» (ГИМ ОР. Хлуд. № Д75); Сказание о еллинских философех, понеже и тии прознаменования веры и чистаго ради жития их коснушася истины от Святаго Духа и глаголющи будущая человеком (РГБ ОР. Ф. 218. № 753); Сказание о седми свободных мудростех великих (РГБ ОР. Ф. 310. № 894, № 895); Слово о наказанию всякому христианину (соч. русское, типа притчей Сираховых) (РГБ ОР. Ф. 256. № 359); Слово о философии (РГБ ОР. Ф. 310. № 639), Собрание трактатов по метафизике (РГБ ОР. Ф. 722. № 89).
ГИМ ОР. Увар. 443 (ркп. XVII в., написанная уставом; в 4°). В книге И. Дамаскина представлены разыскания о разуме (л. 20), о мысли (л. 26об.), о философии (л. 27), о суперливых (л. 29), о сущем, существе же и случаи (л. 30), о гласех (л. 31), о роде и виде, роднейшем и свойственнейшем, и еже по друг другом (л. 35об.) и т.д.
РГБ ОР. Ф. 299. № 722 (ркп. конца XVII – начала XVIII в.; скоропись разных рук; в 4°, 20,5×16,5 см, на 465 л., заглавного листа не сохранилось, в поврежденном и поправленном переплете с тиснением и двумя застежками). Схожий, если не идентичный, сборник с надписанием на 1-м листе. «Книга о разумех писма святаго или риторческих правил толкования Раймунда Люлия, парискаго учителя и кавалера», написанный уставом на 506 л., выявлен в ГИМ ОР. Ф. Увар. № 6–4°: Риторических правил толкование. Окружение данной ркп. составляет ряд сб. этого же автора в ГИМ ОР.: Ф. Увар. № 15–4°: Великая и правдивая наука кабалистическая (XVIII в., на 332 л.), ф. Черт. № 286 и ф. Муз. № 2718: Философия Раймунда Луллия (XVIII в., в 1°. на 278 л.).
И лишь духовные академии не оставляют данную область без внимания, находясь в некоторой оппозиции так называемой позитивистской традиции академической науки. Среди работ назовем лишь некоторые: Метафизика Божественная и истинная (РГБ ОР. Костр. № 219); Постников, свящ. Богословие (ГИМ ОР. Един. № 10); Богословие нравоучительное (ГИМ ОР. Дубл. № 1196; Един. № 16; Мнш. № 334, № 1716, № 1786; Хлуд. печ. № 59, № 428, № 468; Щап. № 396, № 400, № 822); Богословие созерцательное (ГИМ ОР. Бахр. № 12); Афанасий, архим. Записи по богословию собеседовательному, или гомилетике. СПб., 1862; Буа Ш. Идея о Боге и ея новейшие критики // Православное обозрение. 1865. Т. XVIII; Возрасты человеческой жизни в отношении к нравственности // Христианское чтение. 1855. Т. II; Гизо. Размышления о сущности христианства (Христианство и современные идеи; Догматы христианские; Творение; Промышление; Первородный грех; Воплощение; Искушение; О сверхъестественном; О пределах знания; Об Откровении; О боговдохновенности священных книг; Бог по Библии; Иисус Христос по Евангелию)
Грамматика философских наук…» состоит из 4-х частей. Ч. 1 издана в Москве в Вольной типографии Пономарева в 1796 г.; ч. 2–4 – в Володимере в типографии Губернскаго правления в 1798 г.
Вяземский П. А. Мудрец или лентяй… (1875) // Вяземский П. А. Избр. стихотворения. М.; Л., 1935. С. 366.
Логико-семантический и историко-философский контекст этого тезиса рассмотрен в нашей статье «Антитетика в концептуальных системах» (Системные исследования: Ежегодник. 1976. М., 1977. С. 239–248).
Как уже не раз говорилось, в иконе раскрылся и определился собственный лик Православия. Догмат иконопочитания нерушимо связан в церковном сознании с учением о Боговоплощении. Через икону Православие утвердило себя не как отвлеченно-рассудочная или мистически-мечтательная доктрина, но как зримо явленная Истина, пред лицом которой немотствует беспокойная мысль. И как здесь не вспомнить о великом творении вселенского масштаба – Святого Живоносного Воскресения Христова монастыре Нового Иерусалима, – явившем миру пространственную архитектурно-ландшафтную икону, освящающую и просвещающую собой мир дольний и взывающую к миру Горнему.
Вопрос об отношении к иконе – это вопрос самоопределения человека, в известном смысле эсхатологический вопрос. Если в ней видится только искусство, умение, техника – она, по существу, остается непонятой. Иное дело, если она осмысляется как выражение достоверного знания о духовной реальности, об идеальном человеке, или о человеке в его «идее», как образе и подобии Творца. Религиозное знание предельно конкретно и глубоко личностно: это знание личности о своей сокровенной глубине, и потому оно требует личных форм выражения – ликов. Икона уже давно осуществила в эстетически совершенных формах тот персоналистический «идеалреализм», которого единодушно взыскует русская философия в лице В. Н. Карпова, Н. О. Лосского, С. А. Аскольдова, Л. П. Карсавина, С.Л. Франка, Б. П. Вышеславцева и др.
Вытеснение иконы из повседневной жизни человека явилось прямым следствием победы иконоборческого рационализма, преобладания инструментально-технического, утилитарного знания, претендующего на полноту охвата науки и влекущего замену идеального образа человека натуралистическим, иконы – фотографией или кибернетической схемой. Только сердечное окаменение позволило рассудку поставить чувственную наглядность и отвлеченные формулы выше духоносной достоверности иконного изображения. См. также: Гаврюшин Н. К. Русское богословие: Очерки и портреты. Н. Новгород, 2005. С. 11–36.
Кое-какие сопоставления намечены в книге Я. Э. Голосовкера «Достоевский и Кант» (М., 1963), но тема им трактована очень узко.
Кант И. Соч. М., 1965. Т. 4. Ч. I. С. 270.
Розанов В. Легенда о Великом Инквизиторе Ф. М. Достоевского. СПб., 1906. С. 177.
См.: Кант И. Соч. Т. 4. Ч. 2. С. 429–431.
Бухарев А. М. О соборных апостольских посланиях // Богословские труды. 1972. № 9. С. 149.
2 Памятником русской мысли («метафизикой в красках и камне») может служить Воскресенский монастырь Нового Иерусалима. Выражающие ее суть слова Вселенских учителей помещены Святейшим Патриархом Никоном в керамической надписи по окружности ротонды между вторым и третьим ярусами хоров: Отдадим Образу пообразное, познаим наше достоинство, почтим начало образное, познаим тайны силу и за кого Христос умре. Будем яко Христос, занеже и Христос яко и мы; будем бози Его ради, зане и Он нас ради человек бысть; яко же изволи приять горшее, да даст лучшее; обнища, да и мы Онаго нищетою обогатимся рабий зрак прият, да мы свободу восприимем; сниде, да мы возвысимся; искусися, да победим; безчествовася, да ны прославит; умре, да ны привлечет к Себе, низу лежащих в греховнем падении. Днесь спасение миру, елико же видим и елико невидим; Христос из мертвых, совостаньте, Христос в Себе, восприходите, Христос из гроба, свободитеся из уз греха. Воскресе Христос, и падоша демони. Воскресе Христос, и радуются Ангели. Воскресе Христос, и жизнь жительствует. Воскресе Христос, и мертвы ни един во гробе. Христос воста от мертвых, начаток умершим бысть. Да днесь из мертвых воскресе и мене, победника, возноватворит духом и в нова облечет человека, да даст новому зданию, иже по Бозе раждаемым здателя благ и учителя, Христу и соумерщвляема усердно и совоскрешаема, Тому слава во веки. Аминь. Написася сие лета 7174, от воскресения Господа нашего Иисуса Христа 1632 года (см.: Шмидт В. В. Святого Живоносного Воскресения Христова монастырь Нового Иерусалима // Патриарх Никон. Труды / научн. исследование, подготовка документов к изд., сост. и общ. ред. В. В. Шмидта. М., 2004. С. 674).
Цит. по: Соловьев Вл. Соч. М., 1988. Т. 1. С. 96.
Зеньковский В. В., прот. История русской философии. Париж, 1989. Ч. II. С. 225.
Айхенвальд Ю. Александр Введенский: Условие допустимости веры в смысл жизни // Вопросы философии и психологии. 1896. Кн. 36 (I).
В ряде справочных изданий (Философская энциклопедия. М., 1970. Т. V; Философский энциклопедический словарь и др.) имя и отчество М. М. Тареева искажены. Очевидный источник ошибки – «История русской философии» В. В. Зеньковского.
Нилус С. А. Великое в малом. Серг. Посад, 1903. С. 174–212.
Федотов Г. П. Святые Древней Руси. М., 1991. С. 197.
Успенский Б. А. Избр. труды: в 2 т. М., 1994. Т. 1. С. 333.
См.: Флоровский Г., прот. Пути русского богословия. Париж, 1937; Вильнюс, 1991 (репринт). С. 59.
Там же.
Цит. по: Каптерев Н. Ф. Патриарх Никон и Царь Алексей Михайлович: в 2 т. Сергиев Посад, 1909; М., 1996 (репринт). С. 228.
Мельников-Печерский А. Собр. соч.: в 8 т. М., 1976. Т. 7. С. 200.
Цит. по: Мельников-Печерский А. Указ. соч. С. 201, 202.
3 См.: Кириллов И. Третий Рим: Очерк исторического развития русского мессианизма. М., 1914; Гольдберг А. Л. К предыстории идеи «Москва – Третий Рим»
Цит. по: Памятники литературы Древней Руси: в 12 кн. М., 1978–1994. Кн.: Конец X – начало XI века. С. 133.
Там же. С. 235.
Цит. по указ. соч. Кн.: Середина XVI века. С. 225.
Там же. С. 223.
Цит. по: Памятники литературы Древней Руси. Кн.: Конец XV – первая половина XVI вв. С. 436–456.
Зеньковский С. Русское старообрядчество. М., 1995. С. 37.
Там же.
Федотов Г. П. Святые Древней Руси. М., 1991. С. 186.
Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви: в 12 т. М., 1994–1997. Т. VI. С. 40.
Алеппский Павел. Путешествие Антиохийского патриарха Макария в Россию в половине XVII века: Вып. I–V. М., 1896–1900. Вып. III. С. 94, 119–120.
Памятники литературы Древней Руси. Кн.: Середина XVI века. С. 225.
Цит. по: Знаменский П. В. История Русской Церкви. М., 1996. С. 232.
Флоровский Г., прот. Пути русского богословия. С. 38.
Там же. С. 38–39.
Аверинцев С. С. Поэтика ранневизантийской литературы. М., 1997. С. 212.
Памятники литературы Древней Руси. Кн.: Конец X – середина XI века. С. 167.
Аверинцев С. С. Указ. соч. С. 215.
Мандельштам О. Э. Собр. соч.: в 4 т. М., 1994. Т. 3. С. 254.
Иоанн Вишенский, афонский инок. Соч. М.; Л., 1955. С. 261.
Аверинцев С. С. Указ соч. С. 218.
Керженские ответы. Б. м., 1906. С. 179–180.
Цит. по: Успенский Б. А. Избр. труды. Т. 1. С. 359.
См.: Шахов М. О. Философские аспекты староверия. М., 1998; Он же. Старообрядческое мировоззрение: Религиозно-философские основы и социальная позиция. М., 20
Цит. по: Буслаев Ф. Историческая хрестоматия церковнославянского и древнерусского языка. М., 1861. Стб. 1088.
См.: Лескин Д. Значение имени в культуре Древнего Египта // Философия имени в России (Материалы «круглого стола» 25 июня 1997 г.). М., 1997. С
Цит. по: Успенский Б. А. Избр. труды. Т. 1. С. 339.
Цит. по: Алмазов А. Тайная исповедь в Православной Восточной Церкви: в 3 т. М., 1894; 1995 (репринт). Т. 3. С.
Цит. по: Успенский Б. А. Избр. труды. Т. 1. С. 339–340.
Там же. С. 359.
Цит. по: Сказания о начале славянской письменности. М., 1981. С. 104.
Цит. по: Успенский Б. А. Избр. труды. Т. 2. С. 364.
Иоан Вишенский, афонский инок. Соч. С. 23–24.
Там же. С. 192, 195.
Цит. по: Пустозерская проза. М., 1989. С. 122.
Цит по: Успенский Б. А. Избр. труды. Т. 2. С. 341.
Там же. Т. 1. С. 341.
Цит. по: Успенский Б. А. Указ. соч. Т. 1. С. 342 –343.
Цит. по: Успенский Б. А. Указ. соч. Т. 1. С. 360.
Флоровский Г., прот. Пути русского богословия. С. 32.
Цит. по: Памятники литературы Древней Руси. Кн.: Конец X – середина XI вв. С. 305.
Святитель Стефан Пермский: К 600-летию со дня преставления. С. 52.
Цит. по: Памятники литературы Древней Руси. Кн.: Конец XV – начало XVI вв. С. 442.
Иоанн Вишенский, афонсий инок. Соч. С. 10.
Там же. С. 23–24.
Цит. по: Успенский Б. А. Избр. труды. Т. 2. С. 9.
Цит. по: Успенский Б. А. Избр. труды. Т. 2. С. 10.
Там же. С. 20.
Пустозерская проза. С. 174.
Цит. по: Памятники литературы Древней Руси. Кн.: XVII в. С. 454.
Цит. по: Успенский Б. А. Избр. труды. Т. 2. С. 12.
По издании «Скрижали» от староверов стоглавого толка последовало крайне скорое возбуждение различной душегубной хулы на Церковь (Пращица Духовная. Л. 409): порицали в ней каждое слово, каждое правило, каждое толкование; всякое в ней положение ситали ересью то аполинариевой, то несториевой, то жидовской, то нововводным мудрованием; утверждали, будто никтоже от богословец дерзнул тако писати, якоже Никон (Жезл Правления. Ч. I. С. 129). См. также: Описание рукописей и каталог книг церковной печати библиотеки А. И. Хлудова (№ 272, 273) / cост. А. Попов. М., 1872; Сборник сочинений Поморских настоятелей, с посланиями Аввакума и иными статьями (Поморск. пис. XVIII в. – 466 л.): Л. 1. Показательное списание на новоявльшияся философы и учители и иже от них списателныя книги Скрижали, Жезла и Увета, показующее их древним богодухновенным писанием, еще же и друг к другу несогласное мудрование… И все это не безпричинным было со стороны мнимых старообрядцев, так как Скрижаль стала особенно важна современным русским читателям тем, что в ней все прямо направлено против заблуждений духовно смутного времени и что она основательно обличает различного рода заблуждения. По отзыву же одного из просвещеннейших современников, за Скрижаль Патриарх Никон достоин вечнаго благодарения от Церкви (Жезл Правления. Ч. I. С. 129), так как яко древле Иаков, в напоение овец безсловесных, веществен камень от вещественна кладезя отвалил есть, тако он (Патриарх Никон) ныне мысленный неявленства, паче же невежества, во многих уме лежащаго, камень, во еже словесным овцам Христовым чистою известнаго священнодействительных знамений видения водою напоенным быти, от мысленнаго таинственных священнодейств кладезя отвалити потщася (см. в части III наст. трехтомника: Новоиерусалимский, посл. Сказание о жизни, подвигах и наследии Никона, милостью Божией Патриарха).
См.: Самодержавное царство первых Романовых / сост. Г. В. Талина. М., 2004; Социальные конфликты в России XVII–XVIII веков. Социальные конфликты в России XVII–XVIII веков: Мат-лы Всерос. научно-практ. конф. (Саранск, НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия, 20–22 мая 2004 г.). Саранск, 2005.
Позднеев А.В. Песни-акростихи Германа // ТОДРЛ. Т. 14. М.; Л., 1958; Он же. Никоновская школа песенной поэзии // ТОДРЛ. Т. 17 М.; Л., 1961; Он же. Рукописные песенники XVI–XVII вв.: Из истории песенной силлабической поэзии. М., 1996.
См.: Патриарх Никон. Труды / научн. исследование, подготовка документов к изд., сост. и общ. ред. В. В. Шмидта. М., 2004. С. 725 и сл.
См.: Описание соборного храма Воскресения Христова, построенного по Иерусалимскому образцу Святейшим Патриархом Никоном в Воскресенском, Новый Иерусалим именуемом монастыре // Патриарх Никон. Труды. С. 621–821; Зеленская Г. М. Святыни Нового Иерусалима. М., 2002; Бусева-Давыдова И. Л. Символика архитектуры по древнерусским письменным источникам XI–XVII вв. // Герменевтика древнерусской литературы. Сб. 2: XVI – начало XVIII в. М., 1989. С. 279–308; Она же. Представления о символике храма в культуре Древней Руси (по письменным источникам) // Архитектурное наследство. 2001. № 44. С. 3–16.
См.: Рамазанова Н. В. Святая Русь в церковно-певческом искусстве середины XVI–XVII вв. // Человек верующий в культуре Древней Руси: Мат-лы международной конференции (5–6 декабря 2005 г.). СПб., 2005; Кручинина А. Н. Патриарх Никон и церковно-певческое искусство его времени // Там же; Васильева Е. Е. Никоновская (Новоиерусалимская) школа в контексте русской культуры XVII века // Там
См.: Кручинина А. Н. Головщик иеродиакон Григорий Жернов: история его книг и деяний // Социальные конфликты в России XVII–XVIII веков. С. 284–294; Она же. Священноначалие Русской Церкви в певческих рукописях // Рукописи в истории, история в рукописях: Сборник трудов ОР РНБ. СПб., 2006; Она же. Древнерусские собиратели певческих книг // Мат-лы международной конференции, посвященной 40-летию археографической работы в Сибири. Новосибирск, 2006; Васильева Е. Е. Этапы становления «книжной песни» по собраниям ОР РНБ // Рукописи в истории, история в рукописях: Сборник трудов ОР РНБ; Заболотная Н. В. Диахронические аспекты древнерусского певческого искусства: о преемственности в монастырском церковном пении // Музыкальное образование в контексте культуры: Вопросы теории, истории и методологии: Сборник трудов РАМ им. Гнесиных. М., 2004. С. 111–122; Она же. Традиционное и новое в церковной монодии нотолинейных Ирмологионов середины XVII века // Христианские образы в искусстве: Сборник трудов РАМ им. Гнесиных. М., 2005.
В. Ш.: Данные певческие рукописи были описаны А. А. Игнатьевой под научным руководством М. В. Богомоловой [cм.: Игнатьева А. Певческие рукописи коллекции Новоиерусалимского монастыря (ГИМ: Синодальное певческое собрание) // XI ежегодная богословская конференция. 2001 г. М., 2001. С. 428–437]. Автор статьи приходит к выводу, что коллекция Воскресенского монастыря Нового Иерусалима представляет древнерусскую традицию пения (крюковые – Воскр. перг.: № 27, 28; Син. певч.: № 1357–1365, 1386, 1387 – и частично нотолинейные рукописи, записанные киевской квадратной нотой – Син. певч.: № 1366, 1369, 1372–1376, 1388) и южнорусскую традицию пения (нотолинейные рукописи – ирмологионы великие, записанные киевской квадратной нотой – Син. певч.: № 1368, 1378–1381). Данные певческие книги, несмотря на их разное происхождение, являются монодийными. Обращают на себя внимание четыре монастырских рукописи «Праздники дванадесятые нотные» (Син. певч.: № 1367, 1370, 1371, 1377), написанные головщиком Аароном Каменевым в 1715 г. по благословению настоятеля Новоиерусалимского монастыря архимандрита Антония, о чем свидетельствует скрепа по листам сборников: «1715 году сия книга дванадесятых Господьских праздников дванадесять канонов греческаго напеву написася за благословением отца архимандрита Антония и отдана в церковь Живоноснаго Христова Воскресения во обители Воскресенскаго монастыря что на реке Истре в строении Святейшего Никона Патриарха Московскаго и всеа России зовомый Новый Иерусалим а подписал сию книгу по егож отца архимандрита приказу головщик Аарон Каменев».
Наличие данных рукописей, несомненно, свидетельствует, что с восстановлением по указу Царя Федора Алексеевича Ново-Иерусалимского богослужебного устава были возрождены и певческие традиции, заложенные Святейшим Патриархом Никоном. Таким образом, можно предположить, что одновременно существовавшие в монастырской литургической жизни древнерусская и южнорусская певческие традиции не вступали в конфликт, а, обогащая друг друга, становились новым этапом развития церковно-певческого искусства. Все это нашло отражение в создаваемых на основе разных типов певческих книг новых, но уже с унифицированной структурой книг, которые и подготовили появление современных церковных богослужебных певческих сборников.
В книгах вкладные записи различаются по своим формулировкам – так называемые краткая и пространная. См., например: Костюхина Л. М. Записи XIII–XVIII вв. на рукописях Воскресенского монастыря // Археографический ежегодник за 1960 год. М., 1962. Краткая запись выполнялась по благословению Святейшего его учеными писцами; пространная, подчеркивающая особое отношение Патриарха к рукописному сборнику, его значимости, выражалась в следующей формуле: «Лета 7169 сию книгу положил в доме Святаго Живоноснаго Воскресения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа новаго Иерусалима смиренный Никон, Божиею милостию Патриарх, а кто восхощет ю усвоити якоже Ахарь сын Хармиев, или утаит, якоже Анания и Сапфира, да отымет от него Господь Бог (Всеблагий) святую свою милость и затворит двери святых щедрот Своих, и да придет на него неблагословение и клятва и казнь Божия душевная и телесная в нынешнем веце и в будущем вечная мука, кто каким злым умышлением сие писание испишет от книги сея, да испишет его Господь Бог имя от книги животныя».
В монографии «Рукописные песенники XVII–XVIII вв.» архимандриту Герману посвящена глава, повторяющая название одной из статей А.В. Позднеева, – «Мастер акростиха – Герман».
Обзор текстов см.: Ранняя русская лирика: Репертуарный справочник музыкально-поэтических текстов XV–XVII веков / сост. Л. А. Петрова, Н. С. Серегина. Л., 1988.
См.: Васильева Е. Е. Новоиерусалимская школа песнотворчества // Патриарх Никон. Труды. С. 823– 857; Алфавит: Серия «Православная певческая традиция»: Ансамбль «Псалмопевцы». CD SMR 909 102. Bohema music, 1999. Также см.: Авдеев А. Г. Старорусская эпиграфика и книжность: Ново-Иерусалимская школа эпиграфической поэзии. М., 2006.
Самое большее число разнообразных текстов известно с партитурой, которая в «польском корпусе» Тит. 4172 служит псалмам Щенсливы кому грехи одпущенны и Пребрзялем мяру. Из «обрусевших» версий второго текста надолго сохранился в бытовании книжных песен текст свт. Димитрия Ростовского; эта же музыка стала формой для любовных песен, политического памфлета. Комментарии и параллели приведены в публикации песенника Тит. 4272. См.: Музыкальный Петербург: Энциклопедический словарь: XVIII век. Т. 5: Рукописный песенник XVIII века с голосами, положенными на ноты / авт.-сост. Е. Е. Васильева, В. А. Лапин, Н. А. Атрощенко. СПб., 2002. № 13 (24). С. 57, 189–190, 267–269.
Представление об этом дает замечательная по полноте и взвешенности публикация: Маркелов Г. В. Писания выговцев: Каталог-инципитарий. Тексты: По материалам Древлехранилища Пушкинского Дома. СПб., 2004.
Целое направление обозначено монографиями: Бернштам Т. А. Молодость в символизме народных обрядов восточных славян: Учение и опыт Церкви в народном христианстве. СПб., 2002.; Приходская жизнь русской деревни: Очерки по церковной этнографии. СПб., 2005.
См.: Анненков В. И., Лаптев В. Б., Сергеев Н. А. Национальная безопасность России (геополитические и военно-политические аспекты). М., 2005; в наст. сб.: Меньщиков А. А., Рыбаков Ю. М., Шмидт В. В. Внешняя политика Русского Царства в XVII в. С. 1144; Паламарчук П. Г. Москва, Мосох и Третий Рим: из истории политических учений русского средневековья. С. 1188.
См.: Пентковский А. Литургические реформы в Русской Церкви и их характерные особенности // Журнал Московской Патриархии. 2001. № 1.
Слово «реформа» в данном случае употребляется в смысле обрядово-текстовой кодикологизации, уточнения строя чинопоследований, а не реформирования самого строя, порядка и содержания Литургии.
См.: Ульянов О. Г. Влияние Святой горы Афон на особенности почитания Святой Троицы при митрополите Киприане (к 600-летию преставления святителя) // Человек верующий в культуре Древней Руси: Мат-лы международной конференции: СПбГУ, 5–6 декабря 2005 г. СПб., 2005. С. 88–100.
См.: Неволин Ю. А. Новое о кремлевских художниках-миниатюристах XVI в. и составе библиотеки Ивана Грозного // Советские архивы. 1982. № 1. С. 68–70.
См.: Баталов А. Л., Вятчанина Т.Н. Об идейном значении и интерпретации иерусалимского образца в русской архитектуре XVI–XVII вв. // Архитектурное наследство. 1988. № 36. С. 22–42.
См.: Селезнева И.А. Золотая и Серебряная палаты: Кремлевские дворцовые мастерские XVII века. Организация и формы производства, творческие процессы, обучение мастеров. М., 2001. С. 55; Забелин И.Е. Дополнения к Дворцовым разрядам, собранные И. Забелиным. Ч. 1. М., 1882. Стлб. 368; Мартынова М.В. Царские венцы первых Романовых // Искусство средневековой Руси: Мат-лы и исслед. Гос. ист.-культур. музея-заповедника «Московский Кремль». Вып. 12. М., 1999. С. 299.
См.: Мартынова М. В. К вопросу об атрибуции регалий Царя Михаила Федоровича // Памятники культуры. Новые открытия: Ежегодник. 1981. Л., 1983. С. 392–403; Древности Российского государства. М., 1849. Отд. 2. С. 6.
В 1610 г. бояре, оппозиционные Царю Василию Шуйскому, пригласили на Царство польского Королевича Владислава, которому присягнула часть москвичей. На этом основании Владислав претендовал на русский престол вплоть до заключения «вечного мира» с Россией в 1634 г.
По мнению Н. В. Жилиной, шапка Мономаха была изготовлена в Византии в XIII в. и имела митрообразную форму, но с утратой нижних пластин приобрела вид русского колпака (см.: Жилина Н. В. Шапка Мономаха: Историко-культурное и технологическое исследование. М., 2001. С. 204). Однако ряд исследователей придерживается мнения об исполнении шапки Мономаха в золотоордынских мастерс
Собрание Государственных грамот и договоров. М., 1822. Ч. 3. С. 200–201.
См.: Бусева-Давыдова И.Л. «Свои» и «чужие» на переломе эпох: Иноземные зодчие в Москве первой половины XVII в. // Архитектура в истории русской культуры. Вып. 6: Переломы эпох / отв. ред. И. А. Бондаренко. М., 2005. С. 110–114.
См.: Архитектура в истории русской культуры. Вып. 6: Переломы эпох. С. 115–117; Кавельмахер В. В. Большие благовестники Москвы XVI – первой половины XVII в. // Колокола: История и современность: 1990. М., 1993. С. 101.
См.: Румянцев В. Е. Древние здания Московского Печатного двора. М., 1869. С. 29. Прим. 44.
См.: Забелин И. Е. Указ. соч. Стлб. 273, 369, 406, 487, 554, 617.
См. там же. Стлб. 411, 858–859.
См.: Забелин И. Е. Указ. соч. Стлб. 431, 487, 537, 554.
Акты исторические, собранные и изданные Археографической комиссиею. Т. IV. СПб., 1842. № 14; Русское градостроительное искусство: Градостроительство Московского государства XVI–XVII веков. М., 1994. С. 62.
Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской империи Археографической экспедицией Имп. Академии Наук. Т. III. СПб., 1836. № 201 (далее: Акты, собранные в библиотеках и архивах…); Ласковский Ф. Ф. Материалы для истории инженерного искусства в России: Опыт исследования инженерного дела в России до XVIII столетия. Ч. I. СПб., 1858. С. 260
См.: Забелин И. Е. Указ. соч. Стлб. 859.
См.: Архитектура в истории русской культуры. Вып. 6: Переломы эпох. С. 119.
См.: Павленко А. А. Живописное и иконописное дело в Оружейной палате во второй половине XVII в. // Труды ГИМ. Вып. 99: Мат-лы науч. конференции: Новодевичий монастырь в русской культуре. М., 1998. С. 191.
См.: Овчинникова Е. С. Церковь Троицы в Никитниках: Памятник живописи и зодчества XVII века. М., 1970. С. 129.
Патриаршая окружная грамота о запрещении печатать на бумажных листах изображение святых и торговать немецкими печатными листами с такими же изображениями // Акты, собранные в библиотеках и архивах… Т. IV. № 200. С. 254–256.
См.: Бусева-Давыдова И. Л. Новые иконографические источники русской живописи XVII в. // Русское искусство позднего Средневековья: Образ и смысл. М., 1993. С. 190–206.
В. Ш.: см. также в наст. сб. сноску № 6 в статье М. Ю. Горячевой «Домашний быт Патриарха Никона в Богоявленской пустыни (реконструкция по материалам реставрационных работ)» с. 990–991.
См.: Путешествие Антиохийского Патриарха Макария в Россию в половине XVII века, описанное его сыном, архидиаконом Павлом Алеппским. М., 2005. С. 357.
Там же.
См.: Сочинения Аввакума // Памятники литературы Древней Руси: XVII век. Кн. 2. М., 1989. С. 418.
«Послание некоего изуграфа Иосифа к цареву изуграфу и мудрейшему живописцу Симону Федоровичу» // Древнерусское искусство: XVII век. М., 1964. С
См.: Гиббенет Н. А. Историческое изследование дела Патриарха Никона: в 2 ч. Т. II. СПб., 1882–1884. С. 475.
Цит. по: Подлинник иконописный / изд. С. Т. Большакова; под ред. А. И. Успенского. М., 1998 (репринт). С. 9.
Сочинения Аввакума // Памятники литературы Древней Руси: XVII век. Кн. 2. С. 418.
См.: Писарев Н. Домашний быт русских Патриархов. Казань, 1904. С. 138; Савина Л. Н. Икона «Спас на престоле с припадающими митрополитом Филиппом и Патриархом Никоном» из собрания Московского областного краеведческого музея // Памятники культуры. Новые открытия: Письменность. Искусство. Археология: Ежегодник. 1988. М., 1989. С. 238; Зеленская Г. М. Святыни Нового Иерусалима. М., 2002. С. 192.
См.: Спас Нерукотворный в русской иконе / авт.-сост Л.М. Евсеева, А. М. Лидов, Н. Н. Чугреева. М., 2005. С. 161.
См. там же. С. 162.
См.: Успенский А. И. Словарь патриарших иконописцев. М., 1917. С. 45–46; Овчинникова Е. С. Церковь Троицы в Никитниках. С. 138, 139.
См.: Христианские реликвии в Московском Кремле / ред.-сост. А. М. Лидов. М., 2000. С. 292; Патриарх Никон. Труды / науч. исследование, подготовка документов к изд., сост. и общ. ред. В. В. Шмидта. М., 2004. С. 128.
См.: Бусева-Давыдова И. Л. К проблеме канона в православном искусстве // Искусствознание: Журнал по истории и теории искусства. 2002. Февр. С. 269–278.
См.: Голиков В. П. Переходный период в русской иконописи XVII–XVIII вв.: Технологические предпосылки трансформации темперной иконописи в масляную живопись // Филевские чтения: Тезисы конф. (20–23 декабря 1999 г.). М., 1999. С. 18.
См.: Успенский А. И. Царские иконописцы и живописцы XVII века. М., 1913. Т. I. С. 24.
См.: Павленко А. А. Живописное и иконописное дело в Оружейной палате во второй половине XVII в. С. 194.
См.: Алферова Г. В. Ансамбль Крестного монастыря на Кий-острове // Архитектурное наследство. 1976. № 24. С. 87–88.
См.: Зеленская Г. М. Святыни Нового Иерусалима. С. 61; Горячева М. Ю. Отходная пустынь Патриарха Никона: Мат-лы исследований // Никоновские чтения в музее «Новый Иерусалим». М., 2002. С. 29–31; также см. в наст. сб.: Горячева М. Ю. Домашний быт Патриарха Никона в Богоявленской пустыни (реконструкция по материалам реставрационных работ). С. 98
См.: Вдовиченко М. В. Шестистолпный тип храма в XVII веке // Филевские чтения: Тезисы конф. 22–25 декабря 1997 г. М., 1997. С. 11.
См.: Леонид, архим. (Кавелин). Историческое описание ставропигиального Воскресенского, Новый Иерусалим именуемого монастыря. М., 1876. С. 13.
ПСРЛ. Т. 1: Лаврентьевская летопись. М., 1997. Стлб. 159.
О типе храма «на четырех колоннах» и его отличиях от четырехстолпного крестовокупольного см.: Комеч А. И. Древнерусское зодчество конца X – начала XII в. М., 1987. С. 44–48, 57.
См.: Бусева-Давыдова И. Л. О роли заказчика в организации строительного процесса на Руси в XVII веке // Архитектурное наследство. 1988. № 36. С. 43–53; Она же. Об идейном замысле «Нового Иерусалима» Патриарха Никона // Иерусалим в русской культуре. М., 1994. С. 174–181; Она же. О так называемом запрете шатровых храмов Патриархом Никоном // Патриарх Никон и его время: Труды ГИМ. Вып. 139 / отв. ред. и сост. Е. М. Юхименко. М., 2004. С. 314–322.
См.: Соболев Н. Н. Русская народная резьба по дереву. М., 2000 (репринт). С. 78–79; Леонид, архим. Акты Иверского Святоозерского монастыря (1582–1700). [РИБ. Т. 5]. СПб., 1878. С. 109–110.
См.: Баранова С. И. «Разсадник изразцового дела в России»: (К вопросу о новоиерусалимских аналогиях в изразцовом декоре Москвы 2-й половины XVII века)
См.: Шмидт В. В. Концепция пастырства Патриарха Никона // Патриарх Никон. Труды. С. 1030.
См.: Красносельцев Н. Ф. «Толковая служба» и другие сочинения, относящиеся к объяснению богослужения в Древней Руси до XVIII в.: Библиографический обзор // Православный собеседник. Казань, 1878. Ч. II. Май. С. 8–9; Бусева-Давыдова И. Л. Представления о символике храма в культуре Древней Руси (по письменным источникам) // Архитектурное наследство. 2001. № 44. С. 4–5.
См.: Муретов С. Греческий подлинник никоновской Скрижали // Библиографические записки. 1892. № 7. С. 469–480; см. также: Патриарх Никон. Труды. С. 483.
Скрижаль. М., 1656. С. 1 [паг. 3-я].
См.: Зеленская Г. М. Святыни Нового Иерусалима. С. 109–116; Шмидт В. В. Святого Живоносного Христова Воскресения монастырь Нового Иерусалима // Патриарх Никон. Труды. С. 674–685; Он же. Палестина Святой Руси (путеводитель с душепопечительным славословием) // Государство, религия, Церковь в России и за рубежом. 2009. № 2 (спецвыпуск). С. 177–258.
См.: Выголов В. П. О развитии ярусных форм в зодчестве конца XVII века // Древнерусское искусство: XVII век. М., 1964. С. 236; Бусева-Давыдова И. Л. Об истоках композиционного типа «восьмерик на четверике» в русской архитектуре конца XVII в. // Архитектурное наследство. 1985. № 33. С. 220–22
Цит. по: Московский кафедральный Чудов монастырь. Сергиева Лавра, 1896. С. 16–17.
См.: Бусева-Давыдова И. Л. Царь-зодчий: легенды и действительность (конец XVII – начало XVIII в.) // Архитектура в истории русской культуры. Вып. 4: Власть и творчество. М., 1999. С. 79–86.
Татищев В. Н. История Российская. Т. VII. Л., 1968. С. 175.
См.: Преображенский А. А., Морозова Л. Е., Демидова Н. Ф. Первые Романовы на Российском престоле. М., 2000. С. 392–393.
См.: Тодорова М. А. Остров Патриарха Никона в Ферапонтове // Никоновские чтения в музее «Новый Иерусалим». М., 2002. С. 41.
Биллингтон Дж. Х. Лики России: Страдание, надежда и созидание в русской культуре. М., 2001. С. 57.
Цит. по: Тодорова М. А. Указ. соч. С. 45.
Биллингтон Дж. Х. Указ. соч. С. 54, 55.
Там же. С. 27, 57.
Лосский Н. О. Мир как осуществление красоты: Основы эстетики. М., 1998. С. 266.
См. в ч. III наст. трехтомника: Житие Никона, Патриарха Московского и всея Руси; также см. в наст. сб.: Первушин М. Профетизм в жизни Патриарха Никона. С. 674.
Стрельникова Е. Р. Крест на острове Патриарха Никона // Никоновские чтения в музее «Новый Иерусалим» М., 2002. С. 81.
Митрополит Московский и всея Руси Филипп, происходивший из знатного боярского рода Колычевых, родился в 1507 г. и был наречен Феодором. Первые годы службы при великокняжеском дворе были успешными и готовили ему блестящее будущее. Однако он в тридцать лет тайно отправился в Соловецкий монастырь. Основанная в 1429 г. прпп. Германом и Савватием в Белом море на Соловецком острове Спасо-Преображенская обитель к тому времени все еще представляла собой отшельническую пустынь. Там Федор Колычев принял монашество, а позднее, в 1547 г., был поставлен игуменом.
Еще в молодые годы будущий святитель считал труды «надежнейшим путем к спасению» [Леонид (Краснопевков), еп. Дмитровский. Жизнь Святого Филиппа, митрополита Московского и всея России. М., 1861. С. 37]; благодаря своим необычайным хозяйственным способностям игумен в короткое время привел монастырь к процветанию.
Епископ Леонид замечает: «…наблюдательный и восприимчивый ум Федора не оставлял без внимания и порядка дел в домостроительстве и сельском хозяйстве… По крайней мере, той необыкновенной умной и опытной распорядительности по хозяйству, какую (увидим далее) показал он во время своего настоятельства на Соловках, нельзя иначе изъяснить, как предварительным близким знакомством с хозяйственной частью» (там же. С. 12). «Вознамерившись украсить обитель каменными зданиями, Филипп построил кирпичный завод… указал место для порубки дров на завод и на монастырь с тем, чтобы вырубка не только не портила и излишне не истребляла леса, но своею правильностью очищала его и способствовала дальнейшему размножению … В самом монастыре выстроена мельница. Чтобы доставить ее колесам потребное количество воды, настоятель избрал из многочисленных озер острова пятьдесят два более удобные по положению своему и качеству вод, соединил их каналами, свел под самый монастырь, где начал копать для их стока огромный пруд, который и ныне, под именем Святого озера доставляет монастырю обилие свежей вкусной воды. Таким образом, расчищение лесов, осушение болот, освежение вод очищали воздух и самый климат делали здоровее, благораствореннее» (там же. С. 40). Игумен Филипп заботился и об улучшении внутреннего порядка в волостях, принадлежавших монастырю, и быта населявших их крестьян. «Особенно много мер было принято святым Филиппом для поддержания среди крестьян доброй нравственности. Он входил во все подробности крестьянской жизни и, строго преследуя среди них пьянство и азартные игры, старался приучить их к труду и порядку» (Жития русских святых: Январь–апрель. Кн. 2. М., 1916. С. 36).
Последствием необычайных трудов св. Филиппа было то, что дикие и неприступные острова Белого моря сделались благоустроенными и даже плодородными. Сама же обитель украсилась новыми каменными зданиями и благолепными церквами. На построение храмов св. Филипп положил особенно много труда и забот. «Чтобы обеспечить вход судов в залив, в углублении которого стоит монастырь Соловецкий, игумен сделал большие насыпи, и на них поставил высокие кресты, вместо маяков» [Леонид (Краснопевков), еп. Указ. соч. С. 41].
25 июля 1566 г. собором российских епископов в Успенском соборе игумен Филипп был возведен на Московскую митрополию. 22 марта 1568 г. в том же соборе святитель Филипп обратился к Царю Иоанну Васильевичу с речью, в которой напомнил о долге христианина, об ответственности на Божьем суде за кровопролития и беззакония. 8 ноября 1568 г. Святитель по ложным обвинениям был лишен сана и отправлен в ссылку; 23 декабря 1569 г. был умерщвлен. В 1591 г. мощи священномученика Филиппа были перевезены из Тверского Отроча монастыря на Соловки, где от них богомольцы получали исцеления.
Платон, Митрополит Московский. Краткая церковная история. М., 1805. С. 234.
Этой теме посвящено множество исследований (см.: Зеленская Г. М. Святыни Нового Иерусалима М., 2002; Лебедев Лев, прот. Москва патриаршая. М., 1995; Патриарх Никон. Труды / научн. исследование, подготовка документов к изд., сост. и общ. ред. В. В. Шмидта. М., 2004).
Иоанн Златоуст (347–407) – святой, один из Отцов Церкви, Патриарх Константинопольский с 397 г., духовный писатель. Величается как «светильник миру, учитель вселенной, столп и утверждение Церкви, проповедник покаяния» (Димитрий Ростовский. Жития святых: Ноябрь. М., 1905. С. 310). Его творения еще при жизни приобрели большую известность, хранились как драгоценность и писались золотыми буквами. До нашего времени сохранилось 1447 произведений и 244 письма. В совершенстве владея рациональным методом толкования Священного Писания, Иоанн Златоуст предлагал наставления почти обо всех частных предметах христианской жизни. В продолжение своего общественного служения Святитель Иоанн объяснял в беседах Священное Писание и давал нравственные уроки. Главное значение Иоанна Златоуста в том, что он проповедник в области практической морали и утверждения принципов христианской социологии. Его рассуждения об устройстве взаимных отношений на христианских началах, об обязанности заботиться об общем благе, о взаимопомощи и благотворительности вызывали недовольство богатых слоев населения. Ходатайства Златоуста за несправедливо обиженных императорский двор воспринял как личное оскорбление.
В 402 г. был созван Собор, который осудил Иоанна Златоуста по ложным обвинениям, в том числе за то, что «не знает гостеприимства», игнорируя при этом факт устройства Святителем множества больниц и богаделен. В ночь после удаления Иоанна Златоуста с кафедры в Константинополе произошло страшное землетрясение, а затем и восстание горожан. Златоуста отозвали из ссылки, и он продолжил свою исповедническую деятельность. 20 июня 404 г. Иоанн Златоуст снова был сослан; в этот же день в Константинополе разразилась буря с грозой, вызвавшей пожар в Софийском соборе, превратились в пепел Сенат и другие здания. Сопровождавшие Святителя охранники подвергали его оскорблениям и унижениям: отобрав одежду, везли измученного старца в дождь и зной, чтобы изнурить и довести до смерти.
Через два года место ссылки было изменено. По пути к новому месту ссылки – район современной Пицунды, – в Команах 14 сентября 407 г., причастившись, благословив всех присутствовавших, при словах: «Слава Богу за все!» святитель Иоанн Златоуст окончил свой жизненный путь. «Это было в самый день Воздвижения Честнаго Креста Господня. Таким образом, святой угодник Божий, в течение всей жизни несший крест свой, распинаясь для мира и сораспинаясь Христу, скончался в день, посвященный памяти Честнаго Креста», – говорится в «Житиях святых» Димитрия Ростовского (с. 365–366).
В 437 г. по требованию Патриарха Прокла (духовного сына Святителя) и константинопольской паствы мощи Святителя Иоанна Златоуста были с почестями перенесены в Константинополь. Сохранилось предание, что это стало возможным после того, как император Феодосий Второй написал письмо к Святителю Иоанну как к живому, испрашивая прощение.
Значение нравственного примера, явленного в житии и трудах Святителя Иоанна Златоуста, несмотря на прошедшие 1600 лет, для человечества не имеет границ, ибо большую часть года совершается Божественная Литургия по чину, который носит его имя. С полным правом Святителя Иоанна Златоуста можно назвать предтечей Святейшего Патриарха Никона. «…Пришел Кормчий душ наших – Христос, утвердил древо крестное посреди земли и устроил для нас безбурное плавание в небесный град» (Полн. собр. творений св. Иоанна Златоуста: в 12 т. СПб., 1906. Т. 12. С. 905), – эта мысль Иоанна Златоуста станет определяющей для всей деятельности Патриарха Никона.
Полн. собр. творений св. Иоанна Златоуста. Т. 12. Кн. 1. С. 177.
Там же. Т. 9. Кн. 1. С. 178.
Там же. Т. 10. Кн. 1. С. 247.
Там же. Т. 7. Кн. 1. С. 223.
Житие Никона, Патриарха Московского и всея Руси. Л. 71–72.
Цит. по: Бургхардт Т. Сакральное искусство Востока и Запада: Принципы и методы. М., 1999. С. 85.
Полн. собр. творений св. Иоанна Златоуста. Т. 7. Кн. 1. С. 227.
Киприан (Керн), архим. Евхаристия. Париж, 1947. С. 296–297.
Бургхардт Т. Указ. соч. С. 72.
См.: Бондарева О. Н. Об идейной сущности строительной деятельности Святейшего Патриарха Никона // Социальные конфликты в России XVII–XVIII веков: Материалы Всерос. науч.-практ. конф. (Саранск, 20–22 мая 2004 г.). Саранск, 2005. С. 294–299. Также см в наст. сб.: Горячева М. Ю. Домашний быт Патриарха Никона в Богоявленской пустыни (реконструкция по материалам реставрационных работ). С. 990–991. Сноска № 6.
Православный Палестинский сборник / под. ред. С. О. Долгова. СПб., 1895. Т. XIV. Вып. 3. С. 20.
Бургхардт Т. Указ. соч. С. 76.
Зызыкин М. В. Патриарх Никон: Его государственные и канонические идеи: в 3 ч. Варшава, 1931–1938; М., 1995 (репринт). Ч. 1. С. 17.
См.: Алферова Г. В. К вопросу о строительной деятельности патриарха Никона // Архитектурное наследство. 1969. № 18; Баталов А. Л., Вятчанина Т.Н. Об идейном значении и интерпретации иерусалимского образца в русской архитектуре XVI–XVII вв. // Архитектурное наследство. 1988. № 36; Грабарь И., Топоров С. Архитектурные сокровища нового Иерусалима // Памятники искусства, разрушенные немецкими захватчиками в СССР / под ред. И. Грабаря. М.; Л., 1948; Лебедев Лев, прот. Москва патриаршая. М., 1995.
Бургхардт Т. Указ. соч. С. 83.
Арган Дж.-К. История итальянского искусства: в 2 т. М., 1990. Т. 2. С. 85.
Барокко: Архитектура. Скульптура. Живопись / под. ред. Р. Томана. Б. м., 2000. С. 288.
Шпенглер О. Закат Европы. М., 1998. Т. 1. С. 363.
Лосский Н. О. Мир как осуществление красоты: Основы эстетики. С. 225.
Там же. С. 228.
Патриарх Никон. Труды. С. 82.
Павел Алеппский. Путешествие Антиохийского патриарха Макария. М., 2005. С. 451.
Миранда Франсиско де. Путешествие по Российской Империи. М., 2001. С. 198–199.
Случевский К. По северо-западу России. СПб., 1897. Т. 1. С. 386; также см.: Патриарх Никон. Труды. С. 538.
Т. Бургхардт заметил о характере Ренессанса: «…утрачивая свою приверженность Небу, он лишается также и связи с землей» (Бургхардт Т. Указ. соч. С. 188).
Антоний (Храповицкий), митр. Патриарх Никон и Россия. Б.м., 1936. Впечатления многострадального владыки Антония полагаю необходимым дополнить своими наблюдениями: в ясные ночи в самом монастыре Нового Иерусалима, когда небо усеяно мириадами звезд, когда луна совершает свое торжественное шествие, кресты и купола Воскресенского собора предстают словно приблизившиеся с космических высот небесные лампады.
Тейяр де Шарден П. Божественная среда. М., 1994. С. 131.
Полн. собр. творений св. Иоанна Златоуста. Т. 7. С. 223.
Паисий Лигарид (1610–1678), окончил иезуитскую коллегию в Риме со степенью доктора богословия. В 1641 г. был отправлен на Восток. В 1651 г. принял монашество, в 1652 г. посвящен в митрополита Газского, но в свою епархию не поехал. Проклятый как еретик Патриархами Константинопольским и Иерусалимским, лишенный кафедры, он добыл рекомендации от уважаемых на Руси лиц и в начале 1662 г. прибыл в Москву. Здесь его услугами воспользовался злейший противник Патриарха Никона боярин Семен Стрешнев. Интригуя и угождая, Лигарид сумел стать главной теневой фигурой в организации гонений на Святейшего Патриарха Никона. Он, исполняя задачи Римской Пропаганды, не только эффективно участвовал в подрыве государственной мощи Русского царства, но и выступал, в частности, за прекращение патриаршей строительной деятельности. Целью было лишить российских людей зримых источников огромной созидательной силы России и, главное, скрыть жизнеутверждающий образ Нового Иерусалима.
См.: Красносельцев Н. Ф. Типик церкви Св. Софии в Константинополе. Одесса, 1892. С. 35–40.
См. там же. С. 9; также см.: Никон Черногорец. Тактикон. Пг., 1917.
В. Ш.: В монастыре Нового Иерусалима в земляной церкви свв. Константина и Елены Живоносный источник был устроен с учетом архитектурного решения константинопольского образца: над колодцем отверстие в потолке как бы соединяет придел обретения Креста Господня с палаткой-лантернином – приделом св. Филиппа, митрополита Московского, – расположенной над ним. В этом верхнем приделе у восточной стены был установлен керамичесий крест в меру Креста Господня, который отражался в водах Живоносного источника.
Раушенбах Б. В. Пристрастие. М., 1997. С. 157
См.: Никодим (Кононов), иером. Архангельский патерик. СПб., 1901. С. 176; Никольский В. Иконографическое собрание Соловецкого музея // Материалы СО АОК. Соловки, 1926. С. 46; Морозов С. Тогда на Анзерском острове. Б.м., 2000. С. 130; Маркина Н. Г. Икона-мощевик: Глава Иоанна Предтечи // Христианские реликвии в Московском Кремле. М., 2000. С. 292–293; Севастьянова К. С. Преподобный Елеазар, основатель Свято-Троицкого Анзерского скита. СПб., 2001. С. 138; Зеленская Г. М. Художественные дарования Святейшего Патриарха Никона // Истринские вести. 2000. 28 октября; Зеленская Г. М. Новый Иерусалим: Путеводитель. М., 2003. С. 26–28; Гиббенет Н. Историческое изследование дела Патриарха Никона. СПб., 1882–1884. Ч. 1, 2. С. 293, 952–954.
Севастьянова С. К. Преподобный Елеазар, основатель Свято-Троицкого Анзерского скита. С. 138.
Шмеман Александр, протопресв. За жизнь мира. М., 2003. С. 24.
Там же. С. 39, 25.
Софроний (Сахаров), иеромонах. Старец Силуан. М., 1994. С. 214.
Патриарх Никон. Труды. С. 243.
Патриарх Никон. Труды. С. 38.
Антоний (Храповицкий), митр. Указ. соч.
Palmer W. The Patriarch and the Tsar. V. 1–6; History of the Condemnation of the Patriarch Nicon by a Plenary Counsil of the Orthodox Catholic Eastern Church, held at Moscow A.D.: 1666–1667: Written by Paisius Ligarides of Scio. L., 1871–1876; Stanly A. Palmers dissertations on subjects relating to the Orthodox or Eastern Communion. L., 1853; см. также: Зызыкин М. В. Патриарх Никон: Его государственные и канонические идеи.
Булгаков С. Н. Православие: Очерки учения православной церкви. М., 1991. С. 375.
Доусон К. Г. Религия и культура. СПб., 2000. С. 91.
В. Ш.: Как богомудрый пастырь, назирающий за правилом исполнения закона благодати, Патриарх созидает в земной жизни православящей паствы зримые образы Того, чьей силой и в чьей славе мир утверждается и мера исполняется. Свидетельствуя «на небеси Рай, на земли Валдай», строитель-зодчий предлагает религиозному духу денно-нощно пребывать под омофором Пречистой ходатаицы и заступницы Богородицы в путях житейского моря, в котором утверждающе-спасительным маяком есть и будет Пречестный Крест Господень – «Крест хранитель всея вселенныя: Крест красота Церкви: Крест царем держава: Крест во бране победа: Крест верных утверждение: Крест ангелом слава: Крест христианом упование: Крест заблудшим наставник: Крест труждающимся тишина: Крест недужным врач: Крест мертвым воскресение: Крест бесом язва»; в скорбях, муках, с сокрушенным сердцем, в надежде воскресения личное взнесение креста на Голгофу завершается сораспятием Христу и торжест венным «Воскресение Твое, Христе Спасе, ангели поют на небесех и нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе славити». Торжественно восславляя в единосущной и нераздельной Троице Бога Отца и Сына и Святого Духа, Святейший Патриарх Никон образами своих монастырей явил вверенной ему пастве замысел Божьего домостроительства. Образ же кроткого и смиренного крестовозношения, как образ стояния в вере Христовой, как образ личного подвига, явил своей богоспасаемой пастве по евангельскому учению «и нося крест Свой, изыде на глаголемое лобное место» (Ин.19:17) созиданием рукотворного острова посреди вод житейского моря, «одолеваемого напастей бурею», с утвержденным на камени честным Крестом: «Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение»…
Никольский К., прот. Пособие к изучению устава Богослужения Православной Церкви. СПб, 1907. С. 398.
Патриарх Никон. Труды. С. 718.
Макарий Египетский, преп. Духовные слова и послания. М., 2002. С. 507.
Там же. С. 520.
Цит. по: Кириллин М. В. Символика чисел в литературе Древней Руси. СПб., 2000. С. 30–31.
Полн. собр. творений св. Иоанна Златоуста. Т. 6. Кн. 1. С. 411; также см. в наст. сб.: Яворская С.Л. Сакрализация царства в образах Нового Иерусалима. («Шумаевский крест»: опыт реконструкции замысла). С. 1005; Соколова И. М. «Новый Иерусалим» в Кремле: незавершенный замысел Царя Федора Алексеевича. С. 1025.
Патриарх Никон. Труды. С. 83.
Полн. собр. творений св. Иоанна Златоуста. Т. 6. Кн. 1. С. 412.
Житие Иоанна Златоуста // Там же. Т. 1. С. 356.
Созданный рукотворный каменный остров – последнее зодческое деяние Святейшего Патриарха Никона – не следует воспринимать буквально как убежище или пристанище. В феврале 1917 г. старец Анатолий Оптинский предсказал: «Будет шторм. И русский корабль будет разбит… и все щепки и обломки, волею Божией и силой Его, соберутся и соединятся и создастся корабль в своей красе, и пойдет своим путем, Богом предназначенным. Так это будет явное всем чудо» [цит. по: Серафим (Роуз), иером. Будущее России и конец мира // Русский паломник (США). 1990. № 2. С. 99]. Известный американский писатель Т. Уайлдер (1897–1975) в романе «День Восьмой» вложил в уста одной из своих героинь утверждение: «Россия – тот ковчег, где спасется человечество в час всемирного потопа» (Уайлдер Т. День Восьмой. М., 1976. С. 409). Уайлдер словно был в диалоге со своим духоносным соотечественником, иеромонахом Серафимом (Роузом) (1934–1982): «Православие является верой, цель которой есть спасение нашей души…» [Серафим (Роуз). Указ. соч. С. 97].
Слово о Животворящем Кресте // Патриарх Никон. Труды. С. 87, 91, 92.
Зеленская Г. М. Новый Иерусалим: Путеводитель. М., 2003. С. 262–268. Об изразцах см.: Она же. Святыни Нового Иерусалима. М., 2002. С. 65–78.
См.: Патриарх Никон: облачения, личные вещи, вклады, портреты. М., 2002. С. 49, 59, 61.
Филиграни XVII века: По рукописным источникам ГИМ: Каталог / сост. Т. В. Дианова, Л. М. Костюхина. М., 1988. С. 3–4. О бумажном производстве см.: Лихачев Н. П. Бумага и древнейшие бумажные мельницы в Московском государстве. СПб., б. г.
См.: Клепиков С. А. Бумага с филигранью: Герб города Амстердама (ОР ГБ им. Ленина). Вып. 20. М., 1958. С. 316.
Архивольт (арх.) – профилированное обрамление пролета арки.
См.: Древности Российского государства, изданные по высочайшему повелению государя императора Николая I (далее: Древности Российского государства…). М., 1849–1858. Отд. 1. № 87–91 (см. переизд.: Московский журнал. 2005. № 2).
См.: Патриарх Никон: Стяжание Святой Руси – созидание государства Российского / сост. и общ. ред. В. В. Шмидта, В. А. Юрчёнкова: в 3 ч. Ч. I: Дорошенко С. М. Патриарх Никон: Летопись жизни и деятельности на фоне событий церковной и гражданской истории и в окружении разного рода лиц, к нему касательных / под общ. ред. В. В. Шмидта. М.; Саранск, 2009. С. 497–680 (1656–1657 годы).
Возражение или Разорение смиренного Никона, Божией милостью Патриарха, противо вопросов боярина Симеона Стрешнева, еже написа Газскому митополиту Паисию Ликаридиусу и на ответы Паисиовы (далее: Никон, Патриарх. Возражение или Разорение…) // Патриарх Никон. Труды / сост., науч. иссл. и публ. В.В. Шмидта. М., 2004.
См.: Зубов А. Б. История религий. М., 1997. Кн. 1. С. 130.
Древности Российского государства… Отд 1. № 85, 90.
Никон, Патриарх. Возражение или Разорение… [по ркп.] Л. 292об., 293.
Древности Российского государства… Отд. 1. № 91 (описание греческой короны).
Никон, Патриарх. Возражение или Разорение… [по ркп.] Л. 296–296об.
Владимир (Рожков), прот. Очерки по истории Римско-католической церкви. М., 1994. С. 42.
Зызыкин М. В. Патриарх Никон: Его государственные и канонические идеи (далее: Патриарх Никон…). М., 1995. Ч. 2. С. 57.
См.: Зеленская Г. Святыни Нового Иерусалима. С. 36.
Никон, Патриарх. Возражение или Разорение… [по ркп.] Л. 325об., 327.
См.: Зызыкин М. В. Патриарх Никон… Ч. 1. Гл. 1. С. 36–37.
Никон, Патриарх. Возражение или Разорение… [по ркп.] Л. 333–333об.
См.: Колпакова Г. С. Искусство Византии. СПб., 2004. С. 54–56.
Никон, Патриарх. Указ. соч. Там же.
См.: Арсеньев Ю. В. Геральдика: Курс лекций. М., 2001. С. 290–292.
Никон, Патриарх. Возражение или Разорение… [по ркп.] Л. 331–332об.
См.: Патриарх Никон: Стяжание Святой Руси – созидание государства Российского: в 3 ч. Ч. I: Дорошенко С. М. Патриарх Никон: Летопись жизни и деятельности... С. 255, 278, 310, 379, 441.
См.: Ченцова В. Г. Митра Паисия Иерусалимского // Патриарх Никон и его время: Сб. ГИМ. Труды. Вып. 139. М., 2004.
Арсеньев Ю. В. Геральдика: Курс лекций. С. 290.
Никон, Патриарх. Возражение или Разорение… [по ркп.] Л. 395.
См.: Арсеньев Ю. В. Геральдика: Курс лекций. С. 290–292.
См.: Похлебкин К. В. Словарь международной символики и эмблематики. М., 2001.
См.: Новый Иерусалим: Календарь. 2001-й год; Патриарх Никон: облачения, личные вещи, вклады, портреты. С. 99.
С первой половины XIX в. Богоявленскую отходную пустынь Воскресенского ново-Иерусалимского монастыря начинают именовать скит Патриарха Никона. Постепенно первоначальное название почти полностью вытесняется.
См. в наст. сб.: Дорошенко С. М., Юрчёнков В. А. Патриарх Никон: духовный свет сквозь века (духовная власть как духовная опора на все времена). С. 518.
См.: Путешествие к святым местам русским: Воспоминание о посещении святыни московской государем наследником. СПб, 1840.
Патриархом Никоном были основаны и построены три монастыря: Крестный монастырь на Кий-острове на Белом море, одноименный монастырю, находящемуся в окрестностях Иерусалима, Иверский Валдайский монастырь, явившийся символическим повторением монастыря Ивер в Северной Греции, и воссоздающий иеротопос Святой Земли Воскресенский монастырь Нового Иерусалима. Описание никоновых монастырей см.: Патриарх Никон. Труды / научн. исследование, подготовка документов к изд., сост. и общ. ред. В. В. Шмидта. М., 2004. С. 527–821; также см. в наст. сб.: Бондарева О. Н. Зодчество Святейшего Патриарха Никона: истоки и значение. С. 956.
См.: Леонид (Кавелин), архим. Исторический очерк Иверской Святоозерской обители в ее патриарший период (с 1653 по конец 1666 года). [РИБ. Т. 5]. СПб., 1878; Грамоты в Иверский Валдайский монастырь // Патриарх Никон. Труды. С. 137–174.
Леонид (Кавелин), архим. Историческое описание Ставропигиального Воскресенского, Новый Иерусалим именуемого, монастыря, составленное по монастырским актам настоятелем онаго архимандритом Леонидом. М., 1876. С. 6.
Шушерин И. Известие о рождении и воспитании и о житии святейшего Никона Патриарха Московского и всея Руси, написанное клириком его Иоанном Шушериным. М., 1871.
См.: Макарий (Булгаков), митрополит Московский и Коломенский. История Русской Церкви. Т. XII: Патриаршество в России. СПб., 1883. Кн. III. С. 268; РГАДА. Ф. 27: Приказ тайных дел. № 140: Росписи в обидах Святейшего Никона Патриарха на трех столбцах.
Во время работ 1979 г. архитектором Г. В. Алферовой при закладке шурфа у северного фасада на одном из фундаментных блоков был обнаружен фрагмент фрески. Исследования фрагмента и подбор материалов по собору Михаила Архангела в Старице дают основание предполагать, что найденный фрагмент привезен из Старицы и является частью росписи «полотенца» в нижней части интерьерных стен. Тогда же был найден белокаменный профилированный блок в кладке купола Скита. Осенью 2005 г. в фундаменте северо-восточной части здания был обнаружен фрагмент белокаменной капители, по всей видимости, также принадлежавшей собору Михаила Архангела.
Историко-архитектурный и художественный музей Новый Иерусалим / сост. З. П. Майборода. М., 2000. С. 16
В. Ш.: Как представляется, в разработке идей архитектурно-иконогрфических построений и решений образа «Нового Иерусалима» как монастырского комплекса Патриархом Никоном была также использована изданная Пискатором лицевая Библия Борхта [Борхт-Пискаторhoc est vetus et novum testamentum iconibus expressum opera et studio Petri vander Burght, et Lucem editum per Nicolaum Ioannis Piscatorem. Anno 1639 (см., например: ГИМ ОР. Муз. 4000. Инв. № 48564/1913: Библия с русскими виршами; Муз. 4049. Инв. № 39868: Библия Пискатора; Муз. 3666. Инв. № 43958: Библия Пискатора и др.)], которая в XVII в. получила широкое распространение в России. Известен подарок ближней боярыни И. А. Мусиной-Пушкиной (Луговская), подруги царевны Татьяны Михайловны, которая подолгу жила в монастыре Нового Иерусалима в покоях царевны, Ростовскому митрополиту Ионе Сысоевичу, создавшему знаменитый Ростовский ансамбль митрополичьего двора с многочисленными церквами. Церкви богато расписывались фресками, но случались затруднения с сюжетами росписей. Тогда И. А. Мусина-Пушкина подарила митрополиту Библию голландского издания с рисунками художника Пискатора как пособие для мастеров по фрескам (см.: Кузмичев Ф. Семья русских книголюбов // Альманах библиофила. Вып. 25. М., 1989. С. 78–87).
Богатство художественных решений известных библейских тем, в том числе сюжеты на Откровение Иоанна Богослова, не могли не обратить на себя внимание Святейшего (в распоряжении Патриарха было не менее трех печатанных на листах немецких Библий, 270 фряжских листов, которые были по указу Царя в ряду другого имущества отправлены вслед за Никоном в Воскресенский монастырь (см.: Переписная книга домовой казны Патриарха Никона, составленная в 7166 году по повелению Царя Алексея Михайловича // Временник ОИДР. 1852. Кн. 15. Отд. 2. С. 114; также см.: Киприан (Kерн), архим. Русские переводы патристических текстов: Библиографический справочник. Сноска № 10 [см. это же: Вопросы религии и религиоведнеия. Вып. 1: Антология отечественного религиоведения / сост. и общ. ред. О. Ю. Васильева, Ю. П. Зуев, В. В. Шмидт. Ч. 4. М., 2009. С. 527–584]).
Еще более важным представляется факт влияния этих Библий на создание программных росписей Воскресенского собора, в которых иконографические сюжеты, восходя к тексту Писания, во многом совпадают с композиционно-художественными решениями гравюр. Влияние отчетливо прослеживается и в миниатюре, и в иконописи, и в настенных храмовых росписях. Но с момента своего использования в качестве образцов иллюстрации этих Библий перерабатываются в соответствии с русской традицией: свето-теневые переходы заменяются тональными цветовыми пятнами, пространство композиции лишается глубины, а пластические формы «личного» передаются иконной системой письма; прямая перспектива нередко заменяется обратной, а плоскостность, одноплановость композиции предпочитается глубинному развитию пространства в гравюре; так называемая обмирщвленная архитектура (античная, ренессансная) и пейзажные фоны зачастую исключаются из живописных композиций – производится нивелирование тех деталей, которые приводят к разрушению, десакрализации иконного пространства в его традиционном понимании (см.: Белоброва О. А. Библия Пискатора в собрании БАН СССР // Материалы и сообщения по фондам ОРиРК БАН СССР. 1985. Л., 1987. С. 184–216; Она же. Библия Вайгеля в России // Немцы в России: Проблемы культурного взаимодействия. СПб., 1998. С. 219–224; Бусева-Давыдова И. Л. Новые иконографические источники русской живописи XVII в. // Русское искусство позднего Средневековья: Образ и смысл. М., 1993. С. 190–206; Гамлитский А.В. Библия Пискатора, ее издания и иконографические источники // «Филевские чтения»: Тезисы конференции. М., 1995; Он же. К вопросу о древнерусском читателе священных книг // Библия в культуре и искусстве. М., 1996; Хромов О. Р. «Библия Ектипа» (Biblia Ectypa) Кристофа Вайгеля и русский лубочный Апокалипсис // Проблемы копирования в европейском искусстве: Мат-лы конференции РАХ: 1997. М., 1998; Свирина Н.В. Гравюры Мартина Энгельбрехта в собрании Нижегородского государственного художественного музея
См.: Художественно-исторический краевой музей. Воскресенск (Моск. Губ.), 1928. С. 21.
Аполлос, архим. Исторические достопамятности о начале и произшествиях Ставропигиального Воскресенского монастыря нареченного Новый Иерусалим. М., 1777. С. 4.
Никольский П. П. Отходная пустынь Патриарха Никона близ Воскресенского монастыря. Б. м., 1927; ГРБ ОР. Ф. 177: МОБК. Карт. 47. № 42.
Музей архитектуры им. А. В. Щусева. Научно-технический архив треста «Мособлстройреставрация». Переплет инв. № 935–91 (архитектор М. Ю. Горячева).
Ильин М. А. Каменная летопись Московской Руси. М., 1966. С. 195; Писарев Н. Домашний быт русских патриархов. Казань, 1904. С. 147.
РГАДА. Ф. 1625. Оп. 1. Д. 71 (б/п). Л. 16.
Приводимая ниже реконструкция интерьеров Богоявленской пустыни составлена на основании проведенных на памятнике натурных исследований, которые подтверждены актами, заполненными по установленной форме, и входят в состав материалов обмеров и исследований проекта реставрации памятника архитектуры Скит Патриарха Никона Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря (см.: Музей архитектуры им. А.В. Щусева: Научно-технический архив треста «Мособлстройреставрация». Переплет инв. № 571–586. Архитектор М.Ю. Горячева).
См.: Горячева М. Ю. Отходная пустынь Патриарха Никона: Материалы исследований
См.: Леонид (Кавелин), архим. Историческое описание Ставропигиального Воскресенского, Новый Иерусалим именуемого, монастыря, составленное по монастырским актам настоятелем оного Архимандритом Леонидом. М., 1876. С. 457; Устав монастыря Нового Иерусалима // Патриарх Никон. Труды. С. 725.
«Зеркало» – фасадная сторона (плоскость) печи (см.: Киселев И. Архитектурные детали в русском зодчестве XVIII–XIX веков: Справочник архитектора-реставратора. М., 2005. С. 455).
См.: Никольский П. П. Отходная пустынь Патриарха Никона близ Воскресенского монастыря; РГБ ОР. Ф. 177: МОБК. Карт. 47. № 42. Л. 3.
Предположительно они изготовлены привезенными Святейшим Патриархом из Иверского монастыря изразечниками. Возможно, изразечники привезли с собой и формы, в которых были изготовлены изразцы этого набора.
Цит. по: Гиббенет Н. Н. Историческое изследование дела Патриарха Никона: в 2 ч. СПб., 1882–1884. Ч. 1. С. 182.
Цит по: Гиббенет Н. Н. Указ. соч. Т. 1. С. 168; см. также: Соловьев С. М. История России с древнейших времен. М., 1860. Т. XI–XV. Кн. 3.
Гиббенет Н. Н. Указ. соч. Ч. 1. С. 168.
Границы перекладки во время исследовательских работ наиболее четко были прослежены на стене северного фасада скита.
Историко-архитектурный и художественный музей «Новый Иерусалим». Архив: Главная церковная и ризничная Опись Воскресенского, Новый Иерусалим именуемого, монастыря, составленная в 1875 г.
Челобитная Романа Боборыкина о том, что Патриарх Никон на месте деревянной церкви Воскресения «церковь и большое свое строение дворовое все сломал и перенес с той земли на иные пустые места, где от веку церковь не бывала, а старое церковное место покинул впусте и под пашню… а на старом кладбище Православные христиане впредь без поминку не были» [Леонид (Кавелин), архим. Историческое описание Ставропигиального Воскресенского, Новый Иерусалим именуемого, монастыря. С. 123].
См.: Горячева М. Ю. Отходная пустынь Патриарха Никона: Материалы исследований
«Устрои же Святейший Никон патриарх себе за монастырем отшельную пустыню…учини столб убо каменный весь… во втором же прихожую келию и другую келейным» [см.: Краткое историческое сказание о начале и устроении Воскресенского, Новый Иерусалим именуемого, монастыря. С. 8 (с монастырских рукописей. 1750 г.)].
Среди найденных обломков не хватает только горлышка. Возможно, штоф был изготовлен на Духанинском заводе (село Духанино, в котором находился один из первых стекольных заводов начала XVII в., расположено в нескольких километрах от Воскресенского монастыря).
См.: Забелин И. Е. Домашний быт русских царей в XVI и XVII столетиях. Кн. 1: Государев двор, или дворец. М., 1990. С. 190.
Никольский П. П. Отходная пустынь Патриарха Никона близ Воскресенского монастыря; РГБ ОР. Ф. 177: МОБК. Карт. 47. № 42. Л. 7.
См.: «Новый Иерусалим» // Странник. 1887. № 10.
Фрагменты дверных ручек и жиковин (фигурные дверные петли) были найдены при археологических раскопках около пустыни и на территории монастыря.
Во время исследовательских работ были обнаружены три вида кованых дверных ручек. К первому отнесены ручки в виде колец; ко второму – ручки наиболее традиционного вида – в форме скобы, на средней их части имелись упомянутые изображения крестов и соболей; к наиболее интересному и редкому третьему типу относится ручка, изогнутая по форме цифры два (в нижней части изгиба имеется ограничитель-упор с острым завершением – хвостовиком, который вбивался в дверь. На обратной стороне двери его острый конец загибался, закрепляя таким образом ручку на двери.
Историко-архитектурный и художественный музей «Новый Иерусалим». Архив. Ф. 1: Опись 1679 г.
По сохранившимся фрагментам реконструирована технология изготовления керамической плитки для пола с имитацией текстуры дерева.
См. в наст. сб.: Первушин М. В. Профетизм в жизни Патриарха Никона. С. 674; Дорошенко С. М., Юрчёнков В. А. Патриарх Никон: духовный свет сквозь века: (духовная власть как духовная опора на все времена). С. 518.
Гиббенет Н. Н. Историческое изследование дела Патриарха Никона: в 2 ч. Ч. 2. С. 112.
Витсен Н. Путешествие в Московию 1664–1665: Дневник / пер. со староголланд. В. Г. Трисман. СПб., 1996. С. 182.
Перевод Е. А. Трофимовой: «Потом привел он нас в свою пустынь, куда очень редко кто попадает. Этот каменный домик состоит из 16 комнаток, среди них две церковки, которые мы посетили. Его учебная комната находится там же, кроме русских и голландских книг других я не видел. Ступени очень узкие; кажется, что там лабиринт. Наверху находится плоская кровля и одна церковка, и затем, похоже, стояла беседка. На вид снаружи она белая, как садовый домик в Меере, рядом с нами».
Русский архив. Год 10. М., 1872. Вып. 1–6. Стлб. 1371–1374; также см. в наст. сб. в ст. С. М. Дорошенко, Юрчёнкова В. А. «Патриарх Никон: духовный свет сквозь века...» сноску, отмеченную *, на с. 526.
Новоиерусалимский месяцеслов: Крестные ходы: 6 января – в Богоявление Господне – к скиту Святейшего Патриарха Никона, что на берегу р. Иордан, где бывает великое освящение воды; 29 июня – Святых апостолов Петра и Павла – из соборного храма Воскресения Христова в скит Святейшего Патриарха Никона; 1 августа – Происхождение древ Животворящего Креста Господня – из соборного храма на р. Иордан для освящения воды (см.: Устав монастыря Нового Иерусалима // Патриарх Никон. Труды. С. 813); «О хождении на воду в день святых Богоявлений и августа в 1: В навечерии святых Богоявлений по Литургии Великаго Василиа творим исхождение на воду, яко же устав наш старописанный харатейный повелевает. Тако и творим, идуще со святыми иконами и с хоругви по чину, яко же и прежде указася в хождении литии вне монастыря: идем в западныя врата к реце, идеже стоит церковь святаго Богоявления, зовомая пустыня. И служащии же священник и диакон в той в пустыни, взем крест и кадило, вышед, ожидают настоятеля. И пришед на Иордан, творят освящение воды по чину и уставу. По скончании же освящения воды идут в монастырь, поюще стихиры, в те же врата, ничто же в них не деюще, токмо кропит святою водою. И вшед во храм, творит отпуст Литургии, пиюще священную воду. По отпусте же церковный служитель поставляет среди храма налой и подсвещник с горящею свещею; певцы же поют тропарь празднику, «Слава, и ныне», кондак. И абие первый диакон, став среди храма у налоя, многолетствует царя, и архиерея, и настоятеля, по чину, како бывает в навечерии Рождества Христова (там же. С. 777).
Размышления об идее этого уникального явления русской культуры мы основываем на исследованиях фрагментов ансамбля, выставлявшихся во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства в начале 2000 г., в ГМИИ им. А. С. Пушкина в июне 2004 г., а также на фотографиях, сделанных для Н. Н. Соболева в начале прошлого века и в большинстве своем опубликованных Г. А. Романовым. См.: Романов Г. А. Крест резной: Московский Сретенский монастырь. М., 1992. В настоящее время ансамбль разобран. Первая публикация фотоснимков ансамбля была сделана Н. Н. Соболевым – см.: Соболев Н. Н. Резные изображения в русских церквях // Старая Москва. 1914. Вып. 2.
Алтари-ретабли (retrotabulum – задняя стена) устанавливаются у стены, за престолом. Высота ансамбля – около 7,8 м, ширина – около 4,2 м, глубина – около 1,1 м. См.: Соболев Н. Н. Русская народная резьба по дереву. М., 2000. С. 396.
Надпись на стене перед входом в Голгофский придел Воскресенского собора Новоиерусалимского монастыря говорила о том, что в Иерусалиме против креста устроен открытый престол, где совершают Литургию православные (Описание Воскресенского собора Ново-Иерусалимского монастыря. М., 2001. С. 73). Алтари-ретабли часто служили для хранения реликвий. Крест с Распятием, установленный в этом ансамбле, является образом-эквивалентом реликвии, а весь киот в таком случае становится грандиозным драгоценным реликварием-монстранцем. См.: Яворская С.Л. «Шумаевский крест» и кальвария Царя Алексея Михайловича // Иеротопия: Создание сакральных пространств в Византии и Древней Руси (далее: Иеротопия...) / ред.-сост. А.М. Лидов. М., 2006. Об образах-эквивалентах реликвий, алтарях-ретаблях и реликвариях см.: Бельтинг Х. Образ и культ: История образа до эпохи искусства. М., 2002. С. 343, 494. Реликварий-монстранц должен быть сделан из прозрачного материала. Такие реликварии появились в конце XIII в. См: Западноевропейское декоративное искусство IX–XVI вв. из собраний музеев Лувра и Клюни. М., 1981. С. 43.
О значении Слова, символики сцепления его графики и священного изображения см.: Тарасов О. Ю. Очерки иконного дела в императорской России. М., 1995. С. 336.
См.: Былинин В. К, Грихин В. А. Симеон Полоцкий и Симон Ушаков: К проблеме эстетики русского барокко // Барокко в славянских культурах. М., 1982. С. 216 (Симеон Полоцкий – православный церковный писатель – был учителем и воспитателем Царевича Феодора Алексеевича)
См.: Былинин В. К., Грихин В. А. Симеон Полоцкий и Симон Ушаков… С. 215–217.
См.: Соболев Н. Н. Резные изображения в Московских церквях… С. 108.
Там же. С. 108–109 (цит.: Откр. 5, 1).
См.: Яворская С.Л. «Шумаевский крест»: Уточнение датировки // Проблемы изучения, сохранения и использования наследия христианской деревянной скульптуры. Пермь, 2007. На то, что в архитектурных образах Иерусалима явственно выступают черты московской архитектуры, обратил внимание еще Н. Н. Соболев, однако он считал, что это образы архитектуры русского барокко XVIII в. См.: Соболев Н. Н. Указ. соч.
См.: Кудрявцев М. П., Мокеев Г. Я. Каменная летопись старой Москвы. М., 1985. С. 51–90.
Как отмечает в своей книге «Икона и иконичность» В. В. Лепахин, Святая Русь – это образ Божий Руси, это идеальная светлая Божественная икона Руси, это та часть ее, которая на Страшном Суде удостоится Царства Небесного. Святая Русь – это душа Руси, это идеал, к которому призван стремиться народ, вся страна. Построить Царство Божье на земле невозможно, и такой заповеди у христианина нет, но можно придать земле иконосный характер, т.е. посвятить ее Небесному Иерусалиму, тем самым освящая свое пребывание на земле, подготавливая себя к переходу в вечность. Святая Русь – это вместе с тем и икона Святой Земли – Палестины. Она ничего не отнимает у Святой Земли, как образ ничего не может отнять у Первообраза. Святая Земля – первообраз, Святая Русь – образ… См. также: Лепахин В. Новый Иерусалим и Третий Рим: (Топографическая иконичность. Иконотопос Москвы. Иконическое зодчество Патриарха Никона) // К проблеме образования Московского государства: Мат-лы междисциплинарного семинара 29.01.1999. Сомбатхей, 1999; Попов Д. Ф. Первообраз: в 4 кн. М., 1999.
См.: Лебедев Л., прот. Москва патриаршая. М., 1995; Шмидт В. В. Воззрения и труды Патриарха Московского и всея Руси Никона: (Святая Русь: от третьего Рима к Новому Иерусалиму) // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7. Философия. 2001. № 4; Успенский Б.А. Царь и Патриарх: харизма власти в России (Византийская модель и ее русское переосмысление). М., 1998; Панченко А. М. Русская культура в канун петровских реформ // Из истории русской культуры. Т. III: XVII – начало XVIII века. М., 2000. С. 13–22; Флоровский Г. Противоречия XVII века // Там же. С. 311; Севастьянова С. К. Грамота патриарха Никона о Крестном монастыре // Ставрографический сборник. Кн. III. М. 2005; Крест как личная святыня: Сб. статей. М., 2005. С. 375; Лотман Ю. М. Очерки по истории русской культуры XVIII – начала XIX века // Из истории русской культуры. Т. IV (XVIII – начало XIX века). М., 1996. С. 50–51.
Собрание Государственных Грамот и договоров, хранящихся в Государственной Коллегии иностранных дел (далее: СГГиД). М., 1819. Ч. II. С. 97; см. также: Идея «Москва – третий Рим» в цикле сочинений первой половины XVI в. // ТОДРЛ. Л., 1983. Т. 37; Идея Рима в Москве: XV–XVI вв.: Источники по истории русской общественной мысли. Рим, 1993; Щукин В. Г. Христианский Восток и топика русской культуры // Вопросы философии. 1995. № 4.
Иерусалим в русской культуре. М., 1994; Святая Земля в русском искусстве: Каталог. М., 2001.
Обе упомянутые церкви – ярусные, восьмигранные, башнеобразные. Восемь – символическое число, означающее полноту вечности, грядущий торжествующий день вечной славы – Воскресения.
Иоаннесян О. М. Храмы-ротонды в Древней Руси // Иерусалим в русской культуре. М., 1994. О раннехристианской традиции строительства октагональных храмов см.: Беляев Л. А. Христианские древности. СПб., 2001. С. 69.
Костомаров Н. И. Домашняя жизнь и нравы великорусского народа. М., 1993. С. 34; Кудрявцев М. П. Москва – Третий Рим. М., 1989; Кудрявцев М., Кудрявцева Т. Русский православный храм: Символический язык архитектурных форм // Къ свету: Символика русского храмоздательства. 1993. № 17; Кудрявцев М. П., Мокеев Т. Я. Символ Святой Руси // Москва – 850 лет. М., 1996. Т. 1.
См.: Успенский Б. А. Царь и Патриарх: харизма власти в России (Византийская модель и ее русское переосмысление) М., 1998 (далее: Царь и Патриарх)
См.: Баталов А. Л. Гроб Господень в замысле «Святая Святых» Бориса Годунова // Иерусалим в русской культуре: Сборник статей / сост. А. Баталов и А. Лидов. М., 1994. С. 154–158; Масса И. Краткие известия о Московии в начале XVII в. М., 1937. С. 63.
Такие модели известны в Руси с XIII в. Модель храма Воскресения в Иерусалиме была привезена из Царьграда Антонием Новгородским в начале XIII в. (см.: Дмитриев Л. А. Житийные повести русского Севера как памятники литературы XIII–XVII вв. Л., 1973. С. 15). Следует сказать, что в само´ м существовании модели сакрального места ничего уникального нет и не было. Достаточно вспомнить многочисленные древние глиняные модели святилищ разных народов мира. Деревянные модели христианских святынь Палестины были широко распространенным «паломническим сувениром» и подарком из Святой Земли, что наложило в гораздо более поздние времена отпечаток и на русскую традицию: одним из самых распространенных сувениров, вывозимых паломниками из Сергиева Посада, были деревянные макеты Троице-Сергиева монастыря. Однако в данном случае речь идет о сборной строительной модели храма. Подобные появились в Иерусалиме благодаря деятельности францисканского ордена, и особенно фра Бернардино Амико, в конце XVI века. Его архитектурные чертежи также использовались при строительстве Воскресенского собора Нового Иерусалима. Michele Piccirillo The role of the Franciscans in the translation of the Sacred Spaces from the Holy Land to Europe // Новые Иерусалимы: Иеротопия и иконография сакральных пространств. М., 2009. Bernardino Amico. Trattoto delle Piante e imagini de sacri edifizi di Terra Santa. Florence, 1620.
См., например: Арсений Суханов. Проскинитарий: Хождение строителя старца Арсения Суханова в Иерусалим и прочие святые места для описания святых мест и греческих церковных чинов. Казань, 1870; Проскинитарий / под ред. Н. И. Ивановского. СПб., 1889 (это издание Православного Палестинского общества снабжено чертежами Бернардино Амико 1596 г.).
См.: Беляев Л. А. Христианские древности: Введение в сравнительное изучение. СПб., 2001; Маккавейский Николай. Археология страданий Господа Иисуса Христа. Киев, 2003. С. 260–278. (Сегодня на месте Нового Иерусалима царя Константина Великого стоит храм Гроба Господня.)
Необходимо отметить, что название, оставшееся в документах и свидетельствах об этом храме, должно восприниматься нами аутентично. Строительство, предпринятое Борисом Годуновым, было соотнесено в замысле с архитектурным прототипом – храмом Гроба Господня. Но в контексте Новозаветного «Святая Святых» его идейным прототипом был «Новый Иерусалим» Константина Великого. См.: Яворская С.Л. Значение креста в иеротопическом замысле Нового Иерусалима: От Константина Великого до царя Алексея Михайловича // Новые Иерусалимы: Иеротопия и иконография сакральных пространств (далее: Новые Иерусалимы...). М., 2009; Она же. Генезис идеи Нового Иерусалима в России: Тезисы доклада в ИРИ РАН. Центр по изучению отечественной культуры. 04.2005 г.); Она же. Новый Иерусалим царя Алексея Михайловича и патриарха Никона и образ Животворящего Креста Господня: Доклад в ИРИ РАН. Центр по изучению религии. 05.2005 г.
См.: Костомаров Н. И. Домашняя жизнь и нравы великорусского народа. М., 1993. С. 35; Емченко Е. Б. «Царствующий град» в древнерусских текстах XV–XVI вв. (Тезисы доклада. ИРИ РАН. Национальный Совет Исследований Италии, Римский Университет «Ла Сапьенца». XXIII Международный семинар «Город и Вселенная. Центр и периферия. От Рима к Третьему Риму». Москва 30–31 октября 2003). См. также: Синицына Н. В. Третий Рим: Истоки и эволюция русской средневековой концепции. М., 1998. О сакральном характере титула «царь» в отличие, например, от «император» см.: Успенский Б. А. Царь и Патриарх.
Прощальная грамота Патриарха Иова 1607 года // Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской империи Археографической экспедицией Академии наук. Т. II. СПб., 1836. № 67. С. 154
См.: Баталов А. Л. Гроб Господень в замысле «Святая Святых» Бориса Годунова // Иерусалим в русской культуре. С. 154–171.
См.: Кукина Е. «Застывший театр» Гвидо Маццони // Юный художник. 1991. № 12.
Брунеллески был также скульптором и сценографом. Он известен как автор проектов купола Санта Мария дель Фьоре во Флоренции, Воспитательного дома и других. См.: Данилова И. Е. Брунеллески и Флоренция. М., 1991. С. 172.
См.: Баталов А. Л. Гроб Господень в сакральном пространстве русского храма // Восточнохристианские реликвии / ред.-сост. А. М. Лидов. М., 2003. Об особом чине богослужения в Воскресенском соборе см.: Устав монастыря Нового Иерусалима
См.: Баталов А. Л. Указ. соч.
Константинополь, став средоточием святынь, хранителем реликвий Палестины и новым центром христианства, приобретает символическое значение Нового Иерусалима, устрояемого во образ Небесного Града. См.: Якеменко Б. Г. Эсхатологическая идея Града Небесного, Нового Иерусалима и ее отражение в общественной мысли Руси // Старообрядчество: история, культура, современность. 1995. Вып. 4.
См.: Успенский Б. А. Царь и патриарх…; Богданов А. П. Москва – центр мира: По кратким летописцам конца XVII в. (Доклад на XXIII международном семинаре «Город и Вселенная. Центр и периферия. От Рима к Третьему Риму». Москва, 30–31 октября 2003 г. Институт Российской Истории РАН; Национальный Совет Исследований Италии, Римский Университет «Ла Сапьенца»); Данилова О. Е. Концепция Москва – осуществленный Иерусалим в программе монументальной живописи Успенского собора Московского Кремля // Искусство христианского мира. Вып. 3. М., 1999.
См.: Лукин П. В. Теория «Москва – Третий Рим» в сочинениях старообрядческих писателей XVII века (Тезисы доклада на XXIII международном семинаре «Город и Вселенная. Центр и периферия. От Рима к Третьему Риму». Москва, 30–31 октября 2003 г.); Патриарх Никон и его время // Труды ГИМ. Вып. 139. М., 2004. С. 5–6.
Каменный Храм Воскресения – копия храма Гроба Господня, который строился по описаниям Арсения Суханова, архитектурным чертежам Бернардино Амико и строительной модели. Старец Арсений не только описывал, но и весьма точно обмерял длину, ширину, высоту помещений храма, высоту и толщину колонн, считал количество окон, отмечал, были ли эти окна заложены или растесаны. Все это свидетельствует о его специфической миссии. Также см.: Патриарх Никон. Труды / научн. исследование, подг. документов к изд., сост. и общ. ред. В. В. Шмидта. М., 2004. С. 627, 646, 710, 725 и сл. Сравнение Проскинитария А. Суханова с иными проскинитариями дает основание говорить, что Суханов написал свой по аналогии с уже существовавшими [они были, как правило, богато иллюстрированы, например, «Проскинитарий по Иерусалиму и прочим святым местам безымянного, между 1608–1634 г.» (СПб., 1910); подлинник находится в Мюнхенской библиотеке], а также и то, что Арсением скорее всего был привезен список одного из них.
Цит. по: Шмидт В. В. Елеонская часовня // Патриарх Никон. Труды. С. 721. Святейший Патриарх Никон в возражении на 13-й вопрос и ответ говорит: «Глаголеши, совопросниче, яко Никон строит ныне по се время один монастырь и назвал его новым Иерусалимом, доведет ли ся, чтоб так Святаго Града имя было перенесено и иному дано. Возражение. Не позорю аз староноваго Иерусалима, еже называю Воскресенской монастырь Новаго (л. 101) Иерусалима, понеже писано есть во пророцех: Из Сиона изыдет закон и слово Господне из Иерусалима. Того закона есмь любитель и слова Господня хранитель, не стыжуся и сам иерусалимлянином нарицатися и со всем воследующим нам»; см. также: Зеленская Г. М. Святыни Нового Иерусалима. М., 2002; Авдеев А. Г. Ставрографические заметки // Ставрографический сборник. Кн. третья. М., 2005. С. 297.
В грамоте Патриарху от 20 октября 1657 г. (т.е. через два дня после закладки каменного Воскресенского собора и установки каменного Елеонского креста) Царь называет Воскресенский монастырь Новым Иерусалимом. См.: Патриарх Никон: Стяжание Святой Руси – созидание государства Российского / сост. и общ. ред. В. В. Шмидта, В. А. Юрчёнкова: в 3 ч. Ч. 1: Дорошенко С. М. Патриарх Никон: Летопись жизни и деятельности на фоне событий церковной и гражданской истории и в окружении разного рода лиц к нему касательных / под общ. ред. В. В. Шмидта. М., 2009. С. 629–630. «Позже в письмах Царю Патриарх Никон называл Воскресенский монастырь «государевым богомольем» (например, 14 декабря 1665 г.), чем подчеркивалась роль Царя в замысле Нового Иерусалима».
Цит. по: Зеленская Г. М. Святыни Нового Иерусалима… С. 103.
Бельтинг Х. Образ и культ: История образа до эпохи искусства. М., 2002. С. 78.
О значении Животворящего Креста Христова, см. «Грамота патриарха Никона о Крестном монастыре» в ч. III наст. сб. О его значении в самоидентификации Византийской империи и Византийских императоров см.: Истмонд Э. Византийское самосознание и реликвии Честного Креста в XIII веке // Восточнохристианские реликвии / ред.-сост. А. М. Лидов. М., 2003; Семоглу А. Честной Крест и Глава Иоанна Крестителя: Темы обретения и почитания реликвий в византийском и поствизантийском искусстве // Там же. На соответствие подобия образу указывала и надпись при входе в Голгофский придел (так же, как и другие надписи) Воскресенского собора (см.: Описание Воскресенского собора Ново-Иерусалимского монастыря. М., 2001. С. 73).
Можно предположить, что в переосмыслении идейного замысла Воскресенского монастыря зиждется источник конфликта Патриарха и Царя, видевшего себя наследником деяний Константина Великого – создателем Российско-Ромейского православного царства. «В деле Никона, – писал Г. Флоровский, – мы видим наступление “Империи”. И Никон был прав, когда в защитительном “Разорении…” обвинял Царя Алексея и его правительство в покушении на церковную свободу и независимость … [Никон] утверждал, что “священство” выше “царства”… В этом вопросе против Никона были и ревнители русской старины, “старообрядцы”. И для них “Царствие” осуществлялось скорее в Царстве, чем в Церкви…» (Флоровский Г., прот. Противоречия XVII века // Из истории русской культуры. Т. III: XVII – начало XVIII века. М., 2000. С. 311). Строительство «Нового Иерусалима» в соотнесении с другими царскими замыслами, по нашему мнению, как раз свидетельствовало о наступавшем торжестве цезарополизма. См.: Димитров Б. Христианство на Болгарской земле // Христианское искусство Болгарии: Каталог Выставки 1 октября – 8 декабря 2003 г. Москва. С. 5). В письме Паисия Лигарида патриарху Никону от 12 июля 1662 г., говорится о том, что конфликт возник по причине принятия патриархом Никоном титула «великого государя» и гордыни Патриарха. См.: Дорошенко С. М. Патриарх Никон: Летопись жизни и деятельности… (ч. 1 наст. сб. С. 808); Гиббенет Н. Историческое изследование дела патриарха Никона. СПб., 1882–1884. Ч. 1, С. 101–105, 228–242; Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. М., 1996. Кн. 7. С. 192–193.
Леонид (Кавелин), архим. Краткое историческое сказание о начале и устроении Воскресенского, Новый Иерусалим именуемого, монастыря: Описание его соборного храма во имя Воскресения Христова. М., 1872; Он же. Историческое описание Ставропигиальнаго Воскресенскаго, Новый Иерусалим именуемаго, монастыря в XVII столетии. М., 1876; Лебедев Л., прот. Патриарх Никон: Очерк жизни и деятельности // Богословские труды. 1982. № 23–24; Он же. Москва патриаршая. М., 1995; «Русские Палестины» – Святые места Нового Иерусалима / гл. архитектор проекта В.Г. Выборный. М., 2000 (см. в наст. сб. С. 1060); Зеленская Г. М. Образы Святой Земли в России: Новый Иерусалим и священная топография на русской земле // Святая Земля в русском искусстве: Каталог. М., 2001; Она же. Святыни Нового Иерусалима. М., 2002; Она же. Новый Иерусалим: Путеводитель. М., 2003; Шмидт В. В. Святого Живоносного Воскресения Христова монастырь Нового Иерусалима // Патриарх Никон. Труды; Он же. Святейший Патриарх Никон и его Новый Иерусалим // Богословские труды. 2002. № 37.
Яворская С.Л. «Шумаевский крест» и замысел Голгофы // Иеротопия…
См.: Соболев Н. Н. Резные изображения в русских церквях… С. 108.
См.: Яворская С. Л «Шумаевский крест» и кальвария… // Иеротопия...
См.: Яворская С.Л. «Шумаевский крест» и замысел Голгофы…
См.: Вагнер Г. К. От символа к реальности. М., 1980. С. 22; Белай А. А., Лютый А. А. «Великая картографическая держава» // Московский журнал. 2000. № 2.
Такие выводы заставляют сделать особенности пластического решения новоиерусалимского Распятия, повторенные в Шумаевском Распятии – см.: Яворская С.Л. «Шумаевский крест» и замысел Голгофы …
См.: Соболев Н. Н. Русская народная резьба по дереву. С. 387, 389. Автор говорит о том, что Распятие создал старец Ипполит. О Голгофе-кальварии см.: Яворская С.Л. «Шумаевский крест» и кальвария… // Иеротопия...
См.: Христианские реликвии в Московском Кремле / ред.-сост. А. М. Лидов. М., 2000; Журавлева И. А. Надписи и другие особенности оформления серебряных реликвариев XVI–XVII вв. из Благовещенского собора Московского Кремля // Россия и восточнохристианский мир: Древнерусская скульптура: Сб. статей / ред.-сост. А.В. Рындина. Вып. IV. М., 2003; Журавлева И.А. Об одной группе серебряных ковчегов-мощевиков конца XVI – первой трети XVII вв. // Древнерусское искусство. СПб., 1997.
4 О значении реликвии истинного обретенного Креста в устроении Константинополя во образ Нового Иерусалима и сакрализации византийской столицы см: Бакалова Елка. Реликвии у истоков культа святых // Восточнохристианские реликвии / ред.-сост. А. М. Лидов. М., 2003; Eastmond A. Byzantine identityand relics of the true cross in the therteenth century // Там же; Semoglou A. Les reliques de la Vraie Croix et du Chef de saint Jean Baptiste: Invention et Vénération dans l’art byzantin et post-byzantin // Там же. О роли креста Царя Константина и образа Животворящего Креста Христова в осознании Кремля свершившимся Иерусалимом см.: Яворская С.Л. Значение креста в иеротопическом замысле Нового Иерусалима: От Константина Великого до царя Алексея Михайловича
См.: Соколова И. М. «Новый Иерусалим» в Кремле: незавершенный замысел Царя Федора Алексеевича // Художественные памятники Московского Кремля: Мат-лы и исследования. Вып. XVI. М., 2003. С. 53–63.
См.: Забелин И. Е. Домашний быт русских царей в XVI–XVII ст. Ч. 1. М., 1895. С. 201. Голгофу в теремных церквах строил Царь Федор Алексеевич в 1680–1681 гг.
См.: Баталов А. Л. Гроб Господень в замысле «Святая Святых» Бориса Годунова …
См.: Соболев Н. Н. Русская народная резьба по дереву. С. 395.
См.: Соколова И. М. Новый Иерусалим в Кремле… // Художественные памятники Московского Кремля: Мат-лы и исследования. Вып. XVI. Забелин И. Е. Домашний быт русских царей … С. 201; Викторов А. Описание Записных книг и бумаг старинных дворцовых Приказов: 1613–1725 гг. М., 1883. С. 600–601
Об особенностях Литургии у Голгофского Креста в Воскресенском соборе см.: Устав монастыря Нового Иерусалима // Патриарх Никон. Труды.
Все кресты Воскресенского монастыря так же, как и Кийский крест, были семиконечными – см.: Зеленская Г. М. Святыни Нового Иерусалима. О значении семиконечного креста как образа обретенного Животворящего Креста Христова см.: Яворская С.Л. Значение креста в иеротопическом замысле Нового Иерусалима… // Новые Иерусалимы... С. 783; Она же. Образ Животворящего Креста царя Алексея Михайловича и Патриарха Никона (К проблеме иконографии большемерных резных Распятий на семиконечном кресте) // Ставрографический сборник: Сб. статей / под ред. С. В. Гнутовой. Кн. IV.
Guran P. Bizantine New Jerusalem at the crossing of sacred space and political theology // Новые Иерусалимы: Перенесение сакральных пространств в христианской культуре: Мат-лы международного симпозиума. М., 2006. C. 17.
В 1655 г. в Москву был привезен Константинов Крест, созданный по образу виденного царем на небе. Он стал победным знаменем в руках русского Царя – Помазанника Божия в Литовском походе, а русский царь явился его хранителем. См.: Фонкич Б. Л. Чудотворные иконы и священные реликвии христианского Востока в Москве в середине XVII в. // Очерки феодальной России. М., 1993; Севастьянова С. К. Грамота Патриарха Никона о Крестном монастыре… // Крест как личная святыня. С. 336–403; Щедрина К. А. Царей держава: Значение реликвий и символов святого креста и Страстей Христовых в церковном освящении государственной власти. М., 2000; Яворская С.Л. Значение креста в иеротопическом замысле Нового Иерусалима... // Новые Иерусалимы
См.: Флоровский Г., прот. Противоречия XVII века // Из истории русской культуры. Т. III: XVII – начало XVIII в. М., 2000. С. 313.
См. в наст. сб.: Комаровская Е. П., Мурзин-Гундоров В. В., Шмидт В. В. Царь Алексей Михайлович и Патриарх Никон: символика светской и духовной власти Руси. С. 1073.
Никон, Патриарх. Слово о Животворящем Кресте // Краткое известие о Крестном Онежском Архангельской Епархии монастыре, онаго же монастыря архимандритом Лаврентием изданное. М., 1805. С. 14–22; также см.: Патриарх Никон. Труды. С. 85–92.
Guran P. Op. cit.
См. версию статьи: Художественные памятники Московского Кремля: Материалы и исследования / Государственный ист.-культур. музей-заповедник «Московский Кремль». М., 2003. С. 53–63.
Муравьев А. Н. Путешествие по святым местам русским: в 2 ч. М., 1846; 1990 (репринт). Ч. 1. С. 220.
См.: Шушерин И. Известие о рождении и воспитании и о житии Святейшего Никона, Патриарха Московского и всея России, написанное клириком его Иоанном Шушериным. М., 1997 (перевод на рус. яз. с издания 1908 г.). С. 163.
Бартенев С. П. Большой Кремлевский Дворец: Дворцовые церкви и Придворные Соборы: Указатель к их обозрению. М., 1916. С. 97.
См.: Вьюева Н., Павлова А. Большой Кремлевский дворец. М., 1995.
Сведения об этом можно почерпнуть, анализируя опубликованные исторические документы и исследования, посвященные царствованию Федора Алексеевича. Частично нами использован обширный архивный материал, предоставленный Н. А. Вьюевой.
См.: Замысловский Е. Е. Царствование Федора Алексеевича. СПб., 1871. С. 076.
См.: Аболенский И. Московское государство при Царе Алексее Михайловиче и Патриархе Никоне. Т. 1–4. СПб., 1836; Берх В. Царствование царя Алексея Михайловича. СПб., 1831; Платонов С. Ф. Москва и Запад в XVI–XVII веках. М., 1925; Карпов Г. Киевская митрополия и Московское правительство во время соединения Малороссии с Великой Россией // Православное обозрение. 1871. Авг.; Абецедарский Л. С. Белоруссия и Россия: Очерки русско-белорусских связей второй половины XVI–XVII в. Минск, 1978; Заборовский Л. В. Католики, православные, униаты: Проблемы религии в русско-польско-украинских отношениях конца 40-х – 80-х гг. XVII в.: Документы. Исследования. Ч. 1. М., 1988.
См.: Богданов А. П. Царь Федор Алексеевич // Филевские чтения. Вып. VI. Мат-лы третьей научной конференции по проблемам русской культуры второй половины XVII – начала XVIII в. 8–11 июля 1993 г. М., 1994. С. 37 (далее: Филевские чтения).
Соборное деяние об отставке отеческих случаев и местничества, учиненное указом Государя Царя и Великаго Князя, Федора Алексеевича, Самодержца Всероссийскаго, при собрании всего духовенства и гражданскаго чина, в лето 7190, а от Рождества Христова 1681 года, ноября в 24 день // Древняя Российская Вивлиофика. М., 1791. № XV. С. 422– 455.
См.: Патриарх Никон. Труды / научн. исследование, подготовка документов к изд., сост. и общ. ред. В. В. Шмидта. М., 2004. С. 1205–1212.
См.: Богданов А. П. Царь Федор Алексеевич // Филевские чтения. Вып. VI. С. 6.
См.: Фонкич Б. Л. Греко-славянская школа на московском печатном дворе в 80-х годах XVII в. (Типографская школа) // Очерки феодальной России. М., 1999. С. 149–246.
См.: Богданов А. П. Царь Федор Алексеевич // Филевские чтения. Вып. VI. С. 37.
См. в наст. сб.: Шмидт В. В. Никон, Патриарх Святой Руси. С. 493; Меньщиков А. А., Рыбаков Ю. М., Шмидт В. В. Внешняя политика Русского Царства в XVII в. С. 1144.
Цит по: Замысловский Е. Е. Царствование Федора Алексеевича. С. 09.
Сильвестра Медведева Созерцание краткое в лето 7190, 91 и 92, в них же что содеяся во гражданстве // ЧОИДР. 1894. Кн. IV. Отд. 2. С. 17.
Забелин И. Е. Домашний быт русских царей в XVI и XVII ст. Ч. 1. М., 1895. С. 201.
Житие преосвященнейшего Иллариона, митрополита Суздальского, бывшего Флорищевой пустыни первого строителя: Памятник начала XVIII века. Казань, 1868. С. 102.
Шушерин И. Указ. соч. С. 158–160; ср. с текстом «Житие Никона, Патриарха Московского и всея Руси» в ч. III наст. сб.
См.: Леонид, архим. Историческое описание ставропигиальнаго Воскресенскаго, Новый Иерусалим именуемаго, монастыря. М., 1876. С. 32–40, 144; Выходы государей царей и великих князей Михаила Феодоровича, Алексея Михайловича, Феодора Алексеевича, всея Руси самодержцев (с 1632 по 1682 г.) / сост. П. Строев. М., 1844. С. 664–690 (далее: Выходы государей царей и великих князей…); также см. в наст. сб.: Дорошенко С. М., Юрчёнков В. А. Патриарх Никон: духовный свет сквозь века (духовная власть как духовная опора на все времена). С. 518.
Шушерин И. Указ. соч. С. 161.
РГАДА. Ф. 396. Оп. 1. Ч. 12. Д. 17273. Л. 1–4.
Там же. Оп. 2. Кн. 960. Л. 566, 566 об., 582 об., 583.
Там же. Л. 608 об., 609.
Там же. Л. 630 об., 637 об., 638.
Забелин И. Е. Указ. соч. Ч. I. С. 64, 65. Резное кипарисное Распятие, упоминаемое здесь, действительно сохранилось. Оно находится в молельне при Распятской церкви Теремного дворца. По-видимому, мастер Оружейной палаты Карп Золотарев не только расписывал его, но и выступил как знаменщик; резчик же, воплотивший его замысел, старец Ипполит довольно часто упоминается в документах в связи с работами в Теремном дворце. Второй упомянутый в документах резной кипарисный крест по-прежнему находится за престолом Евдокиинской церкви (ныне церкви Воскресения Словущего).
См.: Вьюева Н., Павлова А. Большой Кремлевский дворец.
Шушерин И. Указ. соч. С. 161–162.
См. там же. С. 162; Леонид (Кавелин), архим. Указ. соч. С. 37 и прим. 21.
См.: Выходы государей… С. 698.
См.: Забелин И. Е. Указ. соч. Ч. 2. М., 1915. С. 596. № 26; Выходы государей царей и великих князей… С. 701; РГАДА. Ф. 396. Оп. 2. Кн. 960. Л. 535, 551.
См.: Вьюева Н., Павлова А. Большой Кремлевский дворец.
См.: Паламарчук П. Сорок сороков: в 4 т. М., 1992–1995.
См.: Вьюева Н. А. Живописец Василий Познанский // Русская художественная культура XVII в.: Материалы и исследования / Государственные музеи Московского Кремля. Вып. 8. М., 1991 С. 97–110 (в Голгофской церкви монастыря Нового Иерусалима была подобная икона Спасителя в хламиде и терновом венце, ныне она в музее «Новый Иерусалим»); Соколова И. М. Русская деревянная скульптура XV–XVIII вв.: Каталог. М., 2003. № 25, 27; Успенский А. И. Словарь царских иконописцев и живописцев XVII в. М., 1910. С. 206.
См.: Машуков В. Д. Резной деревянный запрестольный крест 1681 года – вклад Царя Феодора Алексеевича в Московскую кремлевскую церковь св. преподобномученицы Евдокии // Московские церковные ведомости. 1901. № 16. В настоящее время крест хранится в Музее исторических драгоценностей в Киево-Печерской Лавре.
Шушерин И. Указ. соч. С. 185–186.
Забелин И. Е. Указ. соч. Ч. 1. С. 65.
В связи с этим нельзя не вспомнить еще одного монарха, чья опочивальня во дворце-монастыре имела дверцу, выходящую непосредственно в алтарную часть собора, – Филиппа II и его Эскориал.
Шушерин И. Указ. соч. С. 191–192.
См.: Баталов А. Л. Гроб Господень в замысле «Святая Святых» Бориса Годунова // Иерусалим в русской культуре. М., 1994. C. 154–173.
См.: Лебедев Л., прот. Москва патриаршая. М., 1995. С. 187.
РГАДА. Ф. 396. Оп. 1. Ч. 13. Д. 20814, 20495.
Цит. по: Корсакова В. Феодор Алексеевич // Русский биографический словарь. Т. 24. СПб., 1913. С. 264; также см.: Берх В. А. Царствование царя Феодора Алексеевича и история первого стрелецкого бунта. Ч. 1. СПб., 1834; Ч. 2. СПб., 1835.
См.: Викторов А. Описание записных книг и бумаг старинных дворцовых приказов 1613–1725 г. М., 1883. Вып. 2. С. 595, 596; Соколова И. М. Указ. соч. № 26.
В. Ш.: Ему было суждено восполнить тот образ царского служения, который с осуждением Святейшего Патриарха Никона не исполнил его царственный отец, но на который уповал и о котором возносил молитвы Святейший Никон ради созидания Святой Руси. Сын восполнил отца. Однако, несмотря на преодоление клятвопреступления царства возвращением Святейшего Патриарха Никона, все же завершилось «симфоническое» взаимодействие Царства и Церкви, престала вожделенно стяжаемая Святая Русь, оставив воплощенную ради будущих судеб о себе память в образе «малого подобия» Иерусалима в Кремле – ради Царства и патриаршего монастыря Нового Иерусалима, ради мира.
1 Из литературы по этому вопросу укажем работу «первооткрывателя», который впервые распознал имена, описал рукописи, ввел в научный обиход самый термин «Новоиерусалимская школа песнотворчества». Позднеев А.В. Песни-акростихи Германа // ТОДРЛ. Т. 14. М.; Л., 1958; Никоновская школа песенной поэзии // Там же. Т. 17 М.; Л., 1961; Рукописные песенники XVII–XVIII вв.: Из истории силлабической поэзии. М., 1996. Самая обширная публикация Новоиерусалимских псалмов (подг. текстов и комментарии Е. Е. Васильевой) приведена в издании: Патриарх Никон. Труды. М., 2004. С. 823–873.
См. в ч. III наст. сб.: Шмидт В. В. Материалы и сочинения о Патриархе Никоне и о некоторых при них страстях; Он же. Никоноведение: библиография, историография и историософия // Государство, религия, Церковь в России и за рубежом. 2008. № 3–4 (44–45). С. 96–227; Он же, Васильева О. Ю. Патриарх Никон и его наследие в русской истории, культуре и мысли: Материалы дискуссии // Там же. 2009. № 2 (спецвыпуск). С. 339–464.
См.: Макарий (Булгаков). История Русской Церкви. Кн. 7: Патриаршество в России. М.,1998; Зызыкин М. В. Патриарх Никон: Его государственные и канонические идеи: в 3 ч. Варшава, 193
Процессы упорядочения, составления идеального литургического свода совершались в ином темпе, куда медленнее: разброс вариантов больше, процесс собирания и переписки сложнее. До самого последнего времени историки и исследователи древнерусского церковно-певческого искусства обходили эту проблему, не замечая, что основной массив певческих рукописей, который служит фундаментом для исследователей и практиков (прежде всего старообрядцев), и есть свод, созданный в эпоху Патриарха Никона людьми, принадлежавшими к кругу монастыря Нового Иерусалима. Трудами А. Н. Кручининой эта проблема начинает обретать реальность.
Классическая работа такого рода – небольшая монография Н. А. Герасимовой-Персидской, многосторонне и обстоятельно раскрывающая параллели европейского барокко и эстетических исканий русской музыки – см.: Герасимова-Персидская Н. А. Русская музыка XVII в. – встреча двух эпох. М., 1994.
В ркп. РГБ № 9894, одной из пяти наиболее полно представляющих корпус новоиерусалимских псалмов в тщательно разработанном порядке, в соответствии с темой. По тому, как сформулированы эти пометы (киноварные надписания, помещенные между нотной системой и словесным текстом), можно принять их за обозначение функции текста. Функции условной, потому что с точки зрения системы церковно-певческих текстов все новые псалмы песенной формы находились вне богослужебного круга, не имели определенной и однозначной предназначенности, и функция их могла быть только дополнительной.
Она является осьмогласником: протяженный литературный текст, в котором полностью излагаются события праздника, разделен на восемь частей, каждая из которых распета одним из гласов. Количество списков стихиры необозримо, каждая певческая книга «Стихирарь» или «Праздники», если она не дефектна, содержит данное песнопение. Роспета в разных стилях: знаменный, путный, строчной многоголосный, партесное пение, партесный концерт. См.: Захарьина Н. Б. Стихира Успению Богородицы «Богоначальным мановением» // Рукописные памятники: Вып. 5. СПб., 1999. С. 31–54.
Новоиерусалимские псалмы не имели литургического предназначения. Это была духовная лирика, занимавшая в монастырском быту место, сопоставимое с келейным рукописанием, чтением псалмов.
См.: Рамазанова Н. В. Московское царство в церковно-певческом искусстве XVI–XVII вв. СПб., 2004.
Завершения стихов в звучащей песенной поэзии (напомним, что новоиерусалимские псалмы создавались как музыкально-поэтическое единство) регулируются не только акцентами. Они имеют возможность совмещать несколько систем координат: долготу/краткость, ударность/безударность, сегментирование частей стиха благодаря изменению моды или выведению устойчивой модели и пр. В данном случае партитура дает столь широкий спектр ритмических вариантов кадансов, что объяснить какую-либо пару стихов из 57 (в 19 строфах псалма 114 стихов) особенностями ее звучания нереально.
Для исполнения этого псалма в рамках фестиваля «Московское действо» (в 2001 г., в Патриаршем дворце Кремля) ансамбль «Псалмопевцы» нашел свое решение: для окончания псалма была заимствована заключительная Аллилуйя из Германовой партитуры Ангельскую днесь вси радость.
Характерная примета многих новоиерусалимских псалмов, не только «подписанных» Германом, – обиходный звукоряд, в нотолинейном начертании включающий си бемоль. На этом основании высказывалось предположение о том, что звукоряд этот обусловлен инструментом, лютней, с помощью которой якобы творил архим. Герман. Предположение основано на недоразумении: лютня, упоминаемая в завещании архим. Германа, – не музыкальный инструмент, а книга Лазаря Барановича «Лютня Апполонова».
Для песенных псалмовых форм, будь то кутеинское наследство, польские кантычки и безусловное большинство новоиерусалимских псалмов, одновременное произнесение слов и единый слогоритм – правило. Отступления возникают в имитационных разделах мелостроф, изредка в наиболее динамичных моментах распевов; встречается также особый прием – несовпадение в момент вступления, в начале строфы или фразы.
Ныне город Истра Московской обл.; см. здесь «Путеводитель в г. Всокресенск и по Новому Иерусалиму». С. 182.
Лермонтов М. Ю. Собр. соч.: в 4 т. М., 1964. Т. 1. С. 238.
Бриллиантов И. И. Ферапонтов Белозерский монастырь – место заточения Патриарха Никона. СПб., 1899. С. 123–124 (репринт: СПб., 2001).
См.: Зызыкин М. В. Патриарх Никон: Его государственные и канонические идеи: в 3 ч. Варшава, 1931–1938 (репринт: М., 1995).
См.: Серафим (Соболев), архиеп. Русская идеология. СПб., 1994. С. 147–177.
Серафим (Соболев), архиеп. Указ. соч. С. 155.
Евсевий Памфил. Жизнь Константина. М., 1998. С. 119. Название Новый Иерусалим было усвоено всему городу в IV в. После восстания иудеев Иерусалим был полностью разрушен и отстроен заново, назывался же город – Элиа Капитолина. Император Константин вернул прежнее имя, но, в отличие от «древнего и растленного», стал называть его Новым Иерусалимом.
Часто говорят, что Патриарх Никон остался непонятым; возможно, что так, но скорее всего хулители его, осуждая Святителя за гордыню и как будто прячась за этим обвинением, не желали видеть в Руси Третьего Рима, а одна мысль, что теперь еще и образ Нового Иерусалима перенесен сюда, под Москву, наверное, повергала их в отчаяние; ведь все «дело Патриарха Никона», как оно видится из исторической перспективы, было делом антирусским, антинародным. И колебание всего Царства Московского (внутринародный раскол), и последствия его были отнюдь не меньшими, чем, скажем, в пору пугачевского бунта.
Шушерин И. Известие о рождении и воспитании и о житии Святейшего Никона, Патриарха Московского и всея России. М., 1997. С. 52–5
Муравьев А. Н. Путешествие по святым местам русским: в 2 ч. СПб., 1846. Ч. 1. С. 96–97. Далее цитируется настоящее издание, страницы указываются в тексте статьи
Шушерин И. Известие о рождении и воспитании и о житии Святейшего Никона… С. 72–73.
Осквернение обители началось в 1919 г., когда она была закрыта и превращена в музей; в 30-е гг. были уничтожены памятные престолы, расположенные на хорах, а 10 декабря 1941 г. монастырь был взорван. Смутным предчувствием некогда прозвучали лермонтовские строки: «Быть может, через много лет / Сия священная обитель / Оставит только мрачный след, / И любопытный посетитель / В развалинах людей искать / Напрасно станет, чтоб узнать, / Где образ Божеской могилы / Между златых колонн стоял…». Но до поры не сбылось.
Леонид (Кавелин), архим. Акты Иверского Святоозерского монастыря (1582–1706). [РИБ. Т. 5]. СПб., 1878. С. 10. Заметим: его Высокопреподобие архимандрит Леонид с 1869 по 1877 г. был настоятелем Воскресенского монастыря Нового Иерусалима.
См.: Зеленская Г. М. Святыни Нового Иерусалима. М., 2002. С. 276–277.
См.: Трубачев О. Н Слово о Русской энциклопедии и некоторых библейских энциклопедических статьях // Православный Палестинский сборник. М., 2003. Вып. 100. С. 181.
Как замечательно просто сказал об этом князь П. А. Вяземский в своем стихотворении «Палестина»: «Чудно блещут картины / Ярких красок игрой. Светлый край Палестины! / Упоенный тобой, / Пред рассветом, пустыней / Я несусь на коне / Богомольцем к святыне, / С детства родственной мне» или еще, – в «Одном сокровище»: «И нет страны на всей земле обширной, / Где бы душа так дома зажила, / Где б жизнь текла такой струею мирной, / Где б смерть сама желаннее была».
Из размышлений митрополита Антония (Храповицкого) о Патриархе Никоне – цит. по: Зызыкин М. В. Патриарх Никон. Ч. 3. С. 355
См. также: Шмидт В. В. Палестина Святой Руси (путеводитель с душепопечительным славословием) // Государство, религия, Церковь в России и за рубежом. 2009. № 2 (спецвыпуск): Поруганно-порушенная и восстанавливаемая святыня: Святого Живоносного Воскресения Христова монастырь Нового Иерусалима (наследие Патриарха Никона). С. 177–258; Он же. Святого Живоносного Воскресения Христова монастырь Нового Иерусалима // Патриарх Никон. Труды / научн. исслед., подготовка документов к изд., сост. и общ. ред. В. В. Шмидта. М., 2004. С. 621–790.
Леонид (Кавелин), архим. Историческое описание Ставропигиального Воскресенского, Новый Иерусалим именуемого, монастыря. М., 1876. С. 138, 140.
Там же. С. 121.
Там же. С. 119–124.
Амфилохий (Казанский-Сергиевский), архим. Описание Воскресенской Ново-Иерусалимской библиотеки. М., 1875. С. 204.
Леонид (Кавелин), архим. Историческое описание Ставропигиального Воскресенского, Новый Иерусалим именуемого, монастыря. С. 530, 618.
Леонид (Кавелин), архим. Историческое описание Ставропигиального Воскресенского, Новый Иерусалим именуемого, монастыря. С.530.
Арсений (Суханов), иером. Проскинитарий // Православный Палестинский сборник. Т. VII. Вып. 3. СПб., 1889. С. 166–167.
Основные положения проекта «Русская Палестина» были согласованы Новоиерусалимским монастырем, историко-архитектурным и художественным музеем «Новый Иерусалим», администрацией г. Истры, Министерствами культуры Московской области и Российской Федерации. В 1996 г. проект был представлен на научной конференции РААСН и АХЦ (Арххрам) «Храмостроительство в России – традиции и современность», а также на выставке «Архитектура и Религия – 96» в РВЦ – РОССТРОЙЭКСПО; в 1998 г. – на научных чтениях в музее «Новый Иерусалим»; в октябре 2003 г. – на Международном научно-практическом симпозиуме в Свято-Троицкой Сергиевой лавре «Природные условия строительства и сохранения храмов Православной Руси»; в апреле 2004 г. – на ежегодной сессии РААСН. Повсеместно проект получил исключительно одобрительные отзывы, вместе с тем до настоящего времени границы и регламенты территорий объектов «Русской Палестины», зоны их охраны остаются не утвержденными.
Выполнялся НИИПИ градостроительства, архитектор А. Б. Шмаков; историко-культурное наследие – В. Н. Выборный.
Праведный Иессей спит. Из-под плеча его выходят три ствола с ветвями; из них два малых обвились вокруг него, а третий, великий, растет вверх, и на нем в ветвистых кругах видны еврейские цари от Давида до Христа: первый – Давид с арфой; выше его – Соломон с закрытой книгой, выше Соломона – по порядку прочие цари со скипетрами в руках; а на вершине ветвистого ствола – Рождество Христово, по обе стороны которого, в ветвях, – пророки с пророчествами взирают и указывают на Христа (см.: ЕРМИНИЯ, или Наставление в живописном искусстве, составленное иеромонахом живописцем Дионисием Фурноаграфиотом. М., 1993. С. 90).
В христианской Грузии и Армении традиция причисляла дом Багратидов – Багратиони к племени Царя Давида: Грузинский Царь Давид IV Строитель считался его потомком в 78-м колене. Древнейшая христианская династия Абиссинских Царей-царей – Негусов-негешти, до недавнего времени правившая в Эфиопии, возводила свой род к Царю Соломону и Царице Савской (cм.: Думин С. В. Дворянские роды Российской империи. Т. 3. М., 1996. С. 28; Мурзин-Гундоров В. Евреи в среде русской аристократии, на престолах и у подножия тронов христианской Европы // Антикватория. 2005. № 4 (15). Июль–август. С. 34–37).
Английская Королева Елизавета II из династии Виндзор (Саксен-Кобург-Гота) через кровь Королевского дома Тюдор считается потомком Царя Давида по прямой женской линии. Ее праматерь – одна из дочерей Иосифа Аримофейского (далее – Иосиф А.) Анна, была замужем за принцем Белинием – младшим братом Короля Арвирагуса (также известного под римским именем Карактак, или Карадок), который в свою очередь был женат на дочери Римского Цезаря Клавдия – Генуиссе. Анна и Белиний родили сына Бели, который дал ветвь рода Тюдор. Другая дочь Иосифа А. – Пенардин вышла замуж за короля Лира и дала ветвь, из которой вышла св. равноапостольная Елена – мать св. равноапостольного Императора Константина (см.: ркп. «Harleian Manuscripts» Британской библиотеки. Фол. 3859. Т. 193; ркп. № 20 Jesusu College.).
Св. Константин и его отец Констанций Флор были провозглашены подчиненным им войском Цезарями именно в Британии в г. Йорке (ранее известен как валлийск. Eburacum – город Eborus’усов = Hebrews = Jews, т.е. город евреев [см.: Antony Lias. A guide to Welsh Place-Names. Published by Carreg Gwalch, 1994]). Сын Иосифа А., тоже Иосиф, был женат на дочери Британского Короля (см. по династийным королевским веткам: «The Royal House of Britain an Enduring Dynasty». С. 25). Иосиф А. упоминается во всех чтырех канонических Евангелиях, как тайный ученик Иисуса Христа, человек знатный и достойный; в Палестине входил в состав Синедриона, имел свободное общение с Римскими прокураторами в Иерусалиме, хорошо знал Понтия Пилата, испанца по происхождению, женатого на дочери Цезаря Тиберия от третьей жены Джулии (см. подробнее: Lionel Smithett Lewis, Master of Arts. St. Joseph of Arimathea at Glastonbury. Cambrige: James Clarke and Co., 1955. Р. 56). По иудейским законам он считался ближайшим родственником Иисуса Христа, доводясь дядей Пресвятой Богородице по отцу, и именно ему было выдано распятое тело Иисуса Христа.
Иосиф А. вместе со своей семьей и слугами во время гонений на апостолов и первых христиан отбыл из Палестины в Европу. Он высадился в Марселе, прошел через долину Роны до г. Морлэ (Morlaix) в Бретани и, переплыв море, достиг берегов Британии о. Авалон, в районе Сомерсета, где его принял Король всех британцев Кунобелиний (Cunobelinus, в переводе – Король Белиний) как человека, давно известного Британской (Корнуэльской) еврейской общине из дома Асура, которая вела добычу сырья для изготовления медных денег, поскольку Иосиф А. занимался торговлей этим минералом (подробнее о родословной Иосифа Аримафейского см.: Milner W.H. The Royal House of Britain an Enduring Dynasty. Covenant Pub. Co, 1964. Р. 25).
Рюриковичи – рожденные от Владимира Мономаха и Гиты Гарольдовны, принцессы Английской (дочь Гарольда II, последнего Англосаксонского Короля, погибшего (окт. 1066) в битве при Гастингсе с герцогом нормандским Вильгельмом I Завоевателем) – Московский, Тверской, Суздальский, Ростовский и Стародубский дома, возможно, тоже потомки Иосифа А.
Тяготение русских правителей к дому Давида имеет исторические подтверждения. Иван IV неоднократно сватался к Елизавете I Тюдор, но она предложила ему свою родственницу леди Марию Гастингс [см.: Валишевский К. Иван Грозный. М., 1989 (репринт 1912). С. 293–317]. Сын князя Андрея Боголюбского князь Георгий был первым мужем святой Царицы Грузии – Тамары Великой Багратиони. Дочь Царя Грузии Деметре I (1125–1156), ее имя неизвестно, была женой Великого Князя Киевского Изяслава Мстиславовича. Кахетинская царевна Елена (Гулчар) Багратиони была невестой Царя Федора II Борисовича Годунова. По некоторым данным, невестой Царя Федора III Алексеевича считалась княжна Мария Ильинична Давыдова (из младшей ветви кахетинских Багратионов). В 1911 г. Князь Константин Багратион-Мухранский стал мужем княжны Императорской крови Татьяны Константиновны Романовой, а в 1948 г. глава Дома Романовых Владимир Кириллович женился на княжне Леониде Георгиевне Багратион-Мухранской (см.: Думин С. В. Дворянские роды Российской империи. Т. 3. С.31:36).
На рубеже XIX–XX вв. три внучки английской Королевы Виктории стали женами членов династии Романовых: принцесса Александра Гессен-Дармштадтская – св. Императрица и супруга Николая II; принцесса Виктория Эдинбургская (Саксен-Кобург-Гота) – супруга Кирилла I – Императора в изгнании; св. принцесса Елизавета Гессен-Дармштадтская – супруга Великого Князя Сергея Александровича (см.: Летопись историко-родословного общества в Москве. Вып. 1 (45). М., 1993. С. 9–10; Мэсси Р. Николай и Александра / пер. с англ. М., 1992. С. 32–44).
В ней представлено около 20 королевских династий того времени, имевших русских предков, – практически вся Европа (см.: Бычкова М., Куза Л. Древо рода // Родина. 1991. № 2. С. 84). Несомненный научный интерес представляют созданные в середине – конце XVII в. рукописные источники исторического характера, содержащие родословия, среди которых: Бароний Ц. Хронограф с деяниями церковными и гражданскими (РГБ ОР. Ф. 218. № 754); Краткие летописные сведения о Русском государстве до 1698 г. (РГБ ОР. Ф. 299. № 579); Краткий русский летописец, продолженный до 1690 г. (РГБ ОР. Ф. 310. № 1044); Лествица соборным властем царствующаго града Москвы (РГБ ОР. Ф. Пискар. № 185); Лествица Царя и Великаго Князя Ивана Васильевича от перваго Князя Рюрика (РГБ ОР. Ф. 310. № 813); Летописец великих князей русских (РГБ ОР. Ф. 310. № 762); Летописец русский (РГБ ОР. Ф. 178. № 611); Летописцы старые (РГБ ОР. Ф. Фад. № 34); [Манкиев А. И.] Ядро Российской истории (РГБ ОР. Ф. 218. № 819; ф. 299. № 409); Разрядная книга с 1613 по 1665 год (РГБ ОР. Ф. 310. № 1233); Родословие Российских Великих Князей и Царей от Рюрика до Петра I (РГБ ОР. Ф. 218. № 521); Русский летописец, доведенный до поставления на Патриаршество Никона (БАН. Собр. Ф. О. Плигина. № 39); Синопсис с дополнениями (ГИМ ОР. Ф. Муз. № 740); Спафарий Н. Г. Василиологион: В 2 ч. (РГБ ОР. Ф. 178. № 735); Он же. Христологион (РГБ ОР. Ф. 256. № 465; ф. 354. № 170); Степенная книга с дополнительными статьями в конце (РГБ ОР. Ф. 310. № 804). См.: Пчелов Е. В. Генеалогия древнерусских князей IX – начала XI в. М., 2001
Полное название книги, изданной в 1666 г. в Киеве, – «Меч духовный, еже есть глагол Божий. На помощь Церкви Воюющей, из уст Христовых поданный, или Книга проповеди Слова Божьего юже сооружи Господу поспешествующу и слово утверждающу Лазар Баранович, Епископ Черниговский Новгородский и пр.». Преосвященный Лазарь преподнес свой труд Самодержцу во время пребывания в Москве на церковном Соборе 1666–1667 гг. (см.: Бусева-Давыдова И. «Апофеоз меча»: Фреска церкви Ильи Пророка в Ярославле // Собранiе. 2005. № 2. Май. С. 8–15). Гравюру (ксилография) «Животворящее дерево» из книги Лазаря Барановича «Меч духовный» см.: Сокровища Киево-Печерского заповедникаˆ Фотопутеводитель. Киев, 1985. С. 145.
В греческом переводе пророка Иезекииля встречается название Рос: «И бысть слово Господне ко мне, глаголя, сыне человечь, утверди лице свое на Гога и на землю Магога, князя Рос» (Иез.38:2.). В «Апокалипсисе» указывается, что Гог и Магог перед концом света во главе безчисленных войск сатаны подойдут к «священному граду» (Откр.20:7–8). Схоласты-комментаторы Библии, для которых тексты Иезекиля имели в большей мере не историческое, а эсхатологическое значение, помещали страну Гога и Магога по ту сторону Кавказских гор, называя их гиперборейскими народностями, т.е. скифами. Византийские авторы никогда не употребляли названия «рус», а писали «рос», при императоре Михаиле термин Рюс переводится как «Русь».
Итак, безбрежная церковно-схоластическая литература, безчисленные толкования на «Апокалипсис» и пророков употребляют наименование Рос, начиная с возникновения христианства, но известия о русском народе у византийских авторов появляются не ранее IX в., при этом имя народа Рос связывалось с пророчествами о конце света и потому часто употреблялось в церковной литературе.
Связь понятия «русский, русич» с библейским «Рос» к X в. становится общепринятой, а потому этим сопоставлением русских со страшным библейским народом Гога и Магога довольно просто объясняется, почему в распространявшихся среди константинопольского населения «пророчествах» грядущая гибель Византии связывалась именно с русскими. Лев Дьякон тоже считает, что это и есть библейский народ Рос: «…но что сей народ (т.е. тавроскифы) отважен до безумия, храбр и силен, что нападает на всех соседственных народов, то многие свидетельствуют, и даже божественный Иезекииль об этом упоминает в следующих словах: “Се аз навожу на тя Гога и Магога, князя Рос”» (Лев Дьякон. IX, 6). Говоря о русских, Фотий приводит библейские цитаты из пророчеств, имеющих у византийских церковных комментаторов определенное эсхатологическое значение: из Иезекииля (38), Иеремии (6:22), «Апокалипсиса» (20, 7). Применительно к русским эти эсхатологические пророчества имеют смысл лишь в том случае, если под словом Рос, понимается одновременно и библейский народ Иезекииля (Иез.38:2.) и русский народ. Отсюда понятно, что, если русский народ до начала IX в. и был неизвестен византийцам, то о библейском Рос действительно можно было говорить, как сказал пророк Иезекииль, приводя наименование Рос (в действительности не «Рос», а «Рош», что в данном месте в древнееврейском тексте скорее всего – нарицательное имя = «глава») (см. здесь также: Паламарчук Г. П. Москва, Мосох и Третий Рим: из истории политических учений русского средневековья. С. 1188).
Иван Грозный писал слова Росийский и Росия в полном соответствии с греческим начертанием через одно «с». В XVII в. по аналогии со словом «русский» слова «российский» и «Россия» стали писать через два «с». Так, со словом «русский», «Русь» в язык проникла утвердившаяся в IX в. под влиянием библейской транскрипции форма Росия, впоследствии Россия, российский (см.: Сюзюмов М. Я. К вопросу о происхождении слова Рос, Росия, Россия // Россия перед вторым пришествием / сост. С. Фомин. М., 1999. С. 554–557).
См.: ГИМ ОР. Ф. Муз. № 3666: Библия Пискатора [Пискатор (Piscator) Николас Иоаннис (Клас Висхер; около 1586–1652), голл. издатель и гравер. Выпустил «Лицевую Библию» (1650 г.) с резцовыми гравюрами по картинам нидерландских художников. – Авт.]. На л. 224 изображены: Елисей с двуглавой птицей на плече и возведенным из мертых юношей, Иона с кашалотом у ног и Авдий с тремя хлебами; на поле листа над Елисеем подпись: «Сугуб дар Духа Елисей стяжавый, еже являет голубь двоеглавный, и Израильский же люд сей защищаше, и ассириан врагов им вручаше, но и по смерти мертваго воскреси, иже положен быть и сего телеси».
Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. СПб., 1886. Т. IV. С. 108; Т. V. Кн. II. С. 471.
Дед Царя Михаила Федоровича Никита Романович Захарьин-Юрьев был женат: первым браком – на В. И. Ховриной из императорского дома Комненов (правители г. Судая в Крыму, их потомки в России – графы и дворяне Головины) и князей Холмских из Тверского дома по женской линии; вторым браком – на княжне Е. А. Горбатой-Шуйской из Суздальского дома, следующего за Московским в правах наследования. От которой из жен был рожден будущий Патриарх Филарет, доподлинно неизвестно. Мать Царя Михаила Федоровича – великая старица Марфа, урожденная княжна Ксения Ивановна Шастунова из Ярославского дома. Мать Царя Алексея Михайловича Евдокия Стрешнева была дочерью княжны Волконской (отрасль князей Черниговских). Теткой Царя Михаила Федоровича была княжна Е. И. Голицына, жена его дяди боярина А. Н. Романова, внучка М. И. Голицына и внучатая племянница Ивана IV (см.: История родов русского дворянства. Т. 1. С. 25, 127, 171–172, 227–232, 233–237, 250–257, 291–302; Т. 2. С. 81; Дворянские роды Российской империи. Т. 1. С.34:143).
Откр. 2, 7; 22, 1, 2, 14. Здесь говорится о новом, чудесном «древе жизни» (см.: Полный православный богословский энциклопедический словарь. М., 1992. Т. 1. С. 773). «Древом жизни» часто называют «мировое древо». Этот символ был свойствен мифологиям едва ли не всех народов мира. Одним из прообразов космического, «мирового древа» многие исследователи рассматривают изображение жезла со змеями, соединяющего три мира: подземный, земной и небесный. Мировое Древо, поднимающееся от земли до неба соединяло три мира: небесный, земной и подземный. На Мировом Древе помещалось и Мировое Яйцо. Не случайно герою, чтобы добыть это яйцо, нужна была помощь животных всех трех миров – земного (волк), небесного (орел) и нижнего (щука). Скандинавский бог Один, чтобы обрести мудрость, изображался на Мировом Древе (см.: Матерь Лада: Божественное родословие славян: Языческий пантеон. М., 2004. С. 46, 111; Лазарев Е. Символы медицины // Наука и религия. 1988. № 8 (88). Август. С. 46–47).
Обращает на себя особое внимание стихотворное описание-трактовка Российского герба, помещенное в книге: Магницкий Л. Арифметика. М., 1703 (на титульном листе – гравюра М. Карновского, вверху которой в сиянии инициалы “И † Х”, расположенные посередине между увенчанными коронами головами парящего орла; орел в лапах держит: в правой – державу, в левой – скипетр и меч; под орлом, в картуше, надпись: “Арифметика Политика сих и другая Логистика и многих иных издателей в разна времена списателе”; справа и слева орлу предстоят Архимед и Пифагор, у ног которых символы их открытий). Л. 1–6: Стихи на предлежащий герб.
Навыкохом мы православнии, / яко Христовы слуги давни,
Абие Его призывати, / хотяще всяким начинати
Что либо, аще когда деем, / в ползу нам, или в честь имеем
Ему Самому Творцу Богу / подающу нам помошь многу.
Сию и ныне призываем / и восприяти уповаем,
Тем святый Крест образуем / многи силы в нем показуем.
Небесна Царя скипетр есть сущий / над царствы земли власть имущий,
Иже бо его почитают / вся благая им получают.
И сих ради зде в первых стоит / вся, яже при нем выну, хранит.
Клейнот, сиречь герб, хранит царский, / иже имать царь христианский,
Российский, реку, православный, / и иных многих царств державный.
Его же крепость и держава / честный крест, купно же и слава,
Сим бо державу утверждает / и враги своя побеждает.
Тем и впредь врагов побеждати / имать, а своих свобождати.
Но и герб орел двоеглавный / значит, яко есть православный,
А паче, то он тривенечный / в чем значится Бог в Троице вечный.
Господь всяческих един силный / излиявый нань мир обилный.
О нем же, орле двоеглавне, / не могий писать всего явне.
Сими словесы заключаю / всяк дар Духа в нем быти чаю.
Умствовати же нам достоит, / что оный орел в себе строит:
Две главе его чрезвычайный / являют разум некий тайный,
А и вся урля тела части / значат силы и крепкие власти.
Равне же и крил простертие, / в чем есть нам милость в безсмертие.
Егда убо стар он явится, / тогда юность в нем обновится,
Воеже жити лета многа, / их же восприял есть от Бога.
Годствует же нам к нему звати / сице словеса предлагати:
Едине урле двоеглавный, / во всех парящих достославный,
Ровность криле распростирай, / расточенныя си собирай,
Бедствующия вся охраняй, / враждующым же всем возбраняй.
Да будет с Богом ти удобно / творить, что Ему есть угодно,
Обы кажда дву глав имела / все целы части всего тела;
Любве бо плод есть совершенный, / кий труд за друга сотворенный.
И сего ради возвещаем, / всеусердно ся обещаем
Целомудрию прилежати / и трудолюбство ти стяжати.
Аще париши горе летно, / мы последствуем раболетно;
Естли же ты сам пешеходно, / то и мы творим вси охотно.
Где или како сам идеши, / такожде и нас увидиши
Обаче рабски и покорно / и ничто будет в нас упорно,
Целомудро бо и любезно / желаем творити, что полезно.
А сия Тебе наша должность, / яко властная есть природность;
Радость бо в нас есть присно и страх, / и пред тобою мы яко прах,
Сего ради и прибегаем / и труд наш тебе предлагаем…
Акростих: НА / ЧЕСТНИИ / КРЕСТ / НА / ГОСУДАРЕВ / ГЕРБ / ДО / ЛИЦА / ЕГО /
ЦАРСКАГО / ПРЕСВЕТЛАГО / ВЕЛИЧЕСТВА / ЦАРЯ / И / САМОДЕРЖЦА / ПЕТА /
АЛЕКСИЕВИЧА / ВСЕЯ / РОСИИ…
См.: Йонтен Дордже. Знаки денег. М., 2004.
Геральдика: 1) практика создания, регистрации и бытования геральдических знаков…, выполняющих определенную социальную функцию – обозначения той или иной социальной структуры, соответствующей системе и ее статус; 2) вспомогательная историческая дисциплина, изучающая геральдические знаки; 3) совокупность той или иной группы геральдических знаков: личных или фамильных, территориальных, государственных, ведомственных, профессиональных, этнических, интернациональных, религиозных, политических (Вилинбахов Г. В. Государственная геральдика в России: теория и практика: Дисс. … д-ра ист. наук. СПб.: Ин-т истории РАН. 2003. С 5). См.: Национальная идея России: Учеб. пособ. / под. ред. Б. А. Аникина. М., 2002.
См.: Дворянские роды Российской империи. Т. 1. С. 28.
См.: Лукомский В. К. О геральдическом художестве в России. СПб., 1911. С. 6; Лукомский В. К., Типольт Н. А. Русская геральдика. Пг., 1915. С. 1.
Герольд – должностное лицо, состоявшее при дворах владетельных особ в средневековой Европе. Герольд выполнял ряд обязанностей дипломатического характера, в то же время был распорядителем придворных торжеств и церемоний, руководил рыцарскими турнирами, выступал посредником в поединках рыцарей (см.: Арсеньев Ю. В. Геральдика. М., 1908. С. 33). Правила и законы геральдики первоначально разрабатывались на рыцарских турнирах, где судьи и герольды следили за строгим исполнением рыцарских обычаев. Французское название геральдики blason происходит от немецкого blasеn (трубить в рог) и объясняется тем, что, когда рыцарь подъезжал к барьеру, ограждающему место турнира, то трубил в рог, чтобы известить о своем прибытии. Тогда являлся герольд и вслух описывал герб рыцаря в доказательство его прав на участие в турнире (см.: Думин С. В. Дворянские роды Российской империи. Т. 1. С. 28).
В Российской империи официальным учреждением, ведавшим созданием гербов, была Герольдмейстерская контора (1722–1917) (см.: Соболева Н. А. Российская городская и областная геральдика XVIII–XIX вв. М., 1981. С. 22–32).
«Но видимая сложность знака Ярослава, имеющего в схеме трезубец, заставила меня предположить, что знак его отца Владимира был проще – двузубец (вилы)» (см.: Орешников А.В. Денежные знаки домонгольской Руси: Труды ГИМ. Вып. 6. М., 1936).
Этот знак в форме трезубца – знак Рюриковичей – обнаружен в виде клейма на днище сосуда при раскопках 1966–1969 гг. на Южном городище старой Рязани, датирован XII–XIII вв. н.э. (см.: Йонтен Дордже. Знаки денег. С. 131).
См.: Молчанов А. А. Об атрибуции лично-родовых знаков князей Рюриковичей Х–XIII вв.
См.: Рапов О. М. Знаки Рюриковичей и символ сокола // Советская археология. 1968. № 3. С. 62–69
См.: Орешников А.В. Денежные знаки домонгольской Руси // Труды ГИМ. Вып. 6. М., 1936. С. 34–35 (табл. I–VI).
См.: Ураносов А. А. Русские областные и городские печати и гербы: Автореф. дис. канд. ист. наук. М., 1953. С. 25; Силаев А. Г. Возрождение русской геральдики: Иллюстрированный рассказ о месте и значении национальной символики. М., 2004.
В геральдической традиции лев – животное царственное, символизирует силу, мужество и великодушие. Он изображался в профиль и использовался, как правило, в королевских гербах. В православной иконографической традиции за евангелистом Марком закрепляется образ льва в ознаменование могущества и царского достоинства Христа (см.: Филатов В. В. Словарь изографа. М., 1997. С. 203).
См.: Соболева Н. А. Российская городская и областная геральдика XVIII–XIX вв. М., 1981. Наглядный тому пример – родовой герб дворян Татищевых-Рюриковичей, потомков удельных князей Смоленских (первые родословия их семьи известны со второй половины XVII в. – см.: Общий Российский Гербовник. Ч. II. С. 17; Ромодановский родословец // Бархатная книга (см. гл. 81, № 70); подробнее см.: Мурзин-Гундоров В. В. Наш земляк Михаил Татищев – поэт XVII века // Об Истре с любовью. Т. 3. М., 2006. С. 31–61; Мурзин-Гундоров В. В. Ново-Иерусалимская ветвь рода дворян Татищевых // Материалы XIX науч. конф. источниковедения и вспомогательных исторических дисциплин ИАИ РГГУ «Единство гуманитарного знания: новый синтез» (РГГУ, Москва, 25–27 янв. 2007 г.).
См., например, издательский знак с личным гербом первопечатника Ивана Федорова и г. Львова из книги «Апостол» 1574 г. (см.: Сокровища Киево-Печерского заповедника: Фотопутеводитель. Киев, 1985. С.124:134).
Лыщинские, Милославские, Римские-Корсаковы, Корсаковы и другие пользовались общим гербом Корчак (Korczak) (см.: Дворянские роды Российской империи. Т. 3. С. 262–263). О гербе князей, графов и дворян Солтыковых (Салтыковых) см.: Дворянские роды Российской империи. Т. 1. С. 205–212; также см.: История родов русского дворянства. Т. 2. С. 49–51.
Нащокины и графы Ордын-Нащокины (см.: Общий Гербовник дворянских родов Всероссийския Империи, напечатанный в 1797 году. Ч. 3. С. 14). Аналогична родословная сказка дворян Дурасовых потомков дома Дураццо.
«В потомстве Гланды Камбилы (в щите – два «лапчатых» креста, один под другим, и сверху их корона), у Шереметевых, Колычевых, Яковлевых, Боборыкиных и еще пяти родов; в потомстве Радши (в щите – орел, рука с мечом и корона), у десяти фамилий и, в их числе у Пушкиных и т.д.» (Лукомский В. К. Родословная герба // Родина. 1991. № 9–10. С. 53).
Орел – один из символов, известных с глубокой древности. Изначально в античности орел был одноглавый, он – «царь птиц», символ богов и светской власти. На греческих монетах он представал рядом с Зевсом или в одиночку (летящий; с добычей; голова орла); на монетах Египетского царства орел изображался с молнией в когтях и был чем-то вроде герба династии Птолемеев-Лагидов [см.: Мурзин-Гундоров В. «Самая красивая из женщин, когда-либо жившая на земле», или развенчанный миф о царице царей // Антикватория. 2005. № 5 (16). Сентябрь–октябрь. С. 50–53], введен как символ Египта Птоломеем VIII (116–107 гг. до н.э.); на римских монетах изображения орла разнообразны (атрибут Юпитера, символ Конкордии, украшение набалдашника императорского жезла и т.п.).
Особое значение орел приобрел как фигура на штандарте римских легионов. От Римской империи он в качестве символа власти перешел к Священной Римской империи германской нации, став с появлением геральдики центральной фигурой герба Империи: на монетах (Маастрихтский пфенниг) при Фридрихе I (1152–1190) вычеканена надпись – scutum imperiale – щит Императора; со времени Фридриха II (1216–1250) – стилизованный черный орел на золотом фоне (изображен в момент взлета, с головой, повернутой вправо, с растопыренными когтями и раскрытыми крыльями).
С XIII–XIV вв. некоторые германские правители (графы Ангальт, маркграфы Бранденбург) и несколько вольных имперских городов (Аахен, Хильдесгейм) использовали геральдическое изображение имперского орла, не меняя ни цвета, ни формы (см.: Фенглер Х., Гироу Г., Унгер В. М. Словарь нумизмата. М., 1982. С. 198).
Появление эмблемы двуглавого орла в христианском мире связано с именами императоров Константина I Великого (306–337; ввел эмблему в мае 326 г.) и Юстиниана I (527–565). Когда произошло объединение под одним скипетром Восточной и Западной частей Империи, каждая из которых имела в гербе по одноглавому орлу, в качестве государственной эмблемы был принят двуглавый орел. С тех пор и до своего падения в 1453 г. Восточная Римская империя – Византия имела в своем гербе двуглавого орла (см.: Думин С. В. Дворянские роды Российской империи. Т. 1. С. 37).
Захват в 1204 г. во время четвертого крестового похода Константинополя привел к падению Византии, что явилось основанием для образования Латинской – Священной Римской империи. На не завоеванной территории образовались Никейская и Трапезундская империи и Эпирское государство, где удержалась символика двуглавого орла. В 1261 г. Михаил VIII Палеолог восстановил Византийскую империю и двуглавого орла в качестве ее символа. Римский (Латинский) Император Сигизмунд I (1410–1437) принял символику двуглавого орла, объявив его императорским. После распада Священной Римской империи (1806) двуглавый орел перешел к Австрии (в 1919 г. его место занял одноглавый черный орел с венцом, с серпом и молотом в когтях). В 1871 г. Германская империя (Гогенцоллернов) переняла одноглавого бранденбургско-прусского орла, оставшегося после 1919 г., но без монархических атрибутов. Наполеон I, Наполеон III и позже А. Гитлер заимствовали символику орла римских легионов (см.: Фенглер Х., Гироу Г., Унгер В. М. Словарь нумизмата. С. 198).
В настоящее время символику орла в государственном гербе имеют более 30 стран, среди которых Австрия, Германия, Испания, княжество Лихтенштейн, Польша, Румыния, Албания, Ирак, Ливан, Сирия, Египет и т.д.; двуглавого орла – Албания и Россия (см.: Похлебкин В. В. Словарь международной символики и эмблематики. М., 2004. С. 283–296. № 155).
Вторая версия: это произошло вследствие идентифицирования государем атрибутов оформления верховной власти в странах Западной Европы и на Руси, учитывая символический опыт дома Габсбургов, из которого происходили императоры Священной Римской Империи.
Третья версия: заимствование Русью южнославянского опыта. Под влиянием Византии двуглавый орел был принят в качестве государственного символа Албанией, Болгарией, Румынией, Сербией, Черногорией. В пользу этой гипотезы говорят и территориальная близость, и временные рамки распространения двуглавого орла, и довольно тесные связи Руси с ближайшими соседями.
См.: Карамзин Н. М. История Государства Российского. СПб, 1842. Т.V. Кн. 2. С. 212.
Там же.
См. в настоящем сб.: Тодоров А. А., Шмидт В. В. Человек – общество – Церковь – государство: мир Бога и власть государства. С. 1126; Меньщиков А. А., Рыбаков Ю. М., Шмидт В. В. Внешняя политика Русского Царства в XVII в. С. 1144.
Еще задолго до России этот принцип был принят как образец для подражания в древнем государстве франков династией Меровингов. Франками, формально не подчинявшимися Константинополю, в основу государственного закона был положен кодекс Императора Феодосия II от 437 г. (см.: Лебек С. Происхождение франков: V–IX века. М., 1993; Иоанн, митр. Санкт-Петербургский и Ладожский. Русь соборная: «Царское Дело». СПб., 1995. С. 22; также см. в наст. сб.: Лескин Д. Ю. Византийский идеал «симфонии» двух властей и его влияние на формирование церковно-государственных отношений в России. С. 1113).
См.: Иоанн, митр. Санкт–Петербургский и Ладожский. Указ. соч.
Основные фигуры Российского государственного герба – двуглавый орел и всадник, поражающий копьем дракона. Они стали известны по государственной печати Ивана III 1497 г. – одна фигура помещена на лицевой стороне, а другая – на оборотной [см.: Каменцева Е. И. (Соболева Н. А.). Двуглавый орел снова в полет? // Родина. 1991. № 5. С. 45]. Позднее: в золотом щите – черный двуглавый орел, ленты лазоревые, в червленом с золотыми краями щите – св. Георгий Победоносец в серебряном вооружении и лазоревой мантии, на серебряном коне, покрытом багряной тканью с золотой бахромой, поражает восьмиконечным крестом-копьем золотого с зелеными крыльями дракона (см.: Думин С. В. Дворянские роды Российской империи. Т. 1: Князья. С. 38).
См.: Каменцева Е. И. (Соболева Н. А.). Указ. соч. С. 46.
При Великом Князе Василии III Иоанновиче (1505–1533) изменений в государственной символике не было, и она сохранялась в прежнем виде. Однако на золотых буллах 1514 и 1517 гг., приложенных к грамотам (в первом случае Императору Максимилиану I, во втором – гроссмейстеру Тевтонского ордена Альбрехту, маркграфу Бранденбургскому), впервые появляется титул «царь», которым Великий Князь Василий Иоаннович хотел подчеркнуть свое равенство с иностранными Государями. В связи с этим отметим, что германцы переводили титул «царь» как Empereur или как Kaiser (император). Эти две золотые буллы привешены на красно-золотых шнурках, что совпадает с традиционным цветовым сочетанием (золото-червлень), которое использовали последние Византийские императоры (см.: Вилинбахов Г. В. Государственная геральдика в России: теория и практика. Дисс. … д-ра. ист. наук. СПб., 2003. С. 23).
Цит. по: Тиктопуло Я. Мираж Царьграда // Родина. 1991. № 11–12. С. 58.
См.: Дворянские роды Российской империи. Т. 1. С. 37. Один из вариантов герба императорской династии Палеолог в образе византийского двуглавого орла известен по прориси из храма на Пелопоннесе в Мистре – см.: Панова Т.Д. Великая княгиня Софья Палеолог., 2005. С. 10. Илл. 3.
Начиная с 1539 г. изменяется тип орла на печати Великого Князя. Теперь орел изображен с раскрытыми клювами и высунутыми языками, крылья птицы остаются опущенными – в геральдике такой тип называется «вооруженный орел» (см.: Лакиер А. Б. Русская геральдика. М., 1990. С. 143; Собрание государственных грамот и договоров, хранящихся в Государственной коллегии иностранных дел: в 4 ч. М., 1813. Ч. I. С. 417). На малых государственных печатях в царствование Иоанна IV присутствовали изображения двух видов, их общее отличие от предыдущих состоит в том, что в легенду включен титул «царь». На лицевой стороне печати 1569 г. изображен двуглавый орел под двумя трехзубцовыми коронами, на оборотной – единорог; на лицевой стороне второго вида помещен «ездец», на оборотной стороне – двуглавый орел. На золотой булле 1562 г. впервые «ездец» и единорог помещаются в щите на груди двуглавого орла, причем с 1563 г. единорог изображается на лицевой стороне, а «ездец» – на оборотной. Упомянем еще и печать, приложенную к послушной грамоте 1566 г., где единорог находится на груди двуглавого орла. На Большой государственной печати 1577 г. орла венчает одна пятизубцовая корона, здесь впервые вокруг фантастической птицы изображены двадцать четыре эмблемы земель, входивших в состав Российского государства. Все клейма – это печати царств, земель, княжеств, областей, наименования которых входили в царский титул. Не только гербов, но и печатей всех означенных территорий не существовало. Тем не менее сочетание общегосударственной эмблемы и территориальных «клейм» символично – вся композиция выражает единство земель, собранных под эгидой московского государя (см.: Соболева Н. А. Российская государственная символика: История и современность. М., 2002. С. 61–63).
См.: Вилинбахов Г. В. Государственный герб России: 500 лет. СПб., 1997. С. 31.
2 См.: Орешников А.В. Прибавление третьей короны на двуглавом орле // Нумизматический сборник. Т. 1. М., 1911.
РГАДА. Ф. 149. Оп. 1. Д. 18. Лицевую сторону печати (матрица печати состояла из двух половин, вращавшихся на петлях) Лжедмитрий использовал для запечатывания писем польскому магнату Ю. Мнишеку. На этой печати орел (под тремя коронами) впервые изображен с поднятыми и распушенными крыльями, между перьями появились фады. В связи с тем, что «ездец» на груди орла повернут в соответствии с западноевропейскими геральдическими правилами в левую сторону от смотрящего, можно предположить, что печать была изготовлена в Польше (см.: Лакиер А. Б. Русская геральдика. С. 145–146). По своем вступлении на престол Лжедмитрий обещал выдать Ю. Мнишеку миллион польских злотых, а после бракосочетания с дочерью последнего Мариной предоставить ей «в вечное владение государства Новгородское и Псковское, с разрешением свободного там богослужения по католическому исповеданию» (см.: Лаврентьев А.В. Царевич – царь – цесарь: Лжедмитрий I, его государственные печати, наградные знаки и медали: 1604–1606 гг. СПб., 2001. С. 23–24).
См.: Лихачев Н. П. Земская печать Московского государства в Смутное время. М., 1914. С. 15–16; Трутовский В. К. Апофеоз Астреи // Среди коллекционеров. 1921. № 6–7. С. 10–11.
См.: Дом бояр Романовых в Москве. М., 1913.
См.: Иванов В. В., Топоров В. Н. Орел // Мифы народов мира: Энциклопедия. М., 1992. Т. 2. С. 259; Иванов П. И. Сборник снимков с древних печатей, приложенных к грамотам и другим юридическим актам, хранящимся в Московском архиве министерства юстиции. М., 1858. Табл. X–XV.
См.: Вилинбахов Г. В. История Российского герба и флага. СПб., 2004. С. 21–22.
Одновременно может пониматься и как символ Третьего Рима, оправдывая-утверждая идеологему «Москва – Третий Рим» (см.: Дворянские роды Российской империи. Т. 1. С. 37).
См.: Вилинбахов Г. В. Государственный герб России: 500 лет. С. 33. Короны символизировали: по одной версии – Пресвятую Троицу, по другой – три царства: Казанское, Астраханское и Сибирское (см.: Дворянские роды Российской империи. Т. 1. С. 37).
См.: Юрганов А. Л. Категории русской средневековой культуры. М., 1998. С. 335, 346–347. Первая Большая государственная печать, на которой двуглавый орел с «ездцом» на груди коронован тремя коронами, датируется 1645 г. Начиная с этого времени постоянно использовался именно такой тип изображения. Не исключено, что печати с орлом под тремя коронами могли быть вырезаны либо иноземцем Исааком Богданом, гравировавшим печать в 1656 г., либо Андреем Гомулином, выполнявшим заказы Михаила Федоровича в 1642 г. и Алексея Михайловича в 1664 г., когда были изготовлены «две Государевы печати с большими титлами». К жалованной грамоте Царя Алексея Михайловича Богдану Хмельницкому и «его потомкам» на город Гадяч от 27 марта 1654 г. приложена печать, на которой впервые двуглавый орел под тремя коронами изображен с символами власти – скипетром и державой в лапах. Впоследствии этот тип печатей использовался Малороссийским приказом (см.: Каменцева Е. И., Устюгов Н. В. Русская сфрагистика и геральдика. М., 1963. С. 140; Соболева Н. А., Артамонов В. А. Символы России. М., 1993. С. 36).
При Царе Михаиле русские иногда употребляли титул «император», особенно в сношениях с Западом. О его употребление см., например, в прокламации царского вербовщика шотландских наемников от 1 мая 1633 г.: Steuart А. Scottish Influences, 34. В книге «Respublica Moscoviae et Urbes» (Leiden, 1630), например, указано, что титул «Magnus Dominus, Imperator» употреблялся еще в 1613 г.; французы же называли Алексея «l’empereur» в 1654 г. (см.: Берх В. Царствование Царя Алексея Михайловича. СПб., 1831. Т. I. С. 85), но этот титул все же «пристегивали» к имени «Александр», что вряд ли свидетельствует о близком знакомстве с русской действительностью. Кромвель и Карл II также именовали его «императором» – см.: Иконников В.С. Ближний боярин Афанасий Лаврентьевич Ордин-Нащокин, один из предшественников Петровской реформы // Русская старина. 1883. Ноябрь. С. 283. Прим. I.
Вельтман А. Le Trésor de Moscou: (Оружейная палата). 1861. С. 45.
Савва, архиеп. Тверской. Sacristie patriarcale dit synodale de Moscou. M., 1865. С. 9–10; Сидоров. Гравюра… С. 218–219. Илл. – с. 216, а также 203–20
Лихачев Н. Иностранец-доброжелатель России в XVII столетии. СПб., 1898. С. 6 (перевод по рукописи, которую Грегори в октябре 1667 г. отдал Иоганну Аллгейеру, уроженцу Штутгарта, ранее побывавшему в России с А. Олеарием).
См.: Орешников А.В. Прибавление третьей короны на двуглавом орле. С. 485–486; Герб Государственный // Энциклопедический юридический словарь / под общ. ред. В. Е. Крутских. М., 1999. С. 55–56.
См.: Дуров В. А., Дуров Д. В. Российская государственная символика: XVIII – начало XX века. М., 2003. С. 96; Орел и лев: Россия и Швеция в XVII в.: Каталог выставки. М., 2001. С. 90
В геральдике гриф (грифон) символизирует могущество льва и зоркость орла, представляет собой льва с головой орла. Считается, что он является хранителем кладов.
См.: Полное собрание законов Российской Империи. Собр. 2-е. СПб., 1857. Т. XXXII. № 31720.
См.: Дворянские роды Российской империи. Т. 1. С. 37–42; Т. 2. С. 11; История родов русского дворянства. Т. . С. 23–28.
После смерти Императрицы Елизаветы Петровны (1709–1761/62) престол Российской Империи унаследовал ее племянник Великий Князь Петр Федорович (Карл-Петр-Ульрих) (1728–1762) – сын цесаревны Анны Петровны и герцога Голштейн-Готторпского Карла Фридриха. С 25.12.1761 по настоящее время династия носит родовую фамилию Романовых – Голштейн-Готторпских, используя соединенный герб двух родов. Щит рассеченный: справа – герб рода Романовых, слева – герб Шлезвиг-Голштинский (щит четверочастный с особой оконечностью внизу и малым щитом в середине); в первой червленой части – герб Норвежский (золотой коронованный лев с серебряной алебардой); во второй части – герб Шлезвигский (два лазуревых леопардоподобных льва); в третьей части – герб Голштинский (в червленом поле – малый щиток, рассеченный горизонтально на два поля: верхнее – серебряное, нижнее – красное; щиток с этими полями окружают с боков и сверху три части серебряного листа крапивы, зубцами к внешней стороне, а под щитком (перпендикулярно и по сторонам отрезков диагонально к внешним углам) – по серебряному гвоздю; все три гвоздя расположены остриями так, что обращены к среднему щитку; в червленой части – герб Сторнмарнский (серебряный лебедь с черными лапами и золотой короной на шее). Направо от нижней части Голштинского герба, в треугольном пространстве середины нижней части главного щита, в червленой особой оконечности – герб Дитмарсенский (золотой всадник с поднятым мечом на серебряном коне, покрытом черной тканью); малый средний щит тоже рассечен, в его правой половине – герб Ольденбургский (на золотом поле два червленых пояса), в левой половине – герб Дельменгорстский (в лазуревом поле золотой, с острым концом крест); малый щит увенчан великогерцогской короной, а весь щит – королевской короной (см.: Дворянские роды Российской империи. Т. 1. С. 37; История родов русского дворянства. Т. 1. С. 26–27.). Сын нынешней главы дома Романовых – местоблюстительницы Престола Великой Княгини Марии Владимировны – наследник Великий Князь Георгий Михайлович использует соединенную геральдическую символику семей матери и отца (Михаила Павловича) – представителя Императорского Дома правителей Германии Гогенцоллернов.
Иоанн (Экономцев), игумен. Православие, Византия, Россия: Сб. статей. М., 1992. С. 64; см. в наст. сб.: Бусева-Давыдова И. Л. Роль государства и Церкви в развитии русского искусства XVII в. С. 938.
Появление гербов в Русском государстве относится ко времени не ранее XVII в. (см.: Лукомский В. К. О геральдическом художестве в России. СПб., 1911. С. 6; Лукомский В. К., Типольт Н. А. Русская геральдика. С. 1).
См.: Котошихин Г. К. Россия в царствование Алексея Михайловича. М., 1906.
См.: Лихачев Н. П. Известия Русского генеалогического общества. Вып. 3. СПб., 1909.
См.: Мурзин-Гундоров В. Улыбка Клио, осветившая дом князей Стародубских, или загадка чаши из коллекции Оружейной палаты // Антикватория. 2005. № 2 (13). Март–апрель. С. 40–42.
Гербами также пользовались потомки лиц, в разное время поселившихся в России и вступивших в подданство Московских Государей: фон Визинов, фон Кельдерманов, Зиновьевых, Великопольских, Киселевых и т.д. (см.: Общий Гербовник дворянских родов Всероссийския Империи). Английская так называемая «Славная революция» в результате государственного переворота (1688–1689) низложила Короля Иакова II (из династии Стюартов). Многие приверженцы казненного Монарха нашли приют и милость у Царя Алексея Михайловича. Среди этих эмигрантов были потомки аристократических семей: Гамильтон, Гордон, Дуглас и т.д. В XVI – начале XVIII в. эти переселенцы проживали, как правило, в Кукуе – иноземной слободе в Москве на правом берегу реки Яузы, которая была центром поселения иностранцев-европейцев различных профессий (см.: Советский энциклопедический словарь / гл. ред. А. М. Прохоров. М., 1984. С. 666, 1568; Валишевский К. Петр Великий. М., 1990. С. 13–31).
См.: Милюков П. Н. Очерки по истории русской культуры: в 3 т. М., 1994. Т. 2. Ч. 1. С. 158–168.
См: Патриарх Никон. Труды / научн. исслед., сост. и общ. ред. В. В. Шмидта. М., 2004. С. 197–463, 946–1010; Зызыкин М. В. Патриарх Никон: Его государственные и канонические идеи: в 3-х т. Варшава, 1931–1938. Т. 1. С. 5–31; Т. 3. С. 358–365.
Buber M. Heraldika: Аlbаtros. Praha, 1986. S. 208–209.
Церковная геральдика – отрасль геральдики, вспомогательной исторической дисциплины, изучающей историю церковных геральдических эмблем, геральдических обычаев и т.п., включая художественные качества гербов церковных, т.е. геральдических эмблем, относящихся к различным церковным учреждениям, земельным формированиям или принадлежащих священнослужителям различного ранга. Практика церковной геральдики есть сфера создания и использования гербов, их разработки и применения, прав на гербы и прав обладания ими.
В отличие от других гербов церковный герб не может передаваться по наследству, это не наследственный, а личный герб. Как и в других гербах, в церковной геральдике используется щит, который часто заменялся картушем для обозначения того, что его носитель – не военный человек. Могли использоваться для церковных гербов и дворянские родовые щиты, у недворян – щиты произвольной формы (Mandich D.R., Placek J.A. Russian heraldry and nobility. Florida, 1992. P. 3).
Существовало одно обязательное условие – церковный герб располагался или в первом поле рассеченного щита, или в первом и четвертом полях пересеченно-рассеченного (четырехчастного), в то время как родовой (личный) герб – во втором поле рассеченного или во втором и третьем четырехчастного. Некоторые прелаты помещали знак своей власти во главу родового щита или в малый щиток (d’Aspry J.-B. La méthode du blazon. Paris, 1976. P. 24).
См.: Зиборов В. К., Лобачев С. В. Алексей Михайлович // Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 3: XVII век. Ч. 1. СПб., 1992. С. 70–72; Лобачев С. В. Новгородский период деятельности Патриарха Никона // Мат-лы науч. конференции «История православия в России: люди, факты, источники». СПб., 1995. С. 22–36).
При анализе исторических, книжных изданий того периода можно найти несколько гербов митрополита Петра Могилы (1574–1647), отличающихся друг от друга по геральдической трактовке. Один из самых ранних гербов П. Могилы – изображенный в книге Дорофея Аввы «Поучения» (1628). Вторым изображением, привлекшим наше внимание, является полный герб митрополита, помещенный в книге, изданной в Киеве в 1632 г. под названием «Евхаристион альбо вдячность», а также герб, напечатанный во львовском Апостоле, изданном в 1639 г. в типографии Михаила Слезки.
Митрополит Петр своей национально-культурной, просветительской, книгоиздательской деятельностью сумел превратить Киев первой половины XVII в. в выдающийся культурный центр всей Восточной Европы. С его именем связана эпоха в истории украинской культуры под названием «могилянская доба». За просветительские деяния и праведное служение Украинской Православной Церкви митрополит Петр был причислен к лику святых [см.: Евгений (Болховитинов). Словарь исторический о бывших в России писателях духовного чина Греко-российской церкви. СПб., 1827. Т. 2. С. 156; Батюшков П. Н. Подолля: Историческое описание. СПб., 1891. С. 87].
Один из вариантов герба митрополита, который подтверждает его принадлежность Петру Могиле, изображен на его портрете в правом верхнем (левом геральдическом) углу (см.: Костомаров М. Галерея портретов. Киев, 1993. С. 103). В основе герба – червленый щит, пересеченный и дважды рассеченный, при этом средний золотой столб не доходит до верхнего края. В первой четверти помещена традиционная для фамилий молдавского происхождения эмблема – воловья голова с кольцом в ноздрях. Между рогами над головой – звезда, над ней – корона; во второй четверти – две положенные косым крестом стрелы, между ними – копье (измененный польский герб «Елита» – «Jelita»); в третьей – летящая влево серебряная птица, несущая в клюве крест, над ней корона (эмблема Валахии). В четвертой части – польский герб «Новина» («Nowina») – напоминающая чашу лодка, в которую поставлен меч рукоятью вверх. Столб пересечен. В верхней части скрещены две сабли (родовой герб Могил, однако здесь – без крестов на концах сабель), в нижней – герб «Остоя» («Ostoja») – между двумя полумесяцами, обращенными в противоположные стороны, – крест (Gorzynski S., Kochanowski J. Herby szlachty polskiej. Warszawa, 1992. S. 71, 108, 116). Щит увенчан архиепископской золотой митрой и положен на скрещенные крест и архиерейский жезл. По бокам щита буквы «П.М.А.М.К.Г.Е.К.А.П.», что значит «Петр Могила, Архиепископ, Митрополит Киевский, Галицкий, Екзарх Константинопольский, Архимандрит Печерский». Это один из самых лаконичных и, видимо, последних вариантов герба митрополита. Он лишен декоративных украшений и излишних внешних элементов и представлен только своей главной частью.
«Какова ты роду? он же глагола ему, яко простолюдин есть» (см.: Извещение о рождении и воспитании и о житии Святейшего Никона, Патриарха Московскаго и всея России // Патриарх Никон. Труды. С. 21; также см. в ч. III наст. сб.: Житие Никона, Патриарха Московского и всея Руси)
В разорении 11-го вопроса-ответа Святейший пишет: «Патриарх есть образ жив (л. 97) Христов и одушевлен делесы и словесы в себе живописуя истину. Блюдение Патриарху. Первие, убо их же от Бога прият, во благочестии и чистоте житие сохранити. Потом же и вся еретики, поскольку мощно тому, ко православию и соединению церковному обратити. Еретицы же законы и правилы нарицаются, иже соборней не общевающеся Церкви, еще же и неверныя светлым и чюдным его деянием удивляя, подражателя сотворити в вере и зрящих дела его, служителя Пресвятей и Единосущней Троицы, елико по нем соделати. Конец патриарху, еже ввереных тому душ спасение и еже жити убо о Христе, распяти же ся мирови, (л. 97об.) особная патриарху, еже быти учителну, еже ко всем высоким же и смиреным не тесно местне изровнятися и кротку убо быти ко всем приступающим ему и собеседующим ученми. Обличителну же к непокоряющимся, о истинне и о отмщении преданий, соблюдении правды и благочестия глаголати пред цари и не стыдетися жителству от частей и удов, подобне человеку некоему составляему великая и нужнейшая части царь есть и патриарх. Тем же и еже по души и телу мир и благоденство послушник царствия есть и архиерейства во всем единомыслие и согласие. Константиняграда (л. 98) престол царством украсися, соборными сужденми первый наречен бысть. Им же божествении последующе закони и иже от иных престол бывающим недоуменным, яко по однаго повелевают возноситися разсмотрение и суд всех митрополий и епископий. Монастырь же и церковь промышление и попечение, еще же и суд и осуждение и освобождение от вины своему патриарху належит. Константинова же града первоседалнику лет есть во инех престол енориях, в них же несть предосвящения, храмех крестоводружения давати не токмо, но и иже престолех бывающая распря и недоумения назирати и изправляти и конец налагати судом. (л. 98об.) Такожде и покаяния и обращения от грехов и ересей сам един бывает разчинитель и расправитель и устаменитель. Собора в Новой Кесарии правило 14. Сельстии же епископи, суть убо по образу седмидесяте апостол, якоже с служебницы суще, потщания ради, иже ко убогим, почитаеми, да служат во градстей церкви. Толкование. Епископи убо градстии, по образу суть двоюнадесяте апостолу, на них же дуну Господь: Приимите, рече, Святый Дух, им же отпустите грехи, отпустятся им, и им же держите, держатся им. Се же по сих им же даравано бысть и благодать Святаго Духа инем раздавати. (л. 99) И уже видели еси своего исправления разрушение в 13-м правиле святаго собора, иже во Антиохии Сирстей, и святаго шестаго Вселенскаго собора в 20-м правиле, почто еще многословиши» (см.: Никон, Патриарх. Возражение или Разорение… // Патриарх Никон. Труды. С. 228.
Символическое богатство христианства придало средневековой культуре смысловое богатство и насыщенность. Как пишет С. С. Аверинцев, христианство к концу своего первого тысячелетия являет такую сквозную целостность и замкнутость, такую степень взаимной «пригнанности» входящих в ее состав символических структур, что в каждом фрагменте его содержания уже как бы дано в свернутом виде все целое. Иначе был бы невозможен известный каждому исследователю средневековой культуры феномен, когда заведомо не столь уж начитанный автор рассуждает на темы мистического умозрения так, как если бы в совершенстве изучил тексты Плотина и Прокла, – просто потому, что зерно христианизированного неоплатонизма через посредство псевдо-Ареопагита вошло в состав общехристианской традиции и органически с ней срослось (Аверинцев С. С. К уяснению смысла надписи над конхой центральной апсиды Софии Константинопольской
См.: Белявский И. Г. Развитие психолого-исторических представлений. Киев, 1988; Брудный А. А. Понимание как философско-психологическая проблема // Вопросы философии. 1975. № 10; Лебедева Н. М. Введение в этническую и кросскультурную психологию. М., 1989; Соколова М. В. Психологические воззрения в Древней Руси
При объяснении символики каждого компонента композиции, при трактовке эмблемы в целом полярность характеристик этих компонентов-образов, как правило, задает многоаспектность, что не исключает погрешности (см.: Соболева Н. А. Российская городская и областная геральдика XVIII–XIX вв. М., 1981. С. 163). Пример тому – символ рыбы. В русских сочинениях о животных отмечаются «привычки» рыб, которым надо подражать, – верность естественным законам, уважение к чужой собственности (см.: Дурново Н. Н. К истории сказаний о животных в старой русской литературе
По мнению В.В. Мурзина-Гундорова, не исключено, что цветовое решение герба Патриарха Никона в его графическом изображении передано штриховкой, т.е. посредством геральдической шраффировки, визуально передающей краску или оттенок. Их принято называть: финифти, металлы и меха, известные как тинктуры (этот прием был и остается в геральдической традиции). О первой публикации цветной версии прочтения Герба Святейшего Патриарха Никона подробнее см.: Мурзин-Гундоров В. Тайна патриаршьего герба: Религиозно-философский и историософский аспекты геральдической эмблемы Святейшего Патриарха Никона // Антикватория. 2006. № 4–5 (21–22). Июль-октябрь. С. 102–105.
1 См.: Лакиер А. Б. История российской геральдики. М., 2006. С.103–105; Медведев М. Русская геральдика // VIII Коллоквиум (Кентербери, 1993): Труды. Кентербери, 1995. С. 131–134; Он же. Русская геральдика в европейском контексте // Генеалогия и геральдика. Стокгольм, 1996. С. 291–295; Комаровский Е. А. Портреты священнослужителей в русской живописи XVIII–XIX вв. как исторический источник и их место в системе геральдических памятников // Источниковедческая компаративистика и историческое построение: Тез. докл. и сообщений XV науч. конф. Москва, 30 янв. – 1 февр. 2003 г. М., 2003. С. 170–171; Он же. Россия // Слейтер С. Геральдика: Иллюстрированная энциклопедия. М., 2005. С. 225; Manescu J.N., Aigle L. Blanc de Pologne dans les armoiries des princes moldaves Mogila. Warszawa, 1997. P. 239–245; Medvedev M. The Only Achievement of the Patriarch Arms Borne by Nicon of Moscow and All Russia (1652–1658) // Religious heraldry. Mьnchen, 1999. P. 178.
Возможно прочтение буквы «Г» и как Государь: «Яко ты будеши Государь Великий Царству Российскому; еже и сбыстся…» (см.: Извещение о рождении и воспитании и о житии Святейшего Никона, Патриарха Московскаго и всея России // Патриарх Никон. Труды. С. 23; также см. в настоящем сб. ч. III). Святитель Никон – шестой в диптихе Первопрестольников Московских – был вторым и последним Патриархом, наделенным достоинством Великого Государя. Он был действительным, а не номинальным «Великим Государем» [см.: Толстой М.В. Указ. соч. С. 561 («Одна из подписей Патриарха Никона: “Никон Божиею милостию архиепископ царствующаго града Москвы и всея Великия и Малыя и Белыя Росии Патриарх”; в период своего регентства над государством он подписывался так: “Никон, Божиею милостию Великий Господин и Государь, Архиепископ царствующаго великого града Москвы и всеа Великия и Малыя и Белыя России и всеа Северныя страны и Помориа и многих государств Патриарх”»)].
Западноевропейские эмблематические справочники XVI–XVII вв., известные в XVII в. в России: Alciato A. Emblemata. P., 1618; Ripa C. Iconologie. P., 1677; Camerarius J. Symbolorum et emblematum. Nürnberg, 1597; Saavedra F. Idea Principis Christiano–Politici 101 simbolis. Amsterdam, 1659; Petrasancta S. Symbola Heroica. Antverpian, 1634.
См.: Евгений (Болховитинов). Указ. соч. Т. 2. С. 156–157; Лакиер А. Русская геральдика. С. 109.
4 См.: Письмо Патриарха Никона с братиею Воскресенскаго монастыря к Царю Алексею Михайловичу с благодарностию за пожалованныя деньги по случаю рождения Царевича Иоанна Алексеевича, и с принесением в благословение новорожденному Царевичу писанной Никоном иконы. Сентябрь 1666 г. // Патриарх Никон. Труды. С. 128.
Исследователи, занимающиеся изучением гербов, давно пришли к выводу, что, кроме литературных произведений типа Шестоднева, специальных словарей, азбуковников и толковников, основным источником средневековой символики являются книги Ветхого Завета, в частности Псалтирь, которая была наиболее популярной и читаемой книгой древности. Псалтирь предопределила появление огромного круга символов, имеющих свое, подчас неоднозначное, толкование и значение. В этот круг входят, помимо животной темы (физиологической саги), атрибуты вооружения (Пс. 7, 10, 34, 36, 43, 63, 75, 126), священные предметы и символы. Поскольку нет точных сведений, позволяющих утверждать, что Патриарх Никон пользовался западноевропейскими книжными источниками по истолкованию символики, то можно предполагать, что он обращался непосредственно к первоисточнику – Священному Писанию. Не о появлении ли первых эмблем говорится в Библии: «И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: сыны Израилевы должны каждый ставить стан свой при знамени своем, при знаках семейств своих; пред скинией собрания вокруг должны ставить стан свой» (Числ. 2, 1–2). Учитывая, что при составлении эмблемы источником стали книги Ветхого и Нового Заветов, то переданные в иносказательной форме посредством зримых метафор символы не просто очевидны, они продолжают быть актуальны. В патриаршем гербе выражена идея сознания мистической взаимосвязи земного, человеческого обустройства жизни и уподобления его высшему – Небесному идеалу.
Создание Патриархом герба сродни его масштабному церковно-гражданскому служению, выразившемуся в созидании Святой Руси и строительстве монастыря Нового Иерусалима как материального закрепления духовного факта принятия Россией венца своего Богоносного служения, желания приблизить образ земного Отечества к Небесному Граду Иерусалиму. Поразительна грандиозность этого замысла – модели будущей Великой России как Вселенской хранительницы святого Православия и «подножия Престола Господня».
В. Ш.: Визуальное восприятие щита, разделенного на поля, дает образ креста в виде якоря, верхняя часть которого представлена малым картушем с двумя прорезанными прямоугольными отверстиями, на который сверху опирается нерукотворный образ Спаса на чрепии, а основанием крест уходит в сложного орнамента, напоминающего «павлинье око», якорное грузило. Таким образом, якореобразный Крест, символизирующий Спасителя, Который есть и Церковь, оказывается собственно поверх щита – на щите, задавая тем самым четыре поля, в которых и помещаются знаки-образы Архипастырского служения (о церковном символизме см.: Скрижаль. М., 1656).
См.: Гаттерер И. Х. Начертание гербоведения. СПб., 1805.
Иное толкование: земное служение Небесному. Зажженный светильник олицетворяет Церковь Христову, поскольку «Церковь – тело Его» (Кол. 1:21), – говорит апостол. В христианстве считается, что огонь обладает очищающей и животворной силой, не менее могущественной, чем вода, он – символ очищения жизни и жертвенного служения Высшему Началу [см.: Лазарев Е. Символы медицины // Наука и религия. 1988. № 8 (88). Август. С. 47]. Пятиглавый (пятирожковый) светильник – сама единая святая соборная и апостольская Церковь, предстающая как единый организм. Пять глав аллегорически представляют пять патриарших престолов: Иерусалимский, Константинопольский, Александрийский, Антиохийский и Московский. Именно Церковь, осененная гласом Господа, несет пламень веры, свидетельство Истины. Церковь стала тем возжженным Светильником, дабы просвещать тьму неверия и нести свет миру: «во свете Твоем мы видим свет» (Пс.35:10). Царь Алексей Михайлович, обращаясь к боярам после отъезда Антиохийского Патриарха Макария, говорит: «Молю Бога прежде, чем умру, видеть его в числе четырех Патриархов, служащим во Святой Софии и нашего Патриарха пятым вместе с ними» (см.: Каптерев Н. Ф. Патриарх Никон и Царь Алексей Михайлович. Т. 1. Серг. Посад, 1909. С. 46). У греков преобладало воззрение, согласно которому все пять Патриархов считались равными друг другу. Греки сравнивали Церковь с телом человека, а пять Патриархов с пятью чувствами. Однако особое положение Вселенского Патриарха на основе византийского законодательства, в частности в Эпанагоге (III, 8) говорится, что «…изукрашенный Царством Константинопольский Патриарший престол признан соборными постановлениями первым», и что, согласно святым законам, на разрешение этого престола представляются возникшие в других Патриархатах разногласия. Другие Патриархи не имеют того значения, которое усвоено Эпанагогой Константинопольскому. Остальные Патриархи суть только местные иерархи. Они так и называются в Эпанагоге. Но такой взгляд есть только своеобразное воззрение Фотия и его приверженцев (см.: Сокольский Вл. О характере и значении Эпанагоги // Византийский временник. Т. 1. Вып. 1. М. 1894. С. 29, 32, 38). Но, в отличие от других местных Патриархов, значение Патриарха Московского иное, поскольку он – Патриарх изукрашенного Царством города Москвы, Третьего Рима, Патриарх, пребывающий при Вселенском Царе» (см.: Каптерев Н.Ф. Иерусалимский Патриарх Досифей в его сношениях с русским правительством. М., 1894. С. 44). Не закрепленная официально, возникшая русская «симфония», могла существовать, пока сохранялся союз любви между Царем и Патриархом. Характерно, что само дело Патриарха Никона, нашедшее отражение в «Правилах четырех Патриархов», подтвердило неравноценное место в диптихе местного Московского Патриарха и Московского Царя, являющегося в то же самое время Царем Вселенским, прямым наследником святых Греческих самодержцев (см.: Каптерев Н. Ф. Иерусалимский Патриарх Досифей в его сношениях с русским правительством. С. 49). Однако, М. В. Зызыкин предполагал, что Патриарх Никон «лелеял мечту, что каноническое положение Московского Патриарха в будущем будет пересмотрено высшей церковной властью, что первое место в будущем среди пяти патриарших тронов в Воскресенском храме будет принадлежать Московскому Патриарху, но ни откуда, ни из одного его заявления не видно, что он усваивал это место для Московского Патриарха его времени. Надежды его могли иметь почву уже в той мотивировке канонов II и IV Вселенских Соборов, которые выдвигали Константинопольского Патриарха именно как епископа Нового Рима; следовательно, с утратой политического положения своих городов, Патриархи могли в будущем утратить и свое первенство чести» (см.: Зызыкин М. В. Патриарх Никон: Его государственные и канонические идеи. Т. 2. С. 98). В XX столетии, подобный прецедент рассматривал Патриарх Московский и всея Руси Сергий (Страгородский, 1867–15.6.1944). Так, в своей последней опубликованной статье (1944) он намекал на реальную возможность в ближайшее время рассмотрения вопроса о переводе Московского Патриаршего Престола на первое место по диптиху. Святейший Сергий писал: «… На практике всякая группа людей, чтобы планомерно и успешно делать какое-нибудь общее дело, обыкновенно возглавляется кем-нибудь одним в качестве руководителя. Как будто в этом направлении развивалось исторически и внешнее устройство Церкви. Первоначальные ячейки – маленькие, однако, фактически ни от кого не зависимые епископии – постепенно объединились в группы: епархии, митрополии, экзархаты и т.д., пока не образовали из себя пять Патриархатов, рядом с которыми явились крупные объединения в виде национальных Церквей. Во главе каждой церковной группы непременно стоит один из епископов, которого остальные епископы группы «должны почитать яко главу и ничего превышающего их власть не творити без его рассуждения» (Ап. пр. 34). Пожалуй, не будет ничего нарушающего описанный ход развития церковной жизни и неприемлемого и в том, если бы и всю вселенскую земную Церковь когда-нибудь возглавил тоже единый руководитель или предстоятель в качестве, например, председателя Вселенского Собора, но, конечно, не наместника Христова, а только в качестве главы церковной иерархии; а также и в том, если таким возглавителем окажется епископ какой-нибудь всемирной столицы» [см.: Патриарх Сергий (Страгородский). Есть ли у Христа наместник в Церкви? // Журнал Московской Патриархии. 1944. № 2. С. 16].
Две витые ножки зажжённого светильника есть принцип идеального мироустройства церковно-государственного тела с двумя главами – «Священства и Царства», «Премудрой двоицы» как основы для устроения на земле дела Христова подобно соединению во Христе двух природ, Божественной и человеческой, и соответственно этому двух воль и двух потенций. Русский Царь рассматривался как полноправный преемник Византийских Царей и Властитель всего Православного христианского мира. Венчавшись в 1547 г. на Царство, Великий Князь Московский Иоанн IV, в 1561 г. Московский Царь, занял место Царя Греческого и был утвержден в сане Царя соборною грамотою Вселенского Патриарха Иоасафа и духовенства Восточной Церкви. В этой грамоте Царь Московский рассматривается как состоящий в том же отношении к Церкви, в котором состояли прежде Греческие Цари. Патриарх и Собор называют Иоанна своим Царем. Царь Алексей Михайлович считал себя не только преемником древних греческих императоров в делах веры и благочестия, но и законным наследником их царства. Право на подобные амбиции правопреемства второй Царь из дома Романовых теоретически мог иметь и по своему рождению, поскольку его возможная прабабка происходила из дома Комненов императорской династии Византии и Трапезунда (см. выше примечание на с. 1076–1080). В 1666 г. он даже просил прислать ему с Востока «Судебник» и «Чиновник всему Царскому чину прежних царей греческих», что свидетельствует о практической подготовке к коронации на Престол Византийских Императоров (см.: Каптерев Н. Ф. Патриарх Никон и Царь Алексей Михайлович. Т. 1. С. 44–45; Журнал историко-богословского общества. 1990. № 1. С. 43). Царь рассматривался как законная главенствующая власть, являющаяся общим для всех подданных благом, не из ненависти наказующая, ниже по дружбе награждающая. Он считался беспристрастным решителем споров, воздающим каждому по его заслугам (Эпанагога, II, 1). Главнейшей задачей Царской власти является сохранение и умножение общественных сил. Конечное назначение Царской власти состоит в том, чтобы творить добро, почему Царь и называется благодетелем. Царь есть судия и хранитель Божественного и светлого права, всего того, что написано в Священном Писании, что установлено как догмат семью Вселенскими Соборами и что определено римскими законами. Наконец, наиважнейшей обязанностью Царя признается защита правоверия и благочестия. Царь по отношению к подданным пользуется неограниченной властью, но власть эта находит предел в религиозном и нравственном законе, установленном Верховным Законодателем и Судиею – Христом (см.: Каптерев Н. Ф. Иерусалимский Патриарх Досифей в его сношениях с русским правительством. С. 44; Сокольский Вл. О характере и значении Эпанагоги // Византийский временник. Т. 1. Вып. 1. 1894. С. 51). Согласно пророчествам, III Римом и было Росейкое царство, поскольку превзошло всех благочестием, и все благочестивыя царства собрались в это царство, и русский Царь один под небесами имел право именоваться христианским царем во всей Вселенной у всех христиан. Два Рима пали: Древний Рим под Аполлинариевой ересью, второй Рим, Константинополь, находится в обладании внуков агарянских, безбожных турок, а третий стоит и четвертому не быть. Патриарх Московский и всея Руси Никон понимал III Рим, «как задание для осуществления, а не как уже нечто исполненное». По словам М. В. Зызыкина, «…мы можем причислить его (патриарха Никона) систему к системе иерократической, по которой государство ставит себе как отдаленный идеал, никогда не достижимый, превращение в Церковь (см.: Зызыкин М. В. Патриарх Никон: Его государственные и канонические идеи. Т. 2. С.156:160). Согласно Эпанагоге (II, 8) Патриарх Нового Рима – член церковно-государственной организации равный Царю. Патриарх есть живой и одушевленный образ Христа, делами и словами выражающий истину. Обязанностью Патриаршей власти признается: во-первых, сохранять в благочестии и нравственной строгости жизни вверенных ему от Бога людей, затем всех еретиков, насколько возможно, обращать к Православию и единению с Церковью, и, наконец, неверных посредством увлечения светлым и чудным своим деянием сделать подражателями веры (Эпанагога, III, 2). Целью существования Патриаршей власти, по Эпанагоге, является спасение вверенных Патриарху душ, жизнь во Христе и сораспинание миру (III, 3). Свойства Патриаршей власти определяются следующим образом: Патриарху свойственно быть учительным, ко всем относиться одинаково, как к высоким, так и смиренным, быть кротким при отправлении правосудия, обличительным относительно непокоряющихся, в защиту же правды и догматов говорить, не смущаясь, пред лицем Царя. Подобно тому, как Царю принадлежит толкование норм права, Патриарху, и только ему, принадлежит истолкование правил, установленных святыми Отцами и Святыми соборами (III, 5) (см.: Сокольский Вл. О характере и значении Эпанагоги
В геральдике различается свыше двухсот разновидностей креста. Трилистный крест (нем. Kleeblattkreuz), он же получил название «лилиевидный крест», иначе – «крест святого Фомы», по имени одного из двенадцати апостолов, принесшего свет евангельского учения в Парфию и Индию [св. Фома стоял во главе парфийской группы апостолов [см. в ч. III наст. сб.: Шмидт В. В. Православная Эйкумена и учение веры (в кратком изложении)], к которой апокрифы причисляют ап. Фому, Симона Зилота, Иуду Иаковлева, тождественного ап. Леввею и ап. Фаддею. Согласно преданию, восходящему ко времени Ефрема Сирина, ап. Фома проповедовал и в г. Эдессе, но все же по преимуществу он представляется апостолом Индии [см.: Никольский Благовест. 2004. 24 окт. № 29 (234)]. В гербе Патриарха неоднократно присутствует зримый символический подтекст аллегории, связанный с именем апостола Фомы. Житийный образ Святителя и образ Христова ученика (апостола Фомы) имеют ряд аналогий: и тот, и другой постигали сущность предмета через свой личный опыт мировосприятия. Атрибутом св. Фомы также считается угломер [согласно церковному преданию, это связано с намерением св. Фомы построить в Индии храм; изображение креста св. Фомы встречается на колониальных португальских монетах в Гоа (Индия) (см.: Фенглер Х., Гироу Г., Унгер В. М. Словарь нумизмата. М., 1982. С.282:291) – это знак храмостроительства].
Патриарх Никон – единственный из русских иерархов удостоенный имени храмоздателя. На одной из его панагий с тыльной стороны есть изображение лилиевидного равноконечного процветшего креста святого Фомы (cм: Никоновские чтения в музее «Новый Иерусалим». М., 2002. С. 57–60). Случайным ли стал выбор Святейшего Патриарха Никона, поместившего на щит своего герба греческий крест, тождественный геральдическому кресту Византийской Императорской династии Палеолог? Скорее всего нет, поскольку имя отца той, которая принесла на Русь священные регалии православных цезарей, тоже Фома.
Язык символики предусматривает подобные аналогии. Русской истории известен ряд примеров, когда образ небесного покровителя реально существовавшего лица становился символом города, княжества и даже государства. Например, в гербе Москвы святой Георгий Победоносец (см.: История родов русского дворянства. Т. I. С. 240) связал имя основателя города – князя Юрия Владимировича Долгорукого с геральдической эмблемой города и даже государства. Таким образом, можно предполагать, что этот трилистный крест (крест св. апостола Фомы) отражает идею «просветительского зодчества» Святейшего, которая как ни у какого другого Святителя Церкви Христовой была выражена в деятельности Патриарха Никона – в его Иверском Валдайском, Крестном Кий-островском, Воскресенском Нового Иерусалима монастырях, а также в рукотворном патриаршем острове на озере Ферапонтова монастыря (см.: Труды Никона, Патриарха Московского // Патриарх Никон. Труды. Раздел II; Мурзин-Гундоров В. Новые Иерусалимы, или Перенесение сакральных пространств в христианской культуре (по материалам международного симпозиума 27–30 июня 2006 г. музей «Новый Иерусалим», ГТГ) // Антикватория. 2006. № 4–5 (21–22). Июль-октябрь. С. 138–139).
Посох у Ангела – символ небесного вестничества, посланничества. Такая трактовка свойственна символике вещей в иконографии (см.: Русские иконы. С. 37). Кроме того, посох – символ духовной власти того, кто им обладает.
См. в ч. III наст. сб.: Житие Никона, Патриарха Московского и всея Руси; Новоиерусалимский. Сказание о жизни, подвигах и наследии Никона, милостью Божией Патриарха (гл. 1: Сказание о Никоне Патриархе); Письмо Никона к Патриарху Иерусалимскому Нектарию // Патриарх Никон. Труды. С. 129.
Примером могут служить новгородские таблетки (двусторонние иконы) (см.: Русская икона из собрания Новгородского музея. СПб., 1993).
См.: Гаттерер И. Х. Начертание гербоведения. СПб., 1805. Гл. I. Краткое изъяснение употребляемых в гербах изображений («шапка – знак свободы и независимости, с двумя лентами или кистями, вниз висящими, означает достоинство жрецов и первосвященников»).
У древних народов каждый языческий божок имел свой особый венец. Существовало более 26 разновидностей подобного священного головного убора. Их не только сплетали из листьев, ветвей, цветов и плодов различных растений, но и выполняли из золота с использованием драгоценных камней.
См.: Шляпкин И. А. Св. Димитрий Ростовский и его время (1651–1709). СПб., 1891. С. 64 («…митры его имеют вид то тиары, то западной короны»).
Митра (от греч. mitra – головная повязка) в Православной и Католической Церквах – позолоченный и украшенный религиозными эмблемами-символами головной убор, надеваемый при полном облачении преимущественно на время богослужения представителями высшего духовенства: папой, епископами и др. См. здесь статью: Тодорова М. А. Воплощенное богословие Патриарха Никона: митра-корона. С. 975.
История Русской Церкви. С. 561.
Подобная корона в западноевропейской геральдике была принадлежностью герцогов (не принцев по крови) см.: Лукомский В. К. Родословная герба // Родина. 1991. № 9–10. С. 53.
Панагия – чаша, в которой износится хлеб Богородицы – трапезный хлеб, насыщающий семь тысяч и никогда не оскудевающий, а преломление его творит Пастырь – Христос, а вслед за ним епископ – учитель Церкви.
Образ Спаса Нерукотворного – главный из типов иконографических изображений, он – икона икон. В самом его названии уже заложена концепция любой иконы, в которой всегда важное место отводится тому, что лежит за пределами человеческого творчества. В иконографии, особенно русской, были распространены два типа Нерукотворного образа – «Спас на убрусе», т.е. на куске ткани, и «Спас на чрепии», т.е. на черепице или камне. Но во всех вариантах главное – это нерукотворный лик Иисуса Христа. В предании сохранились две версии происхождения нерукотворного образа. Одна из них была распространена на Западе, другая на Востоке. В первой повествуется о праведной Веронике, которая из чувства сострадания отерла Лик Спасителя своим платком, когда Он нес на Голгофу Крест. Тогда лик Христа чудесным образом запечатлелся на ткани. Западная иконография, а с XVII в. и русская, изобилует изображениями праведной Вероники, держащей в руках плат с запечатленным Ликом. Вторая история приводит нас в восточный город Эдессу, где правил Царь Авгарь. Заболев проказой, он тщетно искал исцеления. Услышав о Христе, послал к Нему своего слугу с приглашением посетить Эдессу. Спаситель отказался идти, но не отказался исцелить прокаженного. Христос попросил принести Ему чистый холст, который приложил к Своему лицу, и на этой ткани нерукотворно запечатлелся Его образ. Слуга доставил чудесный холст в Эдессу и Царь, приложившись к нему, тут же получил исцеление. Авгарь хранил этот чудотворный лик как величайшую святыню. Однажды Эдессу осадили враги, и исход битвы был неясен; тогда Авгарь приказал замуровать святыню в стену над воротами, чтобы она не подверглась осквернению от захватчиков. Но в самый разгар боя нерукотворный образ явил еще одно чудо – изображение проступило сквозь толщу стены и отпечаталось на фасаде. Увидев явление чудотворного Лика, враги в страхе отказались от осады города (см.: Языкова И. К. Богословие иконы: уч. пособие. М., 1995. С. 59–61).
Был принят в Русской Православной Церковью при Патриархе Никоне.
В качестве щитодержателей в геральдике используются фигуры людей, зверей, иногда вымышленных, которые с одной или двух сторон поддерживают щит. Символизм фигур указывал на достоинства, качественные отличия происхождения рода, конкретного лица, заслуги и поприще, с которым связаны эти отличия.
Изображения Ангелов в российской геральдике в качестве щитодержателей характерно для ряда русских княжеских родовых гербов потомков Господарей Молдавии и Валахии, высочайше утвержденных в Российской Империи в XIX в., например, князей Кантакузенов и Дабижа. Предки князей Кантакузенов даже занимали священный Константинопольский престол Цезарей Восточной Римской Империи. На гербе князей Кантакузенов щитодержатели – это два ангела в серебряной одежде, одной рукой поддерживающие щит, другой – пальмовые ветви (см.: Дворянские роды Российской империи. Т. 3. С. 223; История родов русского дворянства. Т. 2. С. 24–26). На гербе князей Дабижа щитодержатели – это также два серебряных ангела с распущенными золотыми волосами в лазуревом верхнем одеянии, усеянном золотыми лилиями; на их груди изображены две скрещенные серебряные ленты, украшенные золотыми крестиками; ангелы подпоясаны серебряными поясами и держат два лазуревых на золотых древках значка – повторяющиеся эмблемы соединенного щитка (см.: Дворянские роды Российской империи. Т. 3. С. 222).
Намет ведет свое происхождение от ткани, которой рыцарь покрывал свой шлем для того, чтобы предохранять его от непогоды и палящих лучей солнца.
Символика изображений из священных книг – изображения из акафиста Иисусу Сладчайшему (см.: Русские иконы. С. 38).
«И сказал Господь Моисею, говоря: и возьми у них жезлу от колена, от всех начальников их по коленам, двенадцать жезлов, и каждого имя напиши на жезле его; имя Аарона напиши на жезле Левиином, ибо один жезл от начальника колена их (должны они дать); и положи их в скинии собрания, пред ковчегом откровения, где являюсь Я вам».
«Паси народ Твой жезлом Твоим, овец наследия Твоего, обитающих уединенно в лесу среди Кармила; да пасутся они на Васане и Галааде, как во дни древние!».
«Чего вы хотите? с жезлом придти к вам, или с любовью и духом кротости?».
См.: Дмитриева Н. А. Краткая история искусств: От древнейших времен по XVI век: Очерки. Вып. 1. М., 1985 (с. 106 – Добрый Пастырь – роспись катакомб в Риме – гробница Присциллы, III в.; с. 114 – Христос – Добрый Пастырь – мозаика мавзолея Галлы Плацидии в Равенне, V в.).
Из Деяний VII Вселенского Собора – послание епископов Константинопольскому Патриарху Тарасию (см.: Хвалин А. Восстановление монархии в России. М., 1993. С. 5–7).
Русская Православная Церковь и право. М., 1999. С. 25–26.
Русская Православная Церковь и право. С. 27.
Цит. по: Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. М., 2000. С. 4.
Цыпин В. А. Церковное право. М.,1996. С. 418.
Книга правил святых Апостол, святых Собор Вселенских и Поместных и Святых Отец. Серг. Посад, 1992. С. 124–125.
Правила Православной Церкви с толкованиями Никодима, епископа Далматинско-Истрийского: в 2 т. М., 1994. Т. 1. С. 681.
Основные юридические сборники юстиниановой эпохи: Кодекс, Дигесты, Институции, Новеллы – легли в основу права Византии, а через нее и Древней Руси, оказав огромное влияние на весь христианский мир. С XII в., взятые вместе, они именовались Corpus Juris Civilis
Цит. по: Церковь и государство. М., 1997. С. 32.
Перевод прот. Г. Флоровского. Другой перевод новеллы VI: «Величайшие блага, дарованные людям высшею благостью Божией, суть священство и царство, из которых первое (священство, церковная власть) заботится о божественных делах, а второе (царство, государственная власть) руководит и заботится о человеческих делах, а оба, исходя из одного и того же источника, составляют украшение человеческой жизни. Поэтому ничто не лежит так на сердце царей, как честь священнослужителей, которые со своей стороны служат им, молясь непрестанно за них Богу. И если священство будет во всем благоустроено и угодно Богу, а государственная власть будет по правде управлять вверенным ей государством, то будет полное согласие между ними во всем, что служит на пользу и благо человеческого рода. Потому мы прилагаем величайшее старание к охранению истинных догматов Божиих и чести священства, надеясь получить чрез это великие блага от Бога и крепко держать те, которые имеем» (см.: Правила Православной Церкви с толкованиями Никодима, епископа Далматинско-Истрийского. Т. 1. С. 668).
Святейший Патриарх Никон данную норму Юстиниана также излагает в своем знаменитом «Возражении, или Разорении…» (разорение 23-му вопросу и ответу): «…царя Иустиниана главизна 1-я, сице глаголюща: Великая паче инех иже в человецех есть дара Божия. От вышняго дарована человеколюбия Божия, священничество же и царьство, ово убо Божественым служа, се же человеческими владея и пекийся. От единаго же и тогожде начала обоя происходят, человеческое украшающе житие. Якоже ничто же тако бывает поспешнее царьству сего ради, якоже святительская честь, о обоих самех тех присно Богови молятся. Аще бо они непорочни будут во всем и к Богу имут дерзновение и праведной подобно украшати начнут (л. 281об.) преданыя им грады и сущая под ними, будет согласие некое благо все, еже добро человечестей даруя жизни. Сему быти веруем, аще священных правил блюдение сохранится. Их же праведно похваляемии и покланяемии самовидцы Божию слову предаша апостоли и святии отцы сохраниша и заповедаша» (см.: Никон, Патриарх. Возражение или Разорение смиренаго Никона, Божиею милостию Патриарха, противо вопросов боярина Симеона Стрешнева, еже написа Газскому митрополиту Паисее Ликаридиусу, и на ответы Паисеовы // Патриарх Никон. Труды / научн. исследование, подготовка документов к изд., сост. и общ. ред. В. В. Шмидта. М., 2004. С. 281).
См.: Флоровский Г., прот. Догмат и история. М., 1998. С. 268; Зызыкин М. В. Царская власть в России. М., 2004.
Флоровский Г., прот. Указ. соч. С. 271. Здесь нужно заметить, что такому же, если не большему, давлению со стороны государства подверглась и Русская Церковь во время Святейшего Патриарха Никона, который отстаивал ее независимость от светской власти своим удалением от патриаршества, «давая место цареву гневу».
Флоровский Г., прот. Указ. соч. С. 269.
В этом смысле поучительно выглядят «Духовные наставления христианину (царю)», написанные Святейшим Патриархом Никоном Царю Алексею Михайловичу – см.: Патриарх Никон. Труды. С. 181–195.
Исаврийцы известны своим стремлением стать во главе церковной иерархии. Они прямо не ставили государство над Церковью, но действовали так, как будто император является епископом. Слова Льва III: «Воля моя – канон» – раскрываются в его письме папе Григорию II: «Познай, о папа, что я царь и священник в одном лице» (см.: Церковь и государство. С. 36).
Цит. по: Вернадский Г. В. Византийские учения о власти царя и патриарха: Сборник статей, посвященных памяти Н. А. Кондакова. Прага, 1926. С. 150–152. Те же мысли выражает в своем «Возражении или Разорении…», обращенном к Царю Алексею Михайловичу, Патриарх Никон – см.: Патриарх Никон. Труды. С. 228 (разорение 11-го вопроса и ответа); Шмидт В. В. Святоотеческие основы богословских воззрений Патриарха Никона // Там же. С. 929.
Деяния Поместного Собора Православной Российской Церкви: 1917–1918 гг. Т. 3. М., 1995. С. 95, 96.
Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. М., 2000. С. 19–20.
Зызыкин М. В. Патриарх Никон: Его государственные и канонические идеи: в 3 ч.. М., 1995. Ч. I. С. 49.
О жизни блаженного Василевса Константина // Четыре книги Евсевия Памфила, епископа Кесарии Палестинской. Кн. 3. Гл. 30.
Там же. Гл. 33.
Иннокентий, архиеп. Херсонский. Последние дни земной жизни Господа нашего Иисуса Христа. М., 1998. С. 95.
Иннокентий, архиеп. Херсонский. Указ. соч. С. 354.
Зызыкин М. В. Указ. соч. Ч. I. С. 84, 85.
Зызыкин М. В. Указ. соч. Ч. I. С. 123, 284.
«Все христиане поистине принадлежат к духовному сословию и между ними нет никакого различия, кроме только различия должностей»; «Посвящение епископа не что иное, как если бы он вместо целого собрания взял одного из толпы, в котором все имеют реальную власть, и приказал бы ему исполнять обязанности за других» [из обращения М. Лютера «Пресветлейшему, могущественнейшему Императорскому Величеству и христианскому дворянству немецкой нации» (1520 г.)] (см.: Лютер М. 95 тезисов. СПб., 2002); «…наши противники – я говорю о тех, кто имеет звание священника и по чьему наущению и подстрекательству против нас выступают все остальные» … (см.: Жан Кальвин. Наставления в христианской вере. М., 1977. Т. I. С. 14).
Лютер М. Указ. соч. С. 22.
Кальвин Ж. Указ. соч. С. 13.
См. в наст. сб.: Зимин С. Н. И жезл Лигарида процвел… С. 735.
В этой институциональной оппозиции «Церковь – государство» постоянно забывается тот факт, что общим полем приложения этих институтов является общество (человек). В предельности своих оснований Декрет скорее косвенно признавал-свидетельствовал Церковь де-факто, государство же, сливая его с обществом, он утверждал, но де-юре. На физической предметности общества осуществляется государство, но общество как метафизический организм утвержден в трансцендентном – надмирном, Божественном.
Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. М., 1995. Т. IV. С. 41.
Там же. Т. VI. С. 103.
Никон, Патриарх. Возражение или Разорение смиренаго Никона, Божиею милостию Патриарха, противо вопросов боярина Симеона Стрешнева, еже написа Газскому митрополиту Паисее Ликаридиусу, и на ответы Паисеовы/ (далее: Никон, Патриарх. Возражение, или Разорение…) / Патриарх Никон. Труды / научн. исследование, подготовка документов к изд., сост. и общ. ред. В.В. Шмидта. М., 2004. С. 262.
«Литовский статут» – кодифицированный сборник обычаев, постановлений земских сеймиков (урвалов и уставов) и королевских «привилеев». Первое издание – в 1529 г., второе – 1566, третье – 1588. Под влиянием Люблинской унии напечатан на русском языке при участии канцлера Льва Сапеги (см.: Энциклопедический словарь / под ред. Брокгауза и Эфрона).
Никон, Патриарх. Возражение или Разорение… С. 347, 404.
Никон, Патриарх. Возражение, или Разорение… С. 289.
Там же. С. 306.
Там же. С. 283.
Никон, Патриарх. Возражение, или Разорение… С. 181.
Там же. С. 257.
О том, как монастыри и приходы помогали государству в годы лихолетья, свидетельствует описание численности и состава русского войска в походе 1655 г. против Польши: «Наш владыка Патриарх (Антиохийский. – Авт.) спросил Московского Патриарха о численности войска, которое отправлялось теперь с Царем. Тот сказал: “300 тыс. собственного войска; из них 40 тыс. в полных железных доспехах постоянно находятся при Царе”. Это кроме тех, которых Царь послал со своими вельможами вперед себя. Патриарх продолжал: “Я дал ему 10 тыс. ратников с конями и оружием. От монастырей, находящихся в Московии, и от архиереев дано столько же, от каждого, сообразно с его средствами, с его угодьями и доходами; даже от самых малых монастырей Царь взял по одному человеку с вооружением, лошадью, припасами и деньгами на расход, ибо все монастыри пользуются щедротами Царя и пожалованными им угодьями, пока не наступит нужда, как теперь. Это сверх припасов, которые Царь обязал их доставить в Смоленск”. Келарь монастыря Св. Троицы сообщил нам, что они отправили с Царем 10 тыс. ратников и послали ему в Смоленск припасов: пшеницы, сухарей, муки, ржи, ячменя, овса для лошадей, масла и проч. Сочли, что это стоит более 2 тыс. динаров. Также было взято из других монастырей, по их степени. Из монастыря Кирилла Белоезерского, второго после Троицкого, прислали Царю сто ратников и более чем на 10 тыс. динаров припасов, которые были доставлены в Смоленск. Из Соловецкого монастыря прислали ему 5 тыс. динаров по причине дальнего расстояния». См.: Павел Алеппский, архидиакон. Путешествие Антиохийского Патриарха Макария в Россию в половине XVII в. М., 2005. Кн. IX. Гл. VI. С. 364.
Никон, Патриарх. Возражение или Разорение… С. 340.
Там же. С. 344
См.: Колотий Н. А. Преодоление средостения: власть, народ, Церковь (проблема имуществ, имущественное и земельное право в России) // Государство, религия, Церковь в России и за рубежом. 2007. № 1–2 (38–39); Чернега К. А. Передача Русской Православной Церкви зданий (строений, сооружений) Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря: некоторые правовые аспекты // Там же. 2009. № 2 (спецвыпуск). С. 29–50.
Никон, Патриарх. Возражение или Разорение… С. 228.
Там же. С. 245, 260.
Никон, Патриарх. Возражение или Разорение… С. 287.
Там же. С. 233
Никон, Патриарх. Возражение или Разорение… С. 457 (по ркп. – л. 1018).
Там же. С. 230 (по ркп. – л. 101).
Цит. по: Дубнов С. М. Краткая история евреев. Ростов н/Д, 1997. С. 321.
См.: Кальвин Ж. Наставление в христианской вере. М., 1977. Кн. IV. Гл. XVIII. Сл. 4.
Поршнев Б. Ф. Социальная психология и история. М., 1979. С. 8; Он же. Принципы социально-этнической психологии. М., 1964
См.: Астафьев П. Е. Смысл истории и идеалы прогресса: Философия нации и единство мировоззрения. М., 2000; Карсавин Л. П. Философия истории. СПб., 1993; Левицкий С. А. Трагедия свободы. М., 1995; Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. М., 1992; Тихомиров Л. А. Религиозно-философские основы истории. М., 1997; Bernheim E. Lehrbuch der historischen Methoden und der Geschichtsphilosophi. Leipzig, 1908; Aron R. Introduction à la philosophie de l’histiore. P., 1962; Huizinga J. A Definition of the Concept of History: Philosophi of History. Oxford, 1956.
См.: Нарочницкая Н. А. Россия и русские в мировой истории. М., 2004. С. 5.
Необходимо заметить, что доминирование в современной науке позитивистско-рационалистических тенденций не позволяет всесторонне и критично рассматривать собственно русскую историю в критериях ее философско-аксиологического целеполагания, т.е. в категориях христианско-православной картины мира с ее ценностными и социально-политическими аксиомами [см. в ч. III наст. трехтомника: Шмидт В. В. Православная Эйкумена и учение веры (в кратком изложении)]. Христианское толкование истории своей универсальностью связывает воедино не кажущиеся преемственными рационализм постмодерна, современный либертализм и эсхатологичность мира, позволяет найти корни современных идеологий и политических доктрин, проследить эволюцию внутреннего побуждения у личности прошлого к творчеству к противоположному – отстаиванию современным индивидом бытия без целеполагания.
Пивоваров Ю. С. Русская власть и исторические типы ее осмысления // Полития. 2000–2001. № 4. С. 5–35.
См. для сравнения: Боханов А. Н. Русская идея: От Владимира Святого до наших дней. М., 2005; Внешняя политика России (Историография): Сб. статей / сост. А. Л. Нарочницкий; отв. ред. С.Л. Тихвинский. М., 1988; Дипломатический словарь: в 3 т. М., 1984–1986; Дугин А. Основы геополитики: Геополитическое будущее России: Мыслить Пространством. М., 2000; Дусинский И. И. Геополитика России: (Цели нашей внешней политики). М., 2003; Зонова Т. В. Современная модель дипломатии: Истоки становления и перспективы развития. М., 2003; История дипломатии: в 4 т. / под. ред. В. П. Потемкина. М., 1941–1945; История дипломатии: в 5 т. / под ред. В. А. Зорина, В.С. Семенова, С. Д. Сказкина, В. М. Хвостова. М., 1959–1964; История внешней политики России: Конец XV–XVII в. М., 1999; Нарочницкая Н. А. Россия и русские в мировой истории; Очерки истории Министерства иностранных дел России: 1802–2002: в 3 т. М., 2002 (далее: Очерки истории МИД); Панарин А. С. Православная цивилизация в глобальном мире. М., 2003; Петров В. Л. Геополитика России: (Возрождение или гибель?). М., 2003; Похлебкин В. В. Внешняя политика Руси, России и СССР за 1000 лет в именах, датах и фактах: Вып. 1: Ведомства внешней политики и их руководители: Справочник. М, 1995; он же. Внешняя политика Руси, России и СССР за 1000 лет в именах, датах и фактах. IX–XX вв.: Вып. 2. Войны и мирные договоры: Справочник. М., 1995; Российская дипломатия: История и современность: Мат-лы научно-практич. конференции, посвященной 450-летию создания Посольского приказа. М., 2001.
См.: Бантыш-Каменский Н. Н. Обзор внешних сношений России (по 1800 год): в 4 ч. М., 1894–1902; см. также в наст. сб.: Лескин Д. Ю. Византийский идеал «симфонии» двух властей и его влияние на формирование церковно-государственных отношений в России. С. 1113.
См.: Сахаров А. Н. Международные аспекты крещения Руси // Вестник Академии наук СССР. 1988. № 10. С. 122–133.
См. в наст. сб.: Степнов П. П., Шмидт В. В. Морально-этическое сознание допетровской Руси: понятийно-категориальное осмысление славяно-русской философской мы
В системе ортодоксального миропредставления империя везде и всегда – глобальное устремление, восходящее к совокупному единству – социально-гражданскому царству. Ей в исторической динамике довлеет Царство в образе надмирной экклезиологической сущности, а Царству в свою очередь до влеет фундаментальный принцип-образ Боговластия и Богоуправления. Таким образом, христианская империя обращена не только к разным «племенам и языкам» – ее духовная предначертанность выше и шире зримых земных рубежей, она – кафолична, т.е. всемирно-безгранична, едина, а ее организационно-сущностное начало – в теоцентризме и теократизме.
Наличие в Москве Царя явилось главным аргументом для учреждения Патриаршества. Москва получает Патриарха именно как Царствующий град, т.е. на том же основании, которое за тысячу лет до этого определило особое иерархическое место Константинопольского Патриархата. Только после устроения Царства и Патриаршества Русь обретает свою царско-имперскую сущность и мировое предназначение (см.: Борисов Н. С. Церковные деятели средневековой Руси XIII–XVII вв. М., 1988; Маркович Н. Богомольные выходы древних Русских Царей по сравнению с такими же выходами Византийских Императоров // Христианские древности (Приложение к журналу «Русские древности»). 1872. Т. 1; Успенский Б. А. Царь и Патриарх. Харизма власти в России: Византийская модель и ее русское переосмысление. М., 1998; Хомяков Д. А. Православие, Самодержавие и Народность. Монреаль, 1983)
История библейских царств, которая была хорошо известна на Руси по книгам Ветхого Завета и толкованиям их, утверждала Русских Царей в мысли, что Божия милость не дается отныне и навсегда, что ее надо не только заслужить, но и подтверждать беспрестанным подвижническим служением. Поэтому предназначение и Русской земли, и Руси начало трактоваться не как продолжение «грецкой земли», а как самостоятельное служение «в ряду других христолюбивых народов» (см. в наст. сб.: Шмидт В. В. Патриарх Никон: наследие русской истории, культуры и мысли. § III, IV. С. 781–792).
См.: Захаров Н. А. Система русской государственной власти. М., 2002. С. 21; Савва В. И. Московские цари и византийские василевсы: К вопросу о влиянии Византии на образование идеи царской власти московских государей. Харьков, 1901. Здесь уместно указать на отличительную черту русского сознания и отношения к жизни, характерную для всего русского общества от аристократа до крестьянина, – презрение к так называемому мещанству как воплощению мелкобуржуазных добродетелей, включающих как предпринимательский дух, описанный М. Вебером, так и «мещанский» идеал среднего стабильного достатка и комфорта. Русский интуитивно отторгает и презирает «умеренность и аккуратность» как черту «коллективной посредственности и деградации всякой яркой индивидуальности» (см.: Нарочницкая Н. А. Россия и русские в мировой истории. С. 51).
См.: Алпатов М. А. Русская историческая мысль и Западная Европа XII–XVII вв. М., 1973; Вальденберг Г. Древнерусские учения о пределах царской власти. Пг., 1916; Зызыкин М. В. Царская власть в России. М., 2004.
См.: Нарочницкая Н. А. Россия и русские в мировой истории. С. 50.
Посольский приказ с начала XVII в. превращается в своеобразный культурный и идеологический центр страны. Этому объективно способствовала специфика его деятельности. B стенах Приказа зародилась мысль о необходимости составления трудов по истории Отечества, которые отражали бы величие Русской державы и ее монарха, утверждали бы международный авторитет государства. Посольский приказ являлся своего рода центром идеологического обоснования существующего строя и официальной историографии.
В июне 1621 г. Посольский приказ выпустил первую русскую рукописную газету «Куранты» (составлялась в одном экземпляре, ее содержание считалось государственной тайной, так как в ней были представлены выдержки из иностранных газет о событиях в Европе). Читали эту газету лишь Царь и его ближайшее окружение. Начиная с 1672 г. под руководством главы приказа А. С. Матвеева выходят официальная история Российского государства «Титулярник, или Корень Великих Государей Российских…», «Книга о избрании на превысочайший престол великого Российского Царствия Михаила Федоровича всея великой России Самодержца», «История о Царях и Великих Князях Земли Русской» и «Родословие Великих Князей и Царей Российских» (авторы двух последних книг – переводчики приказа Ф. Грибоедов и П. Долгово) [см.: Кудрявцев И. М. Издательская деятельность Посольского приказа: (К истории русской рукописной книги во второй половине XVII в.) // Книга: Исследования и материалы. Сб. VIII. М., 1963. С. 179–244].
Очерки истории МИД. Т. I. С. 125.
См.: Иларион, митр. Слово о законе и благодати // Срезневский В. Мусин-Пушкинский сборник 1414 года в копии начала ХIХ-го века. СПб., 1893; Летопись по Лаврентьевскому списку (Изд. Археографич. Комиссии). СПб., 1872; Малинин В. Н. Старец Елеазарова монастыря Филофей и его послания: Историко-литературное исследование. Киев, 1901; Никон, Патриарх. Духовные наставления христианину; Возражение или Разорение смиренаго Никона, Божией милостию Патриарха, противо вопросов боярина Симеона Стрешнева, еже написа Газскому митрополиту Паисию Ликаридиусу, и на ответы Паисеовы // Патриарх Никон. Труды / научн. исследование, подг. документов к изд., сост. и общ. ред. В. В. Шмидта. М., 2004. С. 181–195, 197–463; Слово о погибели земли Русской // Памятники древней письменности. СПб., 1892. Т. 84; Сочинения И. Пересветова. М.; Л., 1956; Домострой. СПб., 1902; Послания Ивана Грозного. М.; Л., 1951; Сочинения князя Курбского (Т. 1) // РИБ. T. 25. СПб., 1914; Собрание сочинений Юрия Крижанича. Вып. 1–11. М., 1891–1892.
См: Очерки истории МИД. Т. 1. С. 113–114; см. также: Назаренко А. Русское самосознание между царством и церковью. М., 2002.
См.: Демидова Н. Ф., Морозова Л. Е., Преображенский А. А. Первые Романовы на Российском престоле. М., 1996; Коллинс С. Нынешнее состояние России // Утверждение династии: История России и дома Романовых в мемуарах современников XVII–XX вв. М., 1997.
Отец первого Царя из династии Романовых Патриарх Филарет, оказывавший большое влияние и на иностранные дела, придумал тайную азбуку, с помощью которой русские послы, состоявшие при иноземных дворах, сообщали сведения в Москву. Сохранилась составленная им цифирная азбука, написанная «своею Государевою Святейскою рукою» и переданная им думному дьяку И. Грязеву для ведения переписки с послами и агентами, находившимися за рубежом, «для своих государственных и посольских тайных дел, любо случитца в которое государство их Государевым послом и посланником или гонцом или агентом писати о каких о великих о их государьских делех, и им бы писати к сим к государем таким затейным писмом, чтоб было в тех землях незнатно». Еще более вошло в обычай тайнописание при Царе Алексее Михайловиче, который использовал его и в своей частной переписке внутри государства (см.: Лавровский П. А. Старорусское тайнописание. М., 1870; Попов А. Н. Дипломатическая тайнопись // Записки Санкт-Петербургского археологического общества. Т. 15. СПб., 1853. С. 156–162).
Эта мысль отражена практически в каждом школьном и университетском учебнике истории, поэтому приводить фамилии авторов, ее разделяющих, не считаем целесообразным.
Осознание в русской традиции принадлежности к Православной Эйкумене начало складываться еще до XIV в. Одним из примеров может служить Куликовская битва: нa поле Куликово вышли рязанцы, москвичи, владимирцы, псковитяне, а с Куликова поля они вернулись русскими. Целый пласт произведений, образующих так называемый Куликовский цикл, свидетельствует о саморефлексии, согласно которой Русь одолела татаро-монголов лишь поднявшись на защиту святынь Православия, а не политических или земельных интересов. Осмысление религиозного содержания власти как служения и ревности о вере, а не только о владении, начавшееся еще в Киевской Руси в годы монгольского ига, получило окончательное толкование – выросло национальное сознание, сказывавшееся прежде в отдельных умах (Андрей Боголюбский). «Русский народ, по контрасту с азиатской тьмой навалившегося на него татарского ига, сначала языческого, а потом мусульманского (XIII–XV вв.) сразу же осознал себя носителем света Христовой веры, защитником ее от неверных, а свою землю почувствовал как «святую Русь». «Святую» в противоположность всем иным землям, оскверненным ересями, иноверием и неверием. Русский народ в этот момент исторически почувствовал себя совершеннолетним, духовно вырос в великую нацию» писал А.В. Карташев [Карташев А.В. Церковь. История. Россия: Статьи и выступления. М., 1996. С. 55; см. также: Он же. «Святая Русь» в путях России // Курсы к познанию России. М., 1938; Он же. Очерки по истории Русской Церкви: в 2 т. М., 1992; Савельева М. Ю. Трансформация представлений о «Святой Руси» от Царства к Империи // Человек верующий в культуре Древней Руси: Мат-лы междунар. конференции (5–6 декабря 2006 г.). СПб., 2005. С. 42–60].
См.: Аграрная история северо-запада России XVII века (население, землевладение, землепользование). Л., 1989; Архив Южной и Западной России. Киев, 1908; Вопросы этногенеза и этнической истории славян и восточных романцев. М., 1976; Златковская Т.Д. К проблеме античного наследства у южных славян и восточных романцев // Советская этнография. 1978. № 3; Кобзарева Е. И. Дипломатическая борьба России за выход к Балтийскому морю в 1655–1661 годах. М, 1998; Кучкин В. А. Формирование государственной территории Северо-Восточной Руси в X–XIV вв. М., 1984; Ламанский В. И. О славянах в Малой Азии, в Африке и в Испании. М., 1859; Форстен Г. Балтийский вопрос в XVI и XVII вв.: в 2 т. СПб., 1894; Нарочницкий А. Л. Значение письма И. В. Сталина «О статье Энгельса “Внешняя политика русского царизма”» для советской исторической науки. М., 1951; Наумов Е. П., Арш Г. Л., Достян И. С., Виноградов В.Н. Балканы в международной жизни Европы (XV–XIX вв.) // Балканские исследования. Вып. 7: Исторические и историко-культурные процессы на Балканах. М., 1982; Некрасов А. М. Крым – центр причерноморской контактной зоны // Контактные зоны в истории Восточной Европы. М., 1995. 1 Суттнер Э. Христианство Востока и Запада: В поисках зримого проявления единства / пер. с нем. О. И. Величко. М., 2004. С. 230.
Суттнер Э. Христианство Востока и Запада: В поисках зримого проявления единства / пер. с нем. О. И. Величко. М., 2004. С. 230.
Вторую половину XVII в. и особенно период царствований Алексея Михайловича (1645–1676 гг.) и Федора Алексеевича (1676–1682 гг.) можно назвать временем расцвета Посольского приказа (см.: Рогожин Н. М. Посольский приказ: колыбель российской дипломатии. М., 2003. С. 38). Заметно возросло общегосударственное значение этого ведомства, повысился статус его начальников. По сравнению с другими аналогичными учреждениями Посольский приказ находился в привилегированном положении и пользовался существенной финансовой поддержкой со стороны правительства.
Это название восходит к книгам, употребляемым в церковно-богослужебной традиции, – стихирарям. Стихирарь включает в свой состав около 90 чинопоследований (по преимуществу это чины русским святым, канонизированным на Соборах середины XVI в., и преподобным основателям древнего монашества; с середины XVII в. cтихирарь получает название «Дьячее око». «Дьячее око» является «энциклопедией», своеобразным певческим пантеоном русских святых, развернутым в связи с концепцией «Москва – Третий Рим» (см.: Кручинина А. Н. Головщик иеродьякон Григорий Жернов: история его книг и деяний // Социальные конфликты в России XVII–XVIII веков: Мат-лы Всерос. науч.-практ. конференции. Саранск, 2005. С. 284–294).
Следует отметить, что наиболее важные посольства торжественно встречало и провожало московское духовенство с пением молебнов, идя пешком за городской посад вместе с придворными чинами, дворянами и толпами простого народа. С посольскими миссиями посылались почитаемые иконы, иногда в драгоценных окладах, – «образа древнего писания, обложены золотом и серебром, с жемчуги и з каменьями». Иконы были необходимы не только для соблюдения православного молитвенного обряда, но и служили своего рода духовным щитом, защитой от иноверцев.
См.: Самодержавное царство первых Романовых / сост., автор вступ. статьи, коммент. Г. В. Талина; под ред. С. В. Перевезенцева. М., 2004.
Толкование Государя и Царства как «удерживающего от свершения тайны беззакония» и устроенного по образу «Царь Небесный – царь земной», при этом земной царь ответствен лишь перед Отцом Небесным; легло в основу гражданско-церковного идеала Святой Руси, невидимого града Китежа, недоступного Антихристу, и стало религиозной основой русского православного самодержавия (см.: Нарочницкая Н. А. Россия и русские в мировой истории. С. 36).
Очерки истории МИД. Т. I. С. 113.
Если русские люди не уберегут переданного Божественным Промыслом им на сохранение Православия, то Третий Рим – Москва тоже падет. Последствия этого будут необратимо гибельны, так как у ветхого Рима был наследник – новый Рим – Константинополь, у того преемником стала Москва, она же не будет иметь наследников, так как «четвертому Риму» быть невозможно. За Москвой лишь Горний Иерусалим. Если погибнет Москва как носитель праведной веры, то погибнет Православие в мире, и русские люди уже одни будут неизбывно виноваты в этой гибели (см.: Нарочницкая Н. А. Россия и русские в мировой истории. С. 122; Шмидт В. В. Церковное и социально-политическое служение Патриарха Никона // Патриарх Никон. Труды. С. 473; см. также: Рогожин Н. М. Культура и вероисповедание: Посольский диалог Средневековья // Россия – XXI век. 1997. № 1–2. С. 104–111.
См.: Суттнер Э. Указ. соч. С. 156.
См.: Вопросы этногенеза и этнической истории славян и восточных романцев. М., 1976; Еремеев Д. Е. Язык как этногенетический источник // Советская этнография. 1967. № 4; Роль религии в формировании южнославянских наций. М., 1999.
Суттнер Э. Указ. соч. С. 180–181.
Theodorou E.D., prof. The Church of Creece. Athens, 1967. P. 8–10.
Н. В. Синицына, исследуя развитие и бытование концепции «Москва – Третий Рим», считает, что «Третьим Римом» именовалась не Москва, а «Великая Россия» в целом, т.е. Московское царство. Она подчеркивает связь этой концепции с событиями церковной истории, неразделимость судеб священства и царства, предлагает собственно религиозное осмысление этой парадигмы и говорит, что широкое распространение имеет необоснованная политическая трактовка – прежде всего два историографических клише: характеристика этой идеи как официальной государственной доктрины и подмена ее понятием второго Рима (второго Константинополя), т.е. сведение идеи к «византийскому наследию» (см.: Масса А. Краткое известие о начале и происхождении современных войн и смут в Московии // О начале войн и смут в Московии. М., 1997; Певольф Дж. Славянская взаимность с древнейших времен до XVIII века. СПб., 1874; Он же. Славяне и их взаимные отношения и связи. Варшава, 1898; Синицына Н. В. Третий Рим: Истоки и эволюция русской средневековой концепции. М., 1998. С. 9).
Такое единство было заложено еще в первые века Христианства: после распятия и воскресения Иисуса Христа возникла Церковь и началось ее распространение по всему миру. Это распространение было связано с деятельностью апостолов в конкретных социально-исторических и этнонациональных обстоятельствах, которые определили многообразие традиций христианского мира, а вместе с тем и его духовное единство. Общность ценностей, единомысленность в важнейших аксиолого-онтологических, экклезио-канонических вопросах задали перспективу становления христианской цивилизации и сформировали ее характерные особенности, соответствующие принципу «отцовско-материнского наследия»: неразрывность исторической духовно-культурологической связи просветителя народа с традицией устроенной в нем Церкви, а впоследствии – духовное единство Церкви-матери с дочерней Церковью и Церковью-сестрой (см. в ч. III наст. трехтомника: Шмидт В. В. Православная Эйкумена и учение веры (в кратком изложении); Болотов В.В. Лекции по истории Древней Церкви: в 2 ч. / под ред. А. Бриллиантова. СПб., 1907–1910; Заболотский Н. А. Богословское и экклезиологическое значение Вселенских и Поместных соборов Древней Церкви // Богословские труды. 1970. № 5; Правила святых Апостол, святых Соборов Вселенских и Поместных и Святых Отец. М., 1993; Скурат К. Е. История Поместных Православных Церквей: в 2 т. М., 1994; также о доминирующих кросскультурных и этнопсихологических представлениях, ощущениях в восприятии современного российского общества см.: Петренко В. Ф., Митина О. В., Бердников К. А. Психосемантический анализ геополитических представлений России // Психологический журнал. Т. 21. 2000. № 2. Март–апрель. С. 49–70).
См.: Дугин А. Основы геополитики: Геополитическое будущее России: Мыслить Пространством; Дусинский И. И. Геополитика России: (Цели нашей внешней политики). С. 48; также см.: Петров В. Л. Геополитика России: (Возрождение или гибель?).
См.: Жигарев С. Русская политика в восточном вопросе. М., 1896. С. 37; также см.: Ламанский В. И. Три мира Азийско-Европейского материка. СПб., 1892; Мэхэн А. Т. Влияние морской силы на историю: 1660–1783. М.; Л., 1941; Семенов-Тян-Шанский В. П. О могущественном территориальном владении применительно к России: Очерк по политической географии. СПб., 1915.
Об эволюции титулования Русских царей XVII в. см.: Самодержавное царство первых Романовых. С. 92–103. К концу XVII в. устанавливается следующая форма титулования: «Божией милостию, мы, Великий Государь, Царь и Великий Князь (имя и отечество Царя), всея России Самодержец, Московский, Киевский, Владимирский и Новгородский, Царь Казанский, Царь Астраханский, Царь Сибирский, Государь Псковский и Великий Князь Тверский, Югорский, Пермский, Вятский, Болгарский, Ростовский, Ярославский, Белозерский, Угорский, Обнорский, Кондийский и всея Северныя страны повелитель и Государь Иверския земли, Карталинских и Грузинских царей и Кабардинския земли, Черкасских и Горских князей и иных многих государств Государь и обладатель» [см.: Собрание Государственных грамот и договоров, хранящихся в Государственной коллегии иностранных дел: В 4 т. М., 1813–1828 (далее: СГГиД). Т. III. № 183].
Очерки истории МИД. Т. I. С. 77.
Главной причиной конфликта служило стремление Фердинанда II восстановить в германских землях путем объединения множества мелких княжеств свою власть, ослабленную Реформацией. Этому всеми силами препятствовала Франция Людовика XIII, фактически возглавляемая кардиналом Ришелье. Превратив дипломатию в искусство и умело его используя, Ришелье привлек на сторону Франции сначала Датского, а затем и Шведского Короля, одновременно заручившись поддержкой германских князей-протестантов против Императора-католика. В результате Вестфальского мира фактически перестала существовать Священная Римская империя германской нации; Голландия и Швейцария получили независимость; Швеция завладела побережьем Балтийского и Северного морей с устьями впадающих в них рек, а Франция – Эльзасом; Германия оставалась расчлененной на множество удельных княжеств (лишь во второй половине XIX в. «железный канцлер» Отто фон Бисмарк вновь начнет объединительный процесс).
Так была сформирована Вестфальская система международных отношений, скрепленная международно-правовыми документами (24.10.1648 – Оснабрюкский и Мюнстерский договоры), положившая тем самым начало классического международного права, которое формировалось в последующие столетия. В международной практике стали активно закрепляться на институциональном уровне такие понятия, как «равноправие государств» и их «суверенитет», «государство-нация», «государственно-национальные интересы»; признавались суверенитет государства на его территорию, ограничение войны в ответ на нарушение договора; в посольском (дипломатическом) праве утвердился принцип неприкосновенности посла и посольских помещений, изменялся статус консулов – была заложена основа современной европейской дипломатической системы.
Вестфальский договор также фиксировал секуляризационные процессы и особо оговаривал равенство прав католиков, кальвинистов и лютеран, содержал правовые нормы, касающиеся территориального церковного устройства и распределения церковной собственности, включив тем самым религиозные вопросы в систему международных договоренностей. Впоследствии вопросы обеспечения религиозной деятельности войдут и в Парижский мирный договор (1856), и в Берлинский трактат (1878), и в Версальский мирный договор (1919), и другие договоры Версальской системы (1919–1923).
Статус и права Православной Церкви станут предметом ряда статей Русско-польского договора о «вечном мире» (1681–1686), Кючук-Кайнарджийского мирного договора между Турцией и Россией (1774), Рижского мирного договора между РСФСР, УССР и Польшей (1921). Все это явится основой для современного международно-правового регулирования участия религиозных организаций в международных отношениях [см.: Алпатов М. А. Что знал Посольский приказ о Западной Европе во второй половине XVII в. // История и историки: Историография всеобщей истории. М., 1966; Грабарь В. Э. Материалы к истории литературы международного права в России (1647–1917). М., 1958; История внешней политики России: Конец XV–XVII век: От свержения ордынского ига до Северной войны / под ред. А.В. Игнатьева и др. М., 1999; Коровин Е. А. История международного права. М., 1946; Баскин Ю. А., Фельдман Д. И. История международного права. М., 1990; Поршнев Б. Ф. К вопросу о месте России в системе европейских государств в XV–XVIII вв. // Ученые зап. Академии общественных наук. Вып. 2. М., 1948. С. 5–33; Сергеев Ф. П. Русская дипломатическая терминология XI–XVII вв. Кишинев, 1971; Юзефович Л. А. «Как в посольских обычаях ведется…». М., 1988].
Россия была заинтересована в победе антигабсбургского протестантского лагеря: не считая для себя целесообразным активное военное выступление в войне из-за провалов переговоров о союзе с Англией и Данией, Россия на льготных условиях снабжала страны антигабсбургского лагеря хлебом и селитрой. В 1622–1625 гг. русское правительство выдавало разрешение на вывоз хлеба только англичанам и голландцам, после 1625 г. первое место в вывозе хлеба занимает Дания, с 1629 г. – Швеция. Взаимные торговые интересы складывались вокруг идеи единства православных и протестантов в борьбе с католиками и их влиянием (История внешней политики России: Конец XV–XVII век. С. 226).
См.: Черепнин Л. В. «Смута» в историографии XVII века // Исторические записки. 1945. № 14. С. 81–128. О дипломатических интригах с Россией шведской, французской и турецкой дипломатии см.: История внешней политики России: Конец XV–XVII век. С. 227–232.
Первые постоянные дипломатические представительства Русского Царства были учреждены в Швеции и Речи Посполитой в 1634 и 1673 гг. соответственно (см.: Дипломатическая служба: Учеб. пособ. / под ред. А.В. Торкунова. М., 2002. С. 14; Волкова Н. Г. Статейные списки русских посольств XVI–XVII вв. как этнографический источник // Кавказский этнографический сборник. 1976. № 6.
См.: Похлебкин В. В. Внешняя политика Руси, России и СССР за 1000 лет в именах, датах и фактах. Вып. I: Ведомства внешней политики и их руководители: Справочник. М., 1995; Рогожин Н. М. Посольский приказ: Колыбель российской дипломатии. М., 2003; также см.: Бантыш-Каменский Н. Н. Обзор внешних сношений России: в 4 ч. М., 1894–1902; Белокуров С. А. Списки дипломатических лиц русских за границей и иностранных при Русском дворе (с начала сношений по 1800 г.). М., 1892; Иностранные дипломаты о России XVI–XVII веков // Проезжая по Московии: Россия XVI–XVII веков глазами дипломатов / сост. Г. И. Герасимова; отв. ред. Н. М. Рогожин. М., 1991; Мартенс Ф. Ф. Собрание трактатов и конвенций, заключенных Россией с иностранными державами: Т. 1, 2, 5, 6, 9 (10), 13. СПб., 1874–1902; Международные связи России до XVII в. М., 1984; Минцлов С. Р. Обзор записок, дневников, воспоминаний, писем и путешествий, относящихся к истории России и напечатанных на русском языке: в 3 вып. Новгород, 1911; Памятники дипломатических сношений древней России с державами иностранными. Т. 1–10. М., 1851–1871; Полное собрание законов Российской империи: Собрание первое. СПб., 1830. Т. 1–3; Путешествия русских послов XVI–XVII вв. М.; Л., 1954; Сказания иностранных писателей о России, изданные Археографическою комиссиею: в 2 т. СПб., 1851–1868.
См.: Александренко В. Дипломатическое представительство Пап // Журнал юридического общества. СПб., 1894. Ноябрь; Брикнер А. Г. Русские дипломаты-туристы в Италии в XVII столетии // Русский вестник. 1877. № 3, 4, 7; Россия и Италия: Сб. исторических материалов и исследований, касающихся сношений России с Италией: В 4 т. СПб.; Л., 1907–1927; Васильев А. А. Латинское владычество на Востоке. Л., 1923; Корелин М. С. Важнейшие моменты в истории средневекового папства. СПб., 1901; Лурье Я. С. Католическая реакция и подготовка интервенции против Русского государства (конец XVI – начало XVII в.) // Ежегодник Музея истории религии и атеизма. 1957. М.; Л., 1957. Т. 1. С. 350– 361; Пирлинг П. Паисий Лигарид: Дополнительные сведения из римских архивов // Русская старина. 1902. Т. 109; Путешествие в Московию барона Августа Майерберга. М., 1874; Рисунки к путешествию по России римско-католического посланника барона Майерберга в 1661 и 1662 годах / изд. Федором Аделунгом. СПб., 1827; Сказание Адольфа Лизека о посольстве от Императора Римского Леопольда к Великому Царю Московскому Алексею Михайловичу в 1675 году. СПб., 1837; Суттнер Э. Христианство Востока и Запада: В поисках зримого проявления единства. М., 2004; Чарыков Н. В. Посольства в Рим и служба в Москве Павла Манезия (1637–1694). СПб., 1906.
См.: Дебидур А. Дипломатическая история Европы: в 2 т. / пер. с фр. Ростов н/Д, 1995 (с изд. 1905 г.); Капустин М. Дипломатические сношения России с Западной Европой во второй половине XVII века. М., 1852; О путешествии из Вены в Москву в 1655 году Франца Гундулича // Чтения в историч. общ-ве Нестора Летописца. Киев, 1907. Кн. 20. Вып. I; Памятники дипломатических сношений древней России с державами иностранными. Т. VIII: Памятники дипломатических сношений с Римской империей. СПб., 1867; Флоря Б. Н. Русско-австрийские отношения на рубеже XVI–XVII вв.: (Посольство А. Власьева в Империю) // Международные связи стран Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы и славяно-германские отношения. М., 1968; Он же. Россия и чешское восстание против Габсбургов. М., 1986.
См.: Казакова Н. А. Статейные списки русских послов в Испанию XVII в. // Археографический ежегодник за 1984 год. М., 1986. С. 140–157; Ламанский В. И. О славянах в Малой Азии, в Африке и в Испании М., 1859.
См.: Жордания Г. Г. Очерки по истории франко-русских отношений конца XVI и первой половины XVII в.: в 2 ч. Тбилиси, 1959; Люблинская А. Д. Франция в начале XVII в.: (1610–1620 гг.). Л., 1959; Порш нев Б. Ф. Франция, Английская революция и европейская политика в середине XVII века. М., 1970; Россия начала XVII века: Записки капитана Маржерета / сост. Ю. А. Лимонов. М., 1982.
См.: Гамель И. Англичане в России в XVI и XVII столетиях: в 2 т. СПб., 1865–1869; Любименко И. История торговых отношений России с Англией. Юрьев, 1912; Он же. Проекты англо-русского союза в XVI и XVII веках. М., 1916; Он же. Английский проект 1612 г. о подчинении русского Севера протекторату Якова I. Б. м., б. г.; Посольская книга по связям России с Англией 1613–1614 гг. / под ред. В. И. Буганова. М., 1979; Розенталь П. А. Борьба за колонии и мировые пути. Ч. 1. М.; Пг., 1923; Толстой Ю. Списки с царских грамот, хранящихся в Лондонском Королевском архиве. М., 1862; Hanway J. An Historical Account of the British Trade over the Caspian Sea; with the Authors Journal of Travels from England through Russia into Persia; and Back through Russia, Germany and Holland. V. 1. L., 1754.
См.: Гадзяцкий С. С. Карелия и Южное Приладожье в Русско-шведской войне 1656–1658 гг. // Исторические записки. 1941. Т. 11; Кордт В. Донесения И. де Родеса, посланные из Москвы шведскому генерал-губернатору в Риге графу Густаву Карлссону Горну 20 октября 1652 г. // Юбилейный сборник историко-этнографического кружка при Университете св. Владимира. Киев, 1914; Курц Б. Г. О состоянии России в 1650–1655 гг. по донесениям Родеса. М., 1915; Пальмквист Э. Некоторые заметки о России, ее дорогах, крепостях и границах, сделанные во время последнего Королевского посольства к Царю Московскому в 1674 году. Новгород, 1993; Поршнев Б. Ф. Тридцатилетняя война и вступление в нее Швеции и Московского государства. М., 1976; Русско-шведские экономические отношения в XVII веке: Сб. документов. М.; Л., 1960; Семенов В. К. К истории сношений со Швецией: Отрывки шведского дневника времен Царя Алексея Михайловича // ЧОИДР. 1912. Кн. 1; Форстен Г. В. Сношения Швеции и России во второй половине XVII века: (1648–1700) // ЖМНП. 1898. Февр.; Шаскольский И. П. Столбовский мир 1617 г. и торговые отношения России со Шведским государством. М., 1964; Экономические связи между Россией и Швецией в XVII веке. М.; Стокгольм, 1978; Якубов К. Россия и Швеция в первой половине XVII века. М., 1897.
См.: Антонович В. Б. Очерк состояния Православной Церкви в Юго-Западной России с половины XVII до конца XVIII столетия // Монографии по истории Западной и Юго-Западной России. Т. 1. Киев, 1885; Абецедарский Л. С. Белоруссия и Россия: Очерки русско-белорусских связей второй половины XVI–XVII в. Минск, 1978; Мальцев А. Н. Россия и Белоруссия в середине XVII века. М., 1974; Документы, объясняющие историю западно-русского края и его отношения к России и Польше. СПб., 1865; Бандтке Г. С. История государства Польского. СПб., 1830; Флоря Б. Н. К истории переговоров о русско-польском антиосманском союзе в сер. 40-х гг. XVII в. // Славяне и их соседи. М., 1900; Бантыш-Каменский Д. Н. История Малой России от водворения славян в сей стране до уничтожения гетманства. Киев, 1903; Голубуцкий В. А. Дипломатическая история освободительной войны украинского народа 1648–1654 гг. Киев, 1962; Воссоединение Украины с Россией: Сб. документов. М., 1954; Баранович А. И. Опустошение и восстановление Правобережной Украины во второй половине XVII – начале XVIII в. // История СССР. 1960. № 5; Думин С. В. Другая Русь (Великое княжество Литовское и Русское) // История Отечества: люди, идеи, решения: Очерки истории России IX – начала XX в. М., 1991; Заборовский Л. В. Россия, Речь Посполитая и Швеция в середине XVII в.: Из истории международных отношений в Восточной и Юго-Восточной Европе. М., 1981; Карпов Г. Киевская митрополия и Московское правительство во время соединения Малороссии с Великой Россией // Православное обозрение. 1871. Август; Заборовский Л. В. Католики, православные, униаты: Проблемы религии в русско-польско-украинских отношениях конца 40-х – 80-х гг. XVII в.: Документы. Исследования. М., 1998; Титов Ф. Окончательный переход Киева от Польши к России по договору о вечном мире между ними в 1686 г. Киев, 1904; Он же. Русская Православная Церковь в Польско-Литовском государстве в XVII–XVIII вв. (1654–1795). Т. I: Западная Русь в борьбе за веру и народность в XVII–XVIII вв.: Опыт церковно-исторического исследования. Киев, 1905; Флоря Б. Н. Русско-польские отношения и политическое развитие Восточной Европы во второй половине XVI – начале XVII в. М., 1978.
См.: Балканские исследования. Вып. 2: Проблемы истории и культуры. М., 1976. Вып. 3: Освободительные движения на Балканах. М., 1978. Вып. 7: Исторические и историко-культурные процессы на Балканах. М., 1982; Виноградов В. Н. Россия и объединение румынских княжеств. М., 1961; Дмитров С., Манчев К. История на балканските народи XV–XIX век. София, 1971; Исторические связи народов СССР и Румынии в XV – начале XVIII в. М., 1968; Семенова Л. Е. Русско-валашские отношения в конце XVII – начале XVIII в. М., 1969; Тихомиров М. Н. Исторические связи русского народа с южными славянами с древнейших времен до половины XVII века // Славянский сборник. М., 1947; Якшич Д. Н., прот. Из церковной истории православных сербов конца XVII века: Переход православных сербов из Турции в Австро-Угрию в 1690 г. под руководством Печского Патриарха Арсения III Черноевича. Прага, 1912.
См.: Галактионов И. В. Молдавское посольство А. Л. Ордина-Нащокина. Саратов, 1976; Иовва И. Ф. Из истории русско-греко-молдавских революционных связей // История СССР. 1971. № 3; Посольская книга по связям Молдовы с Россией (1684, 1690–1691) / сост. И. А. Еремия, Н. М. Рогожин. Кишинев, 1993; Лукьяненко В. И. Издания кириллической печати XV–XVII вв. (1494–1688 гг.): Для южных славян и румын: Каталог книг из собрания Гос. публ. б-ки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. Л., 1979; Мохов Н. А. Очерки истории молдавско-русско-украинских связей. Кишинев, 1961; Россия, Польша и Причерноморье в XV–XVIII вв. М., 1979.
См.: Восточные источники по истории народов Юго-Восточной Европы. М., 1961; Гроте Г. По азиатской и европейской Турции. М., 1904; Восточные источники по истории народов Юго-Восточной и Центральной Европы / под ред. А. С. Тверетиновой: В 2 т. М., 1969; Жигарев С. Русская политика в восточном вопросе: Ее история в XVI–XIX веках, критическая оценка и будущие задачи. М., 1896; Смирнов Н. А. Россия и Турция в XVI–XVII веках: в 2 т. // Ученые записки Моск. гос. ун-та им. М. В. Ломоносова. Вып. 94. М., 1946.
См.: Новосельский А. А. Борьба Московского государства с татарами в первой половине XVII в. М., 1948; Материалы по археологии, истории, этнографии Таврии. Вып. III. Симферополь, 1993; Пашков Ф. Памятники дипломатических сношений Крымского ханства с Московским государством в XVI и XVII вв., хранящиеся в Московском главном архиве Министерства иностранных дел. Симферополь, 1891; Смирнов В. Д. Крымское ханство под верховенством Оттоманской Порты до начала XVIII века. СПб., 1887; Санин Г. А. Отношения России и Украины с Крымским ханством в середине XVII в. М., 1987
См.: Витсен Н. Путешествие в Московию 1664–1665 / пер. со старо-голл. В. Трисман. СПб., 1996; Записки о России XVII и XVIII века по донесениям голландских резидентов // Вестник Европы. 1868. Ч. 1, 8; Кордт В. Л. Очерк сношений Московского государства с республикой Соединенных Нидерландов по 1631 год // Сб. Российского ист. общ-ва. Т. 116. СПб., 1902; Россия и Голландия в последней четверти XVII в. // Международные связи России в XVII–XVIII вв. М., 1966.
См.: Казакова Н. А. Русско-ливонские и русско-ганзейские отношения. Л., 1975.
См.: Каптерев Н. Ф. Сношения Иерусалимских Патриархов с Русским правительством с половины XVI до конца XVII столетия // Православный Палестинский сборник. СПб., 1895. Т. 15. Вып. 1; Он же. Характер отношений России к православному Востоку в XVI и XVII столетиях. Серг. Посад, 1914; Литаврин Г. Г. Как жили византийцы. М., 1978; Муравьев А. Н. Сношения России с Востоком по делам церковным. СПб., 1858; Путешествие Антиохийского Патриарха Макария в Россию в первой половине XVII века, описанное его сыном, архидьяконом Павлом Алеппским // ЧОИДР. 1898. Кн. 3–4; Соколов И. И. Епархии Константинопольской Церкви XV–XVIII вв. // Труды Киевской Духовной академии. 1917. Янв.–февр.; Успенский Ф. И. История Византийской империи. Т. 1. М.; СПб., 1913.; Флоря Б.Н. К истории установления политических связей между русским правительством и высшим греческим духовенством (на примере Константинопольской Патриархии) // Связи России с народами Балканского полуострова: Первая половина XVII в. М., 1990. С. 8–42.
См.: Богданов А. П., Возгрин В. Е. Московское восстание 1682 г. глазами датского посла // Вопросы истории. 1986. № 3; Известие о поездке в Россию Вальдемара, графа Шлезвиг-Голштинского // ЧОИДР. 1867. Кн. 4; Зевакин Е. С. К истории прикаспийского вопроса: План захвата Московским государством Прикаспийских областей, предложенный голштинским послом Бругеманом (XVII в.) // Труды сектора истории Закавказского филиала Академии наук. Вып. V. Тифлис, 1934; Форстен Г.В. Датские дипломаты при Московском дворе во второй половине XVII века // ЖМНП. 1904. № 11.
См.: Гадзяцкий С. С. Борьба русских людей Ижорской земли в XVII веке против иноземного язычества // Исторические записки. 1945. Т. 16; Гильфердинг А. История балтийских славян. Т. 1. М., 1855.
См.: Агахи А. М. Из истории общественной и философской мысли в Иране (вторая половина XVII – первая четверть XIX в.). Баку, 1971; Бартольд В. В. Место прикаспийских областей в истории мусульманского мира. Баку, 1925; Библиографический указатель по Персии. М., 1928; Библиография Востока. Вып. 1: История / под общ. ред. Д. Н. Егорова. М., 1928; Бушуев П. П. История посольств и дипломатических отношений России и Иранского государства в 1586–1612 гг. М., 1976; в 1613–1621 гг. М., 1987; Гиргас В. Права христиан на Востоке по мусульманским законам. СПб., 1865; Гусейнов А. Азербайджано-русские отношения XV–XVII вв. Баку, 1963; Зонненштраль-Пискорский А. А. Международные торговые договоры Персии. М., 1931; История Ирана с древнейших времен до конца XVIII в. Л., 1958; Кишмишев С. О. Походы Надир-Шаха в Герат, Кандагар, Индию и события в Персии после его смерти. Тифлис, 1889; Межов В. И. Библиография Азии. Т. 1. СПб., 1891; Мюллер А. История ислама от основания до новейших времен / пер. под. ред. Н. А. Медникова. Т. III. СПб., 1896; Памятники дипломатических и торговых сношений Московской Руси с Персией / под ред. Н. И. Веселовского: в 3 т. СПб., 1890–1898; Тебеньков М. Древнейшие сношения Руси с прикаспийскими странами. Тифлис, 1896; Розенталь П.А. Борьба за колонии и мировые пути. Ч. 1; Schwab M. Bibliographie de la Perse. P., 1875.
См.: Армяно-русские отношения в XVII веке: Сб. док-тов. Ереван, 1953; Восканян В. К. Армяно-русские экономические отношения в XVII веке: (Роль армянского купечества в персидской торговле России). Ереван, 1948; Кацаров К. Исторические связи Болгарии и Армении. Масис, 1934; Страны и народы Ближнего и Среднего Востока. Ереван, 1979.
См.: Зевакин Е. Роспись торгового пути из Астрахани в Индию в середине XVII века // Новый Восток. 1925. № 8–9; Русско-индийские отношения в XVII веке: Сб. документов. М., 1958; Уляницкий В. А. Сношения России с Среднею Азиею и Индиею в XVI–XVII в. М., 1889.
См.: История Кабарды с древнейших времен до наших дней. М., 1957; Русско-дагестанские отношения XVII – первой половины XVIII вв. (Документы и материалы). Махачкала, 1958; История Дагестана. М., 1967.
См.: Мининков Н. А. Донское казачество XVI–XVII вв.: черты характера, взгляд на мир, особенности мышления // Новый Часовой. 1988. № 6–7.
См.: Александров В. А. Россия на дальневосточных рубежах. М., 1966; Демидова Н. Ф., Мясников В. С. Первые русские дипломаты в Китае. М., 1966; Думан Л. И. Внешнеполитические связи древнего Китая и истоки даннической системы // Китай и соседи. М., 1970; Курц Б. Г. Русско-китайские отношения в XVI, XVII и XVIII столетиях. Харьков, 1929; Русско-китайские отношения в XVII веке (1608–1683): Материалы и документы: в 2 т. / отв. ред. С.Л. Тихвинский. М., 1969–1972; Мясников В. С. Империя Цин и Русское государство в XVII веке. М., 1980; Нарочницкий А. Л., Губер А. А., Сладковский М. И., Бурлингас И. Я. Международные отношения на Дальнем Востоке. М., 1973; Мелихов Г. В. Россия и Цинская империя на Дальнем Востоке (40–80-е годы XVII в). М., 1989; Оглоблин Н. Н. Первый японец в России, 1701–1705 гг. // Русская старина. 1891. Окт.; Лсида К. Росиано тохо синсюцу то Нэрутинсуку дзл яку [Проникновение России на Восток и Нерчинский договор]. Токио, 1984; Мелихов Г. В. О некоторых японских концепциях русско-китайских отношений в XVII в. (1644–1689 гг.) // Внешняя полтика России (Историография): Сб. статей / сост. А. Л. Нарочницкий; отв. ред. С.Л. Тихвинский. М., 1988. С. 186–217.
См.: История Бохары или Трансоксании с древнейших времен до настоящего: По восточным обнародованным и не обнародованным рукописным историческим источникам / первый раз обработана Гераном Вамбери; пер. А. И. Павловского. Ч. 1. СПб., 1873.
См.: Материалы по истории Узбекской, Таджикской и Туркменской ССР. Ч. I: Торговля с Московским государством и международное положение Средней Азии в XVI–XVII вв. Л., 1932; Новосельцев А. П. Русь и государства Кавказа и Азии // Пшуто В. Т. Внешняя политика Древней Руси. М., 1968; Систематический и азбучный указатели сочинений и статей на русском и иностранных языках, вошедших в состав 1–416 томов «Туркестанского Сборника сочинений и статей, относящихся до Средней Азии вообще и Туркестанского края в особенности»: в 3 ч. СПб., 1878–1888.
См.: Преображенский А. А. Урал и Западная Сибирь в конце XVI – начале XVIII вв. М., 1972; Русско-монгольские отношения: 1607–1636: Сб. документов. М., 1959; Русско-монгольские отношения: 1654–1685: Сб. документов / отв. ред. Н. Ф. Демидова. М., 1996; Сокуров В. Н. О характере русско-кабардинских политических связей в 70-х годах XVII в. // Сб. статей по истории Кабардино-Балкарии. Вып. 10. Нальчик, 1976; Шастина Н. П. Русско-монгольские посольские отношения XVII века. М., 1958.
См.: Белокуров С. Исторический обзор связей Кавказа с политическими образованиями Восточно-Европейской равнины и с Московским государством до начала XVII в. М., 1889; Бердзенишвили Н., Джавахишвили И., Джанашиа С. История Грузии. Ч. I: С древнейших времен до начала XIX века. Тбилиси, 1950; Кушева Е. Н. Народы Северного Кавказа и их связи с Россией в XVI–XVII вв. М., 1963; Месхиа Ш. А., Цинцадзе Я. З. Из истории русско-грузинских взаимоотношений X–XVIII вв. Тбилиси, 1958; Полиевктов М. А. Экономические и политические разведки Московского государства XVII в. на Кавказе. Тифлис, 1932; Он же. Материалы по истории грузино-русских взаимоотношений в 1625–1648 гг. Тифлис, 1937; Сношения России с Кавказом: Материалы, извлеченные из Московского Главного Архива Министерства иностранных дел С. А. Белокуровым (1578–1613). М., 1889.
Переводили с греческого классического (древнегреческого, или эллинского), греческого разговорного (новогреческого), волошского (валахского, румынского), польского, латинского (классического), цесарского латинского (вульгарной латыни), цесарского (австрийско-немецкого), немецкого (нижне-саксонского), голландского, английского, шведского, калмыцкого, турского (турецкого), татарского, арабского языков.
Сочетания языков у переводчиков, как правило, были обычные для того времени: татарский, турецкий и итальянский, а также латинский, польский, немецкий, а переводили с волошского (румынский), греческого, голландского, итальянского, ногайского, калмыцкого, хивинского (узбекский), персидского (фарси), татарского, турского (турецкий), французского, цесарского (австрийско-немецкий).
Подробнее см.: «Око всей великой России»: Об истории русской дипломатической службы XVI– XVII веков / под ред. Е. В. Чистяковой; сост. Н. М. Рогожин (далее: «Око великой России» …). М., 1989. С. 92–228; Кобзарева Е. И. Посольский приказ середины XVII века: К вопросу о составе дипломатического корпуса // Российская дипломатия: История и современность. М., 2001.
См.: Гурлянд И. Я. Приказ Великого Государя Тайных дел. Ярославль, 1902; Дневальные записки Приказа Тайных дел 7165–7183 гг. М., 1908; Джинчарадзе В. З. Борьба с иностранным шпионажем в России в XVII в. // Исторические записки. М., 1952. Т. 39. С. 229–258; Новомбергский А. Слово и дело государевы. М., 1911.
См.: Берман Дж. Западная традиция права: эпоха формирования / пер. с англ. М., 1998; Петрухин В. Я., Раевский Д. С. Очерки истории народов России в древности и раннем Средневековье. М., 1998.
Новгородскую четь возглавлял новгородский наместник. Приказ Новгородской чети ведал хозяйственными вопросами, связанными с Новгородской землей и ее колониями на Урале, в Зауралье и Предуралье (Заволочь), а также и внешнеторговыми операциями, осуществляемыми традиционно новгородским купечеством с его традиционными зарубежными партнерами.
Новгородский наместник был наделен особыми внешнеполитическими прерогативами как единственный законный представитель Посольского приказа России, который имел право вести прямые дипломатические сношения и осуществлять переговоры по важнейшим вопросам – войны, мира и союзов – с Ганзой и Скандинавскими странами (Норвегией, Швецией), лифляндскими (ливонскими) городами. В период с 1478 по 1617 г. все сношения с этими странами по политической линии, включая обмен посольствами, переговоры о мире, линии границы, об обмене перебежчиками, улаживании пограничных конфликтов, находились исключительно в ведении новгородских наместников и велись не Москвой, а Новгородом на своей территории.
Смоленский приказ (1664–1710 гг.) управлял Смоленской землей, бывшим Смоленским княжеством, возвращенным России в 1520 г., а также той частью Смоленской земли, которую удалось вернуть по Андрусовскому перемирию 1661 г. (города Смоленск, Белый, Дорогобуж, Рославль, Себеж, Невель с их уездами, а также Витебский и Полоцкий округа с их городами). В его ведение входили таможенные вопросы на русско-польской границе, все местные пограничные, административные, военные и хозяйственно-транспортные вопросы в пограничной полосе, а также отношения с польской шляхтой, часть которой владела недвижимостью по обе стороны русско-польской границы.
Казанский Дворец ведал отношениями с бывшей территорией Казанского ханства в основном по хозяйственным вопросам, но также занимался и вопросами национальных отношений.
Сибирский приказ был учрежден в 1637 г. в связи с присоединением мансийско-хантыйских земель в Зауралье (Югра с ее Пелымским, Сорыкодским, Кондинским княжествами и полувассальной относительно России с конца XVI в. Обдорской низовой землей) и ведал не только Сибирью, но и всей Зауральской территорией, начиная от Нижней Волги (до этого всеми сибирскими сношениями ведал только Посольский приказ).
Сибирский приказ был ликвидирован Петром I в 1720 г., когда Царь счел, что Сибирь уже стала русской и можно не особенно церемониться с редким, малочисленным и отсталым населением («сибирскими дикарями») – ненцами, манси, ханты, долганами, кетами и эвенками. Ошибочность такой политики ускоренной русификации потребовала восстановления приказа в 1730 г.; просуществовал он до начала царствования Екатерины II.
Малороссийский приказ (1662–1722 гг.) обеспечивал сношения с Левобережной Украиной и ее управление. Учитывая украинско-польские, украинско-шведские и украинско-турецкие отношения, Приказ вел сложную, полную интриг «игру» в области внутриукраинских отношений, в определении линии московской политики по отношению к Украине, осуществлял различные дипломатические акции, вырабатывал рекомендации по вопросам украинской политики для русской центральной власти, отчитывался лично перед монархом.
Литовский приказ существовал как обособленное внешнеполитическое учреждение в период борьбы России за присоединение Украины и войны за Белоруссию с Польшей (1648–1667 гг.), в результате которой Россия оккупировала почти всю Литву и Белоруссию.
Лифляндский приказ (1656–1674 гг.) в период русско-шведских войн второй половины XVII в. в отношении Лифляндии (Прибалтика) имел функции, сходные с функциями Литовского приказа в Белоруссии: занимался административно-хозяйственными проблемами, вопросами снабжения, торговли, постоя русских войск в городах по Западной Двине и др. Основной задачей приказа было налаживание нормальных торговых и политических отношений с богатыми самостоятельными городами Лифляндии, которые не были заинтересованы в продолжении войны и которых русская дипломатия старалась привлечь в Русско-шведской войне на свою сторону.
Приказ Великия России (1688–1699 гг.) был предназначен для управления территорией, прилегающей к границе с Турцией в Азово-Черноморском регионе.
См.: Костомаров Н. Очерк торговли Московского государства в XVI–XVII столетиях. СПб., 1862; Ладыжевский К. История русского таможенного тарифа. СПб., 1886; Мулюкин А. С. Очерки по истории юридического положения иностранных купцов в Московском государстве. Одесса, 1912; Покровский В. И. Сборник сведений по истории и статистике внешней торговли России. СПб., 1902; Соловьева Т. Земельная политика Патриарха Никона // Русское Средневековье. М., 1997; Чулков М. Историческое описание российской коммерции. М., 1785; Родес И. де. Размышление о русской торговле в 1653 г. / пер. И. Бабста. М., 1858.
См.: Самодержавное царство первых Романовых. С. 43–74; Ключевский В. О. Боярская дума Древней Руси. Пг., 1919; Шмидт С. О. У истоков российского абсолютизма. М., 1996; Барсуков А. Списки городовых воевод и других лиц воеводского управления в Московском государстве XVII в. М., 1902; Богоявленский С. К. Приказные судьи XVII века. М.; Л., 1946; Демидова Н. Ф. Служилая бюрократия в России XVII века и ее роль в формировании абсолютизма. М., 1987; Леонтьев А. К. Образование приказной системы управления в Русском государстве: Из истории создания централизованного государственного аппарата в конце XV – начале XVI в. М, 1961; Самоквасов Д. Я. Русские архивы и царский контроль приказной службы в XVII в. М., 1902.
См.: Бакланова Н. А. Обстановка в Московских приказах // Труды Государственного исторического музея. Вып. 3. М., 1926; Богоявленский С. К. Приказные судьи XVII века. М.; Л., 1946; Он же. Приказные дьяки XVII века // Исторические записки. Т. 1. 1940; Книги московских приказов в фондах ЦГАДА: Опись 1495–1718 гг. М., 1972; Местнический справочник XVII века. Вильно, 1910.
См.: Очерки истории МИД. Т. I. С. 77–78; Костомаров Н. Очерк торговли Московского государства в XVI–XVII столетиях. СПб., 1862; Котошихин Г. О России в царствование Алексея Михайловича. СПб., 1859; Родес И. де. Размышление о русской торговле в 1653 г.; Чернов А.В. Вооруженные силы Московского государства в XV–XVII вв. М., 1954.
Поляновскому миру предшествовало крупное поражение русской армии – капитуляция под Смоленском, а потому статьи этого мира оказались невыгодными: Польша получала, помимо Смоленска, Чернигов с прилегающими областями, города Дорогобуж, Белый, Рославль, Стародуб, Трубчевск, Красный, Невель, Себеж, Новгород-Северский. СГГиД. Т. III. № 91, 97, 99; см.: Лобачев С.В. Патриарх Никон. СПб., 2003.
СГГиД. Т. III. № 137, 143, 167; см.: Документи Богдана Хмельницького. Киiв, 1961.
См.: Переписка Святейшего Патриарха Никона // Патриарх Никон. Труды / научн. исследование, подготовка документов к изд., сост. и общ. ред. В. В. Шмидта. М., 2004. С. 114–116; РГАДА. Ф. Мазурина. Д. 1741. Л. 1–5; Д. 1739. Л. 1–2 (опубл.: Памятники Киевской Руси. Т. 3. С. 182–183; Чтения МОИДР. 1848. № 8. Разд. IV. С. 53–54); РГАДА. Ф. Малороссийский приказ. Стб. 11/5822 (опубл.: Акты ЮЗР. Т. VIII. Прибавления. № 38/V. С. 369); Дворцовые разряды. Т. III. С. 369, 373; Акты исторические. Т. 5. С. 477; СГГиД. Т. III. № 157, 164, 165; Собрание законов Российской Империи. Т. I. № 180.
Национально-освободительное движение 40-х гг. XVII в. на Украине переросло в длительную Русско-польскую войну (1654–1667 гг.). По Андрусовскому перемирию (1667 г.) Россия вернула Смоленскую и Северскую земли, воссоединилась с Левобережной Украиной и Киевом, обеспечив историческое и религиозно-культурное единство славянского этноса. Тогда же благодаря новому внешнеполитическому курсу русского правительства – от конфронтации к сотрудничеству – произошел и поворот в отношениях с западным миром, в частности с Польшей, которая также являлась славянским государственным образованием, но базировавшимся на ценностях христианско-католической традиции. Подробнее см.: Бантыш-Каменский Д. История Малой России от водворения славян в сей стране до уничтожения гетманства: в 3 ч. Киев, 1903. С. 106–337.
Стокгольмский договор являлся приложением к Столбовскому миру и регулировал вопросы о перебежчиках со шведской территории – русских крестьянах (с 1617 по 1647 г. их было около 20 тыс.), за что русское правительство должно было возместить убытки шведам.
Одной из причин неудач России в войне с Польшей 1632–1634 гг. было бегство части служилых людей из царских полков ввиду набегов на южные окраины крымских татар, которых не хотел или не смог удержать турецкий султан. Поэтому уже со второй половины 30-х гг. началось восстановление Большой оборонительной засечной черты с центром в Туле, а несколько лет спустя – создание новой, Белгородской. Роль засечной черты для России была сравнима с ролью Великой Китайской стены для Китая. Она представляла собой гигантское для своего времени инженерное сооружение, требовавшее огромных материальных и трудовых затрат, терпения и самоотверженности населения. Засечные черты оказались возможными только в стране с сильной самодержавной властью, способной мобилизовать, организовать и заставить возводить и защищать эти укрепления.
См.: СГГиД. Т. III. № 148, 156, 159–166, 168, 170–172, 174, 176.
Во время польских походов Патриарху Московскому вменялось регентство: два с половиной года Святейший Никон обеспечивал управление государством, международным взаимодействием, занимался делами войск. По указу Великого Господина Святейшего Патриарха Московского было организовано бесперебойное снабжение армии, к этому активно привлекалась хозяйственная мощь Русской Церкви. Находившийся в это время в России П. Алеппский писал: «Наш владыка Патриарх (Антиохийский. – Авт.) спросил Московского Патриарха о численности войска, которое отправлялось теперь с Царем. Тот сказал: “300 тыс. собственного войска; из них 40 тыс. в полных железных доспехах постоянно находятся при Царе”. Это кроме тех, которых Царь послал со своими вельможами вперед себя. Патриарх продолжал: “Я дал ему 10 тыс. ратников с конями и оружием. От монастырей, находящихся в Московии, и от архиереев дано столько же, от каждого, сообразно с его средствами, с его угодьями и доходами; даже от самых малых монастырей Царь взял по одному человеку с вооружением, лошадью, припасами и деньгами на расход, ибо все монастыри пользуются щедротами Царя и пожалованными им угодьями, пока не наступит нужда, как теперь. Это сверх припасов, которые Царь обязал их доставить в Смоленск”. Келарь монастыря Св. Троицы сообщил нам, что они отправили с Царем 10 тыс. ратников и послали ему в Смоленск припасов: пшеницы, сухарей, муки, ржи, ячменя, овса для лошадей, масла и проч. Сочли, что это стоит более 2 тыс. динаров. Также было взято из других монастырей, по их степени. Из монастыря Кирилла Белоезерского, второго после Троицкого, прислали Царю сто ратников и более чем на 10 тыс. динаров припасов, которые были доставлены в Смоленск. Из Соловецкого монастыря прислали ему 5 тыс. динаров по причине дальнего расстояния…» (Павел Алеппский, архидиакон. Путешествие Антиохийского Патриарха Макария в Россию в половине XVII в. М., 2005. Кн. IX. С. 364; СГГиД. Т. III. № 182).
Духовно-молитвенное попечение Церкви о войске укрепляло воинский дух и веру в правоту миссии. Во все время военных действий неуклонно совершались молебны на победы над супостатами и благодарственные молебны о победах. Известен специально составленный и разосланный по всем церквам чин (его создание приписывается Патриарху Никону) – «Канон молебен о соединении веры православныя» и «Молебное пение о умирении Церкви Святыя Восточныя». Засвидетельствовано было и особое Божественное предопределение: во время осады Динабурга Алексею Михайловичу было видение над войском Архангела Михаила с Небесным воинством, способствующим одолению неприятеля, что, безусловно, вдохновило и укрепило царя-воина, как и некогда составившееся из света и игравшее на солнце знамение креста со словами «сим побеждай», явленное на небе Царю Константину. 1 СГГиД. Т. IV. М., 1828. № 1–2, 3, 4, 5.
СГГиД. Т. IV. М., 1828. № 1–2, 3, 4, 5.
В начале 1656 г. русское правительство изменило внешнеполитическую ориентацию: оно решило искать пути примирения с Польшей и готовить войну со Швецией. На этом настаивал при активной поддержке Патриарха Никона видный дипломат, впоследствии начальник Посольского приказа, А. Л. Ордин-Нащокин, который придерживался еще более радикальной позиции: ради победы над Швецией, с тем чтобы положить конец ее господству в Прибалтике, он предлагал пойти на союз с Речью Посполитой даже в том случае, если придется уступить ей Украину (см.: «Око всей великой России»: Об истории русской дипломатической службы XVI–XVII веков. С. 102). Такой линии поведения русского правительства благоприятствовала и международная обстановка – к тому времени сложилась антишведская коалиция, в которую входили Габсбургская империя, Дания и Бранденбург. Цель коалиции состояла в том, чтобы остановить чрезмерное усиление Швеции, сильно укрепившейся в результате Тридцатилетней войны.
Согласно ст. 5 этого договора, все земли, которые Россия приобрела во время военных действий, должны были вновь отойти к Швеции и Речи Посполитой. Польша же навсегда уступала Швеции свои владения в Лифляндии, за исключением Малых Инфлянд (Латгалии), которыми владела с 1557 г. Оливский мирный договор был заключен при активном посредническом участии Франции и Англии.
Длительные дипломатические переговоры (39 съездов посольских делегаций), предшествовавшие заключению перемирия, были вызваны (в том числе) спорным вопросом о Царском титуле. Дело в том, что еще в 1654 г., до полной оккупации Россией Литвы, Русский Царь издал указ о внесении наименования в свой титул: «Великий князь Литовский и Белыя России Царь». После же отвоевания в 1665 г. Польшей Литвы, Белоруссии и Украины перед Царем возникла позорная необходимость отказаться от титула и испытать морально-политическое унижение в глазах всех тех стран, с которыми Россия поддерживала дипломатические отношения. Руководители русской делегации, в первую очередь А. Л. Ордин-Нащокин, были готовы пойти на территориальные потери, но только не на потерю царского внешнеполитического престижа в Европе и Азии, поэтому они настаивали на перемирии в надежде на то, что следующая война будет для России успешнее и упомянутые в титуле Царя области снова станут русскими, что будет закреплено и мирным договором.
Польская дипломатия пошла на удовлетворение требований России, не уловив вышеизложенных соображений российской стороны и соответственно зыбкости, временности Андрусовского перемирия и недооценив значение коренных принципиальных вопросов политики, в которых русские дипломаты проявили твердость и последовательность. СГГиД. Т. IV. № 54; РГАДА. Ф. 79. Д. 101, 105, 106.
Условием вступления России в Священную лигу Русское правительство выдвинуло требование заключить мирный договор с Польшей, которая окончательно уступала бы России все утраченные в 1667 г. земли. Польский король Ян Собеский, сумевший еще 1683 г. спасти Вену от захвата турецким визирем Кара-Мустафой и одержавший впоследствии ряд побед, отказывался от российских условий мира. Однако его неудачи у Каменца (1684) и в Молдавии (1685), а также тяжелое положение Габсбургской империи вынудили польский Сейм принять решение об организации посольства в Москву для заключения «Вечного мира» с Россией и создания Священной лиги (СГГиД. Т. IV. № 174, 178–179).
См.: «Око всей великой России» … С. 213; Цветаев Д. М. Из истории иностранных исповеданий в России в XVI и XVII веках. М., 1884.
См.: Соколов Ю. Ф. Посольский приказ и внешняя разведка // Российская дипломатия: история и современность. М., 2001. С. 124; Бахрушин С. В. Научные труды. М., 1955. Т. 3. Ч. 1. С. 91–92; Ламанский В. И. Три мира Азийско-Европейского материка. СПб., 1892; Мэхэн А. Т. Влияние морской силы на историю; Семенов-Тян-Шанский В. П. О могущественном территориальном владении применительно к России: Очерк по политической географии. СПб., 1915.
См.: Синайский А., свящ. Отношения древнерусской Церкви и общества к латинскому Западу (католичеству) (X–XV вв.): Церковно-исторический очерк. СПб., 1899; Лосский Н. О. Характер русского народа. М., 1957; Рогожин Н. М. Диалог вероисповеданий в дипломатии средневековой Руси // Древняя Русь: Вопросы медиевистики. 2000. № 1. С. 40–50; Шубарт В. Европа и душа Востока. М., 1997.
Заметим, ситуацию 1617 г. создала не война (формально войны между Швецией и Россией не велось), а союзный русско-шведский Выборгский договор от 1609 г., который в результате некритического выбора союзника из числа традиционных противников России заключил Василий Шуйский (ошибка русской дипломатии стоила почти столетнего периода тяжелейшей борьбы для русского народа). По сути, Столбовский мирный договор стал результатом вероломства военно-политического руководства Швеции и нарушением Выборгского договора и связанных с ним шести документов. В связи с этим шведскую интервенцию 1610–1617 гг. на северо-западные территории Руси (Новгородскую, Карельскую и Ижорскую земли) с оккупацией многих городов можно считать незаконной, а шведские требования об аннексии к России несостоятельными (см.: Похлебкин В.В. Внешняя политика Руси, России и СССР за 1000 лет в именах, датах и фактах: IX–XX вв.: Вып. 2: Войны и мирные договоры. Кн. I: Европа и Америка: Справочник. М., 1995. С. 194–195.
Благодаря усилиям талантливого дипломата А. Л. Ордина-Нащокина удалось добиться крупного дипломатического успеха: за Россией на три года закреплялись все земли Лифляндии, занятые русскими войсками, а также гавани на Двине и небольшой участок Финского залива – доступ к Балтийскому морю. Однако заключенный между Швецией и Речью Посполитой Оливский мир и тяжелые поражения русских войск на Украине вследствие перехода на сторону Польши гетмана Ивана Выговского и предательства нового гетмана Юрия Хмельницкого перечеркнули эти достижения (РГАДА. Ф. 96. Д. 39. № 1; Д. 41. № 2; Д. 47; Д. 48. № 1; Д. 50).
Там же. Д. 58; 69; 76.
См.: Галактионов И. В., Чистякова Е. В. А. Л. Ордин-Нащокин – русский дипломат XVII в. М., 1961; Иконников В. С. Ближний боярин Афанасий Лаврентьевич Ордин-Нащокин, один из предшественников Петровской реформы // Русская старина. 1883. Ноябрь; Малиновский А. Биографические сведения об управляющих в России иностранными делами министрах. М., 1816; Суворин А. Боярин Матвеев. М., 1804; Щепотьев Л. Ближний Боярин А. С. Матвеев как культурный и политический деятель XVII в. СПб., 1906.
См.: Очерки истории МИД. Т. I. С. 78.
Русский историк С. Жигарев считает, что восточный вопрос для России возник с момента захвата в 1453 г. Константинополя османскими турками (см.: Жигарев С. Русская политика в восточном вопросе. М., 1896. С. 17–22).
Турция, по условиям заключенного на 20 лет в Бахчисарае перемирия (1681 г.), признавала за Россией левый берег Днепра и Запорожье, правый же берег оставался под властью Султана. В апреле 1682 г. Бахчисарайский договор был ратифицирован турецким Султаном, причем в акт ратификации было включено несколько новых постановлений, из которых наибольший интерес представляет обещание Падишаха не препятствовать русским подданным ходить в Иерусалим на поклонение святым местам. Важность этого постановления состоит в том, что впервые в международном договоре фиксируются религиозные интересы России в отношениях с Турцией (см: Жигарев С. Русская политика в восточном вопросе. С. 94; СГГиД. Т. IV. № 124).
См.: Шмидт В. В. Воззрения и труды Патриарха Московского и всея Руси Никона (Святая Русь: от третьего Рима к Новому Иерусалиму) // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7: Философия. 2001. № 4. В это же время Патриарх Никон ведет активное строительство–воссоздание в Московском царстве святынь Вселенского Православия, трех величественных монастырей: Воскресенского Нового Иерусалима, Иверского Валдайского и Крестного Кий-островского. Все созданные Патриархом монастыри являются иеротопиями, архитектурно-ландшафтными иконами и являют собой не только множество символьных рядов, но реально воплощенные, раскрывающиеся образы, которые задают пространственно-временной континуум с соответствующими аксиологическими, гносеологическими, онтологическими категориями.
Из Османской империи приходят сведения, что пророчества о победе православного Государя существуют и в священных книгах мусульман. Так, в одном из документов отмечено, что турецкие духовные лица и учителя знали, будто «сядет во Царе-граде царь от северной страны от народа русского, а северная страна – Московское государство. И что время доходит» … (см., например: Фонкич Б. Л. Международная конференция «Крит, Восточное Средиземноморье и Россия в XVII в.»: Греческие документы и рукописи, иконы и памятники прикладного искусства московских собраний. М., 1995).
В 50-х гг. XVII в. связи России с православным Востоком достигают своего апогея. Подготовка и проведение церковно-обрядовой и книжной справы Патриарха Никона усиливали восточное (греческое и малоросское) интеллектуальное и духовное влияние на русскую культуру. Именно в эти годы ко двору Царя Алексея Михайловича попадает большое количество христианских реликвий, главным образом икон и мощей святых, из православных обителей, находившихся под властью Османской империи. Огромная материальная поддержка, которую оказывало Русское правительство православным Эйкумены, и прежде всего населявшим христианский Восток, способствовала притоку в Москву все новых священных реликвий. Сведения о принесении реликвий содержатся в материалах Посольского приказа, хранящихся в РГАДА. Документы из Ф. 52 (оп.1:2) «Сношения с Грецией» касаются контактов русского правительства не только с греческими землями, но и с Придунайскими княжествами, Болгарией, Сербией, Святой Землей, арабским православным миром (cм.: Российская дипломатия: история и современность. С. 142). В основном это дела, посвященные приходу греческого духовенства за милостыней и на вечное жительство. Но информация о мощах святых и чудотворных иконах, оказавшихся в русской столице, встречается и в вестовых письмах, и в делах, касающихся греческих купцов. В документах Посольского приказа зафиксированы имена представителей монастырей, прибывавших за материальной помощью.
Духовенство приезжало в Москву в основном по жалованным грамотам, дарованным их обителям в предшествующее время [Отпуски (копии официальных документов), вышедшие из Посольского приказа, особенно интересны: они, в частности, передают содержание подлинных грамот, которые уходили в греческие монастыри и церкви. Документ определял: сроки, в какие представители того или иного монастыря могут приходить за милостыней (чаще всего через шесть или семь лет, но бывали и исключения); количественный состав посольства; фиксировались также таможенные и иные льготы и гарантии, предоставляемые посланцам монастыря русскими властями]. Только в 1650–1655 гг. в Москве побывало духовенство из Константинополя, Кесарии, Янины, Аргирокастра, Ларисы, Кастории, Коринфа, Солуни, из различных обителей Афона, из Афин, Погоянинского Успенского монастыря, Мир Ликийских, Галаца и Ясс (Молдавия), Сучавы (Валахия), Хонии (Грузия), Крушедола (Сербия), Варны, Иерусалима, Дамаска и др. С ними в Москву поступило более ста различных реликвий.
Посланцев известных православных центров встречали при дворе, где они и подносили Царю реликвии, о которых заранее сообщалось дьякам Посольского приказа (иногда реликвии попадали в Россию с приходившим на «вечное жительство» духовенством). Реликвии привозили в Россию и светские лица. Так, в декабре 1652 г. Царю бил челом о милостыне константинопольский грек Иван Михайлов, привезший мощи великомученика Меркурия (подлинность мощей подтвердил грамотой Константинопольский Патриарх Иоанникий; этот документ сохранился только в русском переводе).
Привоз в Россию христианских реликвий совпадает с формированием идеи освобождения народов православного Востока Русским Царем от власти турок. В грамотах с просьбой об оказании милостыни, в донесениях политических агентов, в специальных сочинениях деятелей греческого просвещения к Русскому Государю обращаются как к наследнику Византийских Императоров, «новому Константину», которому предстоит занять древний трон в освобожденном Константинополе.
Надежды на русскую помощь особенно оживлялись в связи с внешнеполитическими успехами русских в борьбе с Портой (см. подробнее: Патриарх Никон. Труды; Ченцова В. Г. «Вестовые письма» Кондрата Юрьева из Красного в документах Посольского приказа (40–50-е гг. XVII в.) // Российская дипломатия: история и современность. С. 127–140; Муравьев А. Н. Сношения России с Востоком по делам церковным. СПб., 1858; Каптерев Н. Ф. Сношения Иерусалимских Патриархов с Русским правительством с половины XVI до конца XVII столетия // Православный Палестинский сборник. Т. 15. Вып. 1. СПб., 1895; Он же. Характер отношений России к православному Востоку в XVI и XVII столетиях. Серг. Посад, 1914; Флоря Б. Н. К истории установления политических связей между русским правительством и высшим греческим духовенством (на примере Константинопольской Патриархии) // Связи России с народами Балканского полуострова: Первая половина XVII в. М., 1990. С. 8–42).
О Царе Алексее Михайловиче Романове см.: Андреев И. Л. Алексей Михайлович. М., 2006; Бартенев П. Собрание писем Царя Алексея Михайловича. М., 1856; Берх В. Царствование Царя Алексея Михайловича. СПб., 1831; Выходы государей царей и великих князей Михаила Федоровича, Алексия Михайловича, Федора Алексеевича. М., 1844.
СГГиД. Т. IV. № 188, 193, 198–199.
РГАДА. Ф. 109. Д. 6, 4; Ф. 134. Д. 1, 2.
Впервые знакомство России с Персией произошло в 1556 г., когда взятая Иваном Грозным Астрахань открыла путь по Волге и далее по Каспийскому морю в эту страну. Русско-персидские отношения становятся более интенсивными вслед за подчинением России всего бассейна Волги. Путь из Московского царства в Персию, помимо торгового значения для России, был притягателен для Англии и Голландии, искавших новые пути в Индию и Китай. Россия долгое время (до XIX в.) удерживала монополию каспийской торговли: «персов не пускали дальше Астрахани, а европейцам не давали шелка ближе Архангельска» (см.: Гурко-Кряжин В. Краткая история Персии. М., 1925. С. 14).
См.: Зонненштраль-Пискорский А. А. Международные торговые договоры Персии. М., 1931. С. 96–97.
РГАДА. Ф. 77. Д. 12, 14, 15, 15а, 16, 17, 18. Ч. 1; 20, 21; см. также: Зевакин Е. С. Персидский вопрос в русско-европейских отношениях XVII в. // Исторические записки. 1940. Т. 8. С. 129–162.
См.: Бэр. А. История всемирной торговли / пер. с нем. Э. Циммерана. М., 1876. Ч. 1.
Зевакин Е. Роспись торгового пути из Астрахани в Индию в середине XVII века // Новый Восток. 1925. № 8–9. С. 147.
См.: Бахрушин С. В. Очерки истории колонизации Сибири в XVI и XVII вв. М., 1928; Путешествие через Сибирь от Тобольска до Нерчинска и границ Китая русского посланника Николая Спафария в 1675 г. // Записки Императорского Русского географического общества по отделению этнографии. Т. 10. Вып. 1. СПб., 1882; Титов А. Сибирь в XVII веке: Сборник старинных русских статей о Сибири и прилежащих к ней землях. М., 1890.
См.: Русско-монгольские отношения: 1607–1636: Сб. документов; Русско-монгольские отношения: 1636–1654: Сб. документов; Чимитдоржиев Ш. Б. Взаимоотношения Монголии и России в XVII– XVIII вв. М., 1978.
Русское государство, только что пережившее тяжелые годы польского нашествия, было заинтересовано в развитии дружественных связей с Алтын-ханами. Прежде всего было важно, что через их владения проходили торговые пути. На протяжении первых десятилетий XVII в. царские власти обменивались с Алтын-ханами посольствами. Побывавшее в 1616 г. у Шолой-Убаши русское посольство во главе с Тамилой Петровым и Василием Тюменцом привезло подробные сведения о Китае и заручилось согласием Алтын-хана на «проезд туда в дальнейшем русских посольств» (Русско-китайские отношения в XVII веке: Мат-лы и документы. Т. 1:1608–1683. С. 44, 46–50). Обострившаяся к тому времени борьба ойратов с государством Алтын-ханов привела к тому, что его правители сами начинают настойчиво искать поддержки России и даже выражают желание принести «шерть» (присягу).
В апреле 1617 г. послы Алтын-хана были приняты в Москве и заявили от имени своего господина, что он желает быть «под… Царскою высокою рукою» и «Великому Государю служить и на недругов… и непослушников с своими ратными людьми ходити, куда… царское повеление будет». Переданная послам ответная жалованная грамота Михаила Федоровича содержала согласие удовлетворить просьбу Алтын-хана (см.: Гуревич Б. П. Международные отношения в Центральной Азии в XVII – первой половине XIX в. М., 1979. С. 30–31).
См.: Гуревич Б. П. Международные отношения в Центральной Азии в XVII – первой половине XIX в. С. 31.
В конце 1617 г. в Тобольске уже не в первый раз появились ойратские послы от Тайши-Дэрбэта Далай-Богатыря с просьбой о подданстве. 14 апреля 1618 г. новый Царь Михаил Федорович в жалованной грамоте дал согласие принять Далай-Богатыря «под… царского величества высокую руку». В конце 1619 г. в Москву с просьбой о русском подданстве прибыло посольство Чоросского тайши Хара-Хулы – отца будущего основателя Джунгарского ханства Батур-хунтайджи, которому также была выдана жалованная грамота о согласии на его вступление в подданство России (см.: Русско-монгольские отношения: 1607–1636: Сб. документов. С. 92–93).
Русско-ойратские отношения в период правления Батур-хунтайджи, считавшего себя вполне независимым и суверенным правителем Джунгарского ханства, развивались в целом как добрососедские и только после разгрома Алтын-хана Лубсана-тайджи в 1667 г. новым Хунтайджи Сенге территориальный вопрос в русско-ойратских отношениях обострился, так как джунгарский правитель претендовал на территорию всей Южной Сибири. Убийство Сенге в конце 1670 г. и воцарение в следующем году на престоле его брата Галдана на время ослабили напряженность в русско-ойратских отношениях, но по мере своего усиления Галдан, как и брат, возымел намерение подчинить себе «ясашных людей» в Южной Сибири, дело доходило до прямых военных угроз (в конце концов он согласился признать право русской стороны взимать ясак с того же населения, что и ойраты, т.е. признал двоеданство) [см.: Гуревич Б. П. Международные отношения в Центральной Азии в VII – первой половине XIX в. C. 35; РГАДА. Ф. 119 (Сношения России с Калмыцким ханством)].
См.: Русско-монгольские отношения: 1607–1636: Сб. документов. С. 43–44.
В 50–60-х гг. XVII в. калмыки окончательно были приняты в русское подданство. За ними были закреплены полупустующие пространства по Яику, обеим берегам Волги (от Астрахани до Царицына и Самары) и степи Придонья; им позволялась также беспошлинная торговля на местных рынках.
См.: Александров В. А. Россия на дальневосточных рубежах (вторая половина XVII в.). М., 1969. С. 18–34.
Мелихов Г. В. Маньчжуры на Северо-Востоке (XVII в.). М., 1974. С. 67.
Всего с 1616 по 1694 г. Китай посетило не менее восьми посольств. В 1616–1618 гг. сибирский казак Иван Петлин по поручению Царя Михаила Федоровича впервые дошел до Пекина и привез в Москву «Роспись китайскому государству, и Лобнинскому, и иным государствам, жилым и кочевым, и улусам, и великой Оби, и рекам и дорогам» (Демидова Н. Ф., Мясников В. С. Первые русские дипломаты в Китае. М., 1966. С. 41). Об остальных посольствах см.: Бантыш-Каменский Н. Н. Дипломатическое собрание дел между Российским и Китайским государствами с 1619 по 1792 год. Казань, 1882. С. 6–72; Спафарий Н. Г. Описание первыя части вселенныя, именуемой Азии, в ней же состоит Китайское государство с прочими его городы и провинции. Казань, 1910.
Первые русские дипломаты в Китае столкнулись с весьма щекотливым вопросом: как отнестись к унизительному посольскому ритуалу, принятому при императорском дворе в Пекине. Русский посол Ф. И. Байков, побывавший в Пекине в 1656 г. с целью установления на равноправной основе добрососедских политико-дипломатических и торговых отношений между Россией и Китаем и не выполнивший предварительной дворцовой церемонии, потерпел неудачу. Он вынужден был уехать, так и не представившись маньчжурскому императору Шуньчжи (см.: Демидова Н. Ф., Мясников В. С. Первые русские дипломаты в Китае. С. 94–95; Русско-китайские отношения в XVII веке: Мат-лы и документы. Т. 1:1608–1683. С. 342; РГАДА. Ф. 62 [Сношения России с Китаем]).
См.: Яковлева П. Т. Первый русско-китайский договор 1689 г. M., 1958. C. 119.
Весьма существенную роль в развернувшейся войне против русских владений на Дальнем Востоке Цинский Император Канси отводил феодалам Халхи (Император подстрекал Тушету-хана Очирой-Сайина и его сторонников к вторжению в Восточную Сибирь, используя для этого притязания последних на господство над бурятским и тунгусским населением в Забайкалье). Осенью 1681 г. небольшие отряды халхаских владельцев совершили набеги на окрестности Селенгинска и Удинска, а к январю следующего года к Забайкалью подошли более крупные силы Тушету-хана. Поскольку этот поход был крайне непопулярен среди монголов, а вторгшихся встретило решительное сопротивление со стороны русских служилых людей, то ряд влиятельных феодалов Халхи склонился к мирным переговорам с Россией. Однако в начале 1685 г. Императору Канси снова удалось побудить Тушету-хана и его сторонников к возобновлению военных действий против России [см.: Александров В. А. Россия на Дальневосточных рубежах (вторая половина XVII в.). М., 1969. С. 106–108]. В июне 1685 г. халхасцы осадили Селенгинск, а маньчжуро-китайские войска подошли к Албазину. Осада длилась месяц и завершилась неудачей и для молнголов и для китайцев. Новое вторжение в Восточную Сибирь монголов произошло в конце 1687 – начале 1688 г. (были осаждены Селенгинск и Удинск), но и на этот раз монгольские войска потерпели поражение и были вынуждены уйти в Северную Монголию.
Русско-китайские переговоры в Нерчинске проходили в условиях, когда маньчжуры осуществили вторичное вторжение в глубину территории Албазинского и Нерчинского уездов России и фактически осадили место переговоров, создав значительное численное превосходство в военной силе (см.: Мелихов Г. В. Россия и Цинская империя на Дальнем Востоке (40–80-е годы XVII в.). М., 1989. Гл. III.). Русский посол Ф. А. Головин был вынужден уступить Цинской империи часть территорий по левому берегу Амура и правому берегу Аргуни, принадлежащих России с 40–80-х гг. XVII в. В то же время русские дипломаты сумели отстоять свое требование не заселять отходившие Цинской империи русские земли, что подтвердили торжественной клятвой цинские послы (см.: Мясников В. С. Империя Цинн и Русское государство в XVII в. М., 1980. С. 77; также см.: Архивные материалы на русском языке из бывшего Пекинского императорского дворца. Бэйпин, 1936; Бантыш-Каменский Н. Н. Дипломатическое собрание дел между российским и китайским государствами с 1619 по 1792 год. Казань, 1882. С. 49–65; Думан Л. И. Внешняя политика Цин в отношении России: Заключение Нерчинского договора: Внешняя политика государства Цин в XVII веке. М., 1977; Курц Б. Г. Русско-китайские отношения в XVI, XVII и XVIII столетиях. Харьков, 1929; Мясников В. С. Вторжение маньчжуров в Приамурье и Нерчинский договор 1689 г.: Русско-китайские отношения в XVII веке. Т. 2:1686–1691. M., 1972; Русско-китайские отношения: 1689–1916: Официальные документы. М., 1958; Русско-китайские отношения в XVII веке: Мат-лы и док-ты. Т. 2, 1686–1691. M., 1972).
B 1648 г. экспедиция казака Семена Дежнева отправилась с Колымы морским путем на реку Анадырь и открыла Камчатку и Берингов пролив. Жители Колымы и Камчатки рассказывали о бородатых людях (айну), живущих на островах Охотского моря. Это пытались проверить в 1649 г. казак Михаил Стадухин и в 1654 г. торговый человек Тарас Стадухин (см.: Файнберг Э. Я. Русско-японские отношения в 1697–1875 гг. М., 1960. С. 17–18; Космография 1670 г.: Книга, глаголемая Козмография, сиречь описание сего света земель и государств великих. СПб., 1878–1881. С. 379–389). В гл. 70 «О Иапонии, или Япанострове» иногда приводятся неточные данные о географическом положении Японии, ее климате, флоре и фауне, естественных ресурсах, системе управления, занятиях, религии, нравах и обычаях японцев, об отношениях аборигенов с испанцами, португальцами и голландцами.
Владимир Атласов в своих «скасках» (одна записана 3 июня 1700 г. в Якутской приказной избе, другая – 10 февраля 1701 г. в Сибирском приказе) дал превосходное географическое описание Камчатки, в отчете о походе также сообщил некоторые данные о Японии, полученные от обнаруженного у ительменов (камчадалов) на р. Иче японца Дэнбэя (см.: Оглоблин Н. Н. Две «скаски» Вл. Атласова об открытии Камчатки // ЧОИДР. 1891. Кн. 3. С. 1–18).
Публикуется с изменениями и дополнениями по: Паламарчук П. Г. Москва или Третий Рим? Восемнадцать очерков о русской истории и словесности. М., 1991. С. 4–39
Правда. 1986. 27 февраля.
См.: Кудрявцев М. П., Мокеев Г. Я. Каменная летопись старой Москвы. М., 1985. С. 86–87; см. также подробнее: Кудрявцев М. П. Москва в конце XVII в.: Дисс. … канд. архитектуры. М., 1981 (в особенности главу V: Идейно-символическое содержание градостроительной композиции. С. 130–147).
См.: Карпец В. И. Некоторые черты государственности и государственной идеологии Московской Руси: Идея верховной власти // Развитие права и политико-правовой мысли в Московском государстве. М., 1986. С. 13.
Сказания Массы и Германа. СПб., 1874. С. 270; ср.: Масса Исаак. Известия о Московии в начале XVII в. М., 1937. С. 63. Цит. по: Лихачев Д. С. Поэтика древнерусской литературы. М., 1979. С. 24; ср.: Памятники литературы Древней Руси: Конец XVI – начало XVII в. М., 1987. С. 298, 582.
Лотман Ю. М. Роман Пушкина Евгений Онегин: Комментарии. Л., 1983. С. 75.
См.: Рабинович М. Г. Не сразу Москва строилась. М., 1982. С. 5.
См.: Робинсон А. Н. История славянского Возрождения и Паисий Хилендарский. М., 1963. С. 100–127.
См. там же. С. 137.
Аргументы-1984. М., 1984. С. 133.
См.: Мифы народов мира. М., 1980. Т. 2. С. 596.
В позднем иудаизме родилось поверие о предводителе Гога и Магога по имени Армилус, сыне сатаны и камня, представляющем из себя нечто вроде еврейского Антихриста, – весь он плешивый, глаза маленькие, на лбу высыпь проказы, правое ухо закрыто, левое открыто. Армилусу, по преданиям, суждено покорить Иерусалим, убить Мессию из колена Иосифа и наконец самому быть убиту от руки Мессии из рода Давидова (см. подробнее: Еврейская энциклопедия. СПб., б.г. Т. 3. С. 146–147).
В. Ш.: О подобных попытках см.: Шмидт В. В. Дж. Биллингтон и Патриарх Никон: к идеологии американской политики в отношении славяно-россов // Имперское возрождение. 2007. № 4; Он же. Интерпретация личности Патриарха Никона в России и за рубежом (на примере исследования Дж. Биллингтона «Икона и топор») // ПОЛИС. 2008. № 2.
О Берозе см.: Дьяконов И. М. История Мидии. М.; Л., 1956. С. 35–40; ср.: Shnabel. Beross… Lpz., 1923.
Одна из наиболее известных средневековых подделок сочинений Бероза, принадлежащая доминиканскому монаху Джованни Нанни из Витербо – см.: Энциклопедический словарь / под ред. Ф. А. Брокгауза, И. А. Эфрона. Пт. 6. СПб., 1891. С. 583 (вышла в Риме в 1498 г. под названием Antiquitatum libri quinque cum commentariis Joannis Annii).
Флавий Иосиф. Древности иудейские. СПб., 1779. Ч. I. С. 14.
Цит. по: Шишкин Н. И. К вопросу о происхождении названия Москва // Исторические записки. 1947. № 24. С. 3–13.
Каганкатваци Моисей. История албан / пер. с армян. К. П. Патканова. М., 1861. Цит. по: Марр Н. Я. Избр. работы. М.; Л., 1935. С. 97.
Гаркави А. Я. Сказания еврейских писателей о хазарах. СПб., 1874. С. 41.
Там же. С. 57.
См.: Мифы народов мира. Т. 1. С. 307. К сожалению, из-за отсутствия его в российских библиотеках, нам не удалось ознакомиться с указанным в библиографии к этой статье исследованием: Myres J.L. God and the Danger from North in Ezekiel // Palestine Exploration Fund Quarterly Statement. 1932. Т. 64. Византийцы разделяли в написании библейское Ros с коротким ударением от племенного Rёs с длинным, относившимся к русским, – см.: Соловьев А.В. Византийское имя России
Dlugоssi J. Hisioria Poloniae. Т. XIII. Lipsiae, 1712. P. 4. Цит. по: Робинсон А. Н. Указ. соч. С. 103.
Там же. С. 14; ср.: Первольф И. Славяне, их взаимные отношения и связи. Варшава, 1988. Т. 2. С. 120.
Sarniсii S. Annalium polonicorum… Цит. по: Робинсон А. Н. Указ. соч. С. 104.
См.: Рогов А. И. Русско-польские культурные связи в эпоху Возрождения (Стрыйковский и его Хроника). М., 1966.
См.: Хроника Мацея Стрыйковского из Словаря книжников и книжности Древней Руси // Труды Отдела Древнерусской литературы (далее – ТОДРЛ). Л., 1985. Т. XXXIX. С. 171–173.
См.: Середонин С. М. Сочинение Джильса Флетчера On the Russe Common Wealth как исторический источник. СПб., 1891. С. 52–54. Подделка, которой пользовался Флетчер, называлась «Berosus Babilonicus historiae qui praecesserunt… Antonini Piju».
См.: Алпатов М. В. Русская историческая мысль и Западная Европа: XII–XVII вв. М., 1973. С. 304–305.
Цит. по: Робинсон А. Н. Указ. соч. С. 108.
Там же. С. 109.
Попов А. И. Обзор хронографов русской редакции. Вып. 2. М., 1869. С. 203–204.
Гиляров Ф. Предания русской начальной летописи. М., 1878. С. 12–14.
Там же. С. 25–39; ср.: Карамзин Н. М. История государства Российского. СПб., 1842. Т. 2. С. 127. Прим. 301.
Гизель Иннокентий. Синопсис. СПб., 1810. С. 10–17.
Цит. по: Робинсон А. Н. История славянского Возрождения и Паисий Хилендарский. С. 114.
Там же. С. 114.
Введение краткое во всякую историю… Амстердам, 1699. С. 44.
Димитрий Ростовский, митр. Летопись. М., 1784. С. 244.
Тредиаковский В. К. Три рассуждения о трех главнейших древностях Российских… СПб., 1758. С. 75.
Манкиев А. А. Ядро российской истории. М., 1799. С. 151.
Цит. по: Робинсон А. Н. Указ. соч. С. 111.
Грябянка Г. И. Действия предельной и от начала поляков кровавшой небывалой брани Богдана Хмельницкаго. Киев, 1854. С. 3.
Паисий Хилендарский. История славеноболгарская. София, 1961. С. 54; цит. по: Робинсон А. Н. Указ. соч. С. 100.
Там же. С. 120.
Златарски В. Н. История во кратце о болгарском народе… София, 1900. С XXVI–XXVII. Цит. по: Робинсон А. Н. Указ. соч. С. 121.
Захарьин П. Новый Синопсис. Николаев, 1798. С. 13–15.
Львов Н. Подробная летопись. СПб., 1798. С. 19–20.
Hammer M.J. de. Sur les origines Russes. СПб., 1827. P. 23–29.
Дело камергера Алексея Еленского // Чтения в Обществе истории и древностей Российских. 1867. № 4. С. 63–82.
См.: Некрасов А. А. Место первоначального обособления славянского племени. Казань, 1879.
См.: Марр Н. Я. Избр. работы. М.; Л., 1935. С. 97.
См.: Шишкин Н. И. К вопросу о происхождении названия Москва// Исторические записки. 1947. № 24. С. 3–13.
См.: Пайпс Р. Россия при старом режиме. Кембридж, Массачусетс, 1980. С. 95. В. Ш.: также см. здесь сноску № 3 на с. 1192.
Nouvelle édition de la Bible / tr. L par. Segond. Genève; Paris, 1975 (пер. с англ. Р. Scofield Reference Bible, выходившего в 1909, 1917, 1937, 1945 гг.). Р. 19, 929–930, 1480. Выражаю благодарность Алексею Казакову, впервые ознакомившему автора с этим любопытнейшим памятником русофобии.
Crоmeri М. De origine et rebus gestis polonorum. Bas., 1555. P. 14–15; цит. по: Робинсон А. Н. Указ. соч. С. 103.
Забелин И. Е. История города Москвы. М., 1905. Ч. 1. С. 27.
Ср.: Успенский Д. И. Сказания о начале Москвы
Татищев В. Н. История Российская. М., 1768. Кн. 1. Ч. I. С. 386, 70.
Ломоносов М. В. Соч. М.; Л., 1952. Т. 6. С. 13, 20.
См.: Болтин И. Критические замечания на I том Истории кн. М. Щербатова. СПб., 1793. Т. 1. С. 434
Кирпичников А. И. К литературной истории русских летописных сказаний // Известия ОРЯС. СПб., 1897. Т. 2. С. 55.
Забелин И. Е. История города Москвы. Ч. 1. С. 27.
Толковая Библия / под ред. А. П. Лопухина. Т. 1. СПб., 1911. С. 68–69; Т. 6. СПб., 1909. С. 383, 445–446, 416.
Большаков Вл. Между мифом и одержимостью // За рубежом. 1986. № 21. С. 14.
Титов А. Тимофей Каменевич-Рвовский // Библиографические записки. 1892. № 3. С. 174–178.
Цит. по: Памятники литературы Древней Руси: Конец XV – первая половина XVI в. М., 1984. С. 452.
См.: Памятники литературы Древней Руси: Конец XV – первая половина XVI в. С. 738.
См.: Гольдберг А. Л. Три послания Филофея (опыт текстологического анализа) // ТОДРЛ. Л., 1974. Т. XXIX. С. 71–79.
Цит. по: Памятники литературы Древней Руси: Конец XV – первая половина XVI в. С. 452.
См. там же. С. 738.
См.: Малинин В. Старец Елеааарова монастыря Филофей и его послания. Киев, 1901.
См. подробнее, напр.: Трубецкой Е. Религиозно-общественный идеал Западного христианства в V веке. Ч. I: Миросозерцание блаженного Августина. М., 1892. С. 216–270.
В 16-й главе Апокалипсиса находится и самый серьезный довод против идеи Третьего Рима – стих 19, который гласит: «И город великий распался на три части… чтобы дать ему чашу вина ярости гнева…».
См.: Новый Завет. Брюссель, 1964. С. 502.
Подробнее см.: Казакова Н. А., Лурье Я. С. Антифеодальные еретические движения на Руси XIV – начала XVI в. М.; Л., 1955; Клибанов А. И. Реформационные движения в России в XIV – первой половине XVI в. М., 1960.
Еврейская энциклопедия. СПб., б. г. Т. 1. С. 578.
Подробнее см.: Иосиф Волоцкий, прп. Просветитель. Казань, 1904.
Памятники литературы Древней Руси: Конец XV – первая половина XVI в. С. 736.
Краткий научно-атеистический словарь. М, 1964. С. 401.
Цит. по: Малинин В. Старец Елеазарова монастыря Филофей и его послания. С. 491.
В. Ш.: см. данное соч. в настоящем сб.
Ефимов Н. И. Русь – Новый Израиль. Казань, 1912. С. 50.
См. подробнее: Серебрянский Н. Очерки по истории монастырской жизни в Псковской земле // ЧОИДР. 1908. IV; ср. критику видений сочинителя повести о Евфросине: Памятники старинной русской литературы. СПб, 1862. Вып. 4. С. 119.
См.: Деяния Московских соборов 1666 и 1667 гг. М., 1893. 2-я паг. Л. 15.
Масленникова Н. Н. Присоединение Пскова к Русскому централизованному государству. Л., 1955. С. 162.
См.: Журнал Министерства народного просвещения. 1893. № 5. С. 97–109.
См.: Крижанич Юрий. Русское государство в половине ХVII в. М., 1859. Разд. 32. С. 89–96; Разд. 53. С. 181–185.
См.: Гольдберг А. Л. Историко-политические идеи русской книжности XVI–XVII вв.: Автореф. дисс. … д-ра истории. Л., 1978. С. 24.
См.: Памятники дипломатических сношении древней России с державами иностранными. СПб., 1871. Т. X. С. 301.
Дмитриева Р. П. Сказания о князьях Владимирских. М.; Л., 1955. С. 137; ср.: Чаев Н. С. Москва – Третий Рим в политической практике московского правительства XVI в. // Исторические записки. 1945. № 17. С. 3–23.
См.: Щапов Я. Н. О международном семинаре в Риме на тему «От Рима к “Третьему Риму”»
В. Ш.: подробнее см.: Патриарх Никон. Труды / научн. исслед., подготовка документов к изд., сост. и общ. ред. В. В. Шмидта. М., 2004. Прилож. II: Судное дело Никона, Патриарха Московского. С. 1047–1082.
В. Ш.: см. также: Шмидт В.В. Борьба за Кормчую: Государство, общество, Церковь в эпоху Патриарха Никона // Государство, религия, Церковь в России и за рубежом. 2009. № 1.
См.: Зызыкин М. В. Патриарх Никон: его государственные и канонические идеи. Варшава, 1934. Ч. 2. С. 135
Лебедев Л. Новый Иерусалим в жизни Патриарха Никона // Журнал Московской Патриархии. 1981. № 8. С. 76.
См.: Лотман Ю. М., Успенский Б. А. Отзвуки концепции «Москва – Третий Рим» в идеологии Петра Первого // Художественный язык Средневековья. М., 1982. С. 236–250.
Малинин В. Старец Елеазарова монастыря Филофей и его послания. С. 767–768.
Кириллов И. Третий Рим: Очерк исторического развития идеи русского мессианизма. М., 1914.
Повести о начале Москвы. М.; Л., 1964. С. 193.
Повести о начале Москвы. С. 174.
См.: Шмидт В. В. Поруганно-порушенная и восстанавливаемая святыня: Святого Живоносного Воскресения Христова монастырь Нового Иерусалима (наследие Патриарха Никона) // Государство, религия, Церковь в России и за рубежом. 2009. № 2 (спецвыпуск). С. 4–28; Он же. Новый Иерусалим: год 2009 // Там же. № 4. С. 55–68.
Раlmеr W. The Patriarch and the Tzar. Vol. I–VII. L., 1871–1876.
Patriarch Nikon on Church and State: Nikons Refutation. Berlin; N.Y.; Amsterdam, 1982 (see esp. p. 135–136)
Публикация наследия Патриарха Никона состоялась лишь в 2004 г. в издательстве МГУ (Патриарх Никон. Труды), в интернет-доступе – с 2009 г.: http://www.ferapontovo.ru/index.php3?id=1033 или http://religio.rags.ru/kafedra/3.php
Прошин Г. Черное воинство. М., 1985. С. 154.
Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 21. С. 495.
Варичев Е. С. Православная церковь: История и социальная сущность. М., 1982. С. 152–153.
См.: Рамм Б. Я. Папство и Русь в X–XV веках. М.; Л., 1959. С. 232–237.
См.: Парнов Е. И. Трон Люцифера. М., 1985.
Лурье Я. С. Переписка Ивана Грозного с Курбским в общественной мысли Древней Руси // Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. Л., 1979. С. 230, 247–248.
Цит. по: Трубецкой Е. Умозрение в красках. М., 1916. С. 12.
Шмидт В. В. – руководитель проекта, идея и концепция памятника; Струнин К. А. – архитектор проекта, художественное и архитектурное решение памятника; Алубаев А.В. – скульптор проекта, композиционное и скульптурное исполнение памятника.
См. раннюю публикацию: Алубаев А.В., Струнин К. А., Шмидт В. В. Патриарх Никон: историософия в памятнике // Государство, религия, Церковь в России и за рубежом. 2008. № 1–2 (42–43). С. 265–272.
По внутреннему периметру возможны дополнительные ленты с текстом, который Патриарх Никон разместил под сводами Воскресенского собора (просветительские тексты о церковных таинствах, предметах и смыслах): Сказание о церковных таинствах, яко храм или церковь мир есть, сие святое место, Божие селение и соборный дом молитвы, собрание людское. Святилище же тайны, то есть олтарь в нем же служба совершается. Трапеза же есть Иерусалим, в нем же Господь воцарися, и седе, яко на престоле, и заклан бысть нас ради. Предложение же Вифлеем есть, в нем же родися Господь. Просфора же три имать знамения. По первому убо разуму назнаменует Овча, еже нас ради на заколение приходящее, по иному же разуму наше приведение, по другому же умышлению соборному Пречистую являет Богородицу, из Нея же Агнец Божий родися. Проскомидия ж два купно праздника знаменует: рождение и заколение вкупе, сотворяемо иже начало и конец таинства изъявляет. С ними же копие, и губа и трость спасенныя страсти образы; звездица есть звезда, возвестившая волхвом великий свет; покрывала таже суть, яко на младенцы пелены и яко добродетели образование; теплота ж теплоты Духа Святаго нашествие; святаго же хлеба воздвижение, еже на небеса вознесение. Паки же и предложение во отвращение, рекше в Вифлееме устроение, яко же да отонуду начнет в немже родися, сосвященнодействовати святая таинства. Антиминси же и потире и дискоси ж сосуди честнии, с ними же жертвенное совершается. Обаче итти опасному видению Промысла и Божественное наслаждение, торжество достойных назнаменует.
